М. В. Ломоносов: Pro et contra (случай П. А. Вяземского-журналиста)
M.V. Lomonosov: Pro et Contra
(the Case of P.A. Vyazemsky as a Journalist)
Прохорова Ирина Евгеньевна
кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы и журналистики факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, [email protected]
Irina U. Prokhorova
PhD in philology, Associate Professor at the chair of Russian journalism and literature history, Faculty of Journalism, Moscow State University, [email protected]
Аннотация
В статье рассматриваются суждения о М.В. Ломоносове, высказанные П.А. Вяземским в периодике 1810–1860-х гг. и отличающиеся неизменной уважительностью к личности и творчеству «преобразователя языка», «родоначальника» российской словесности и одновременно стремлением к «здравой трезвости» в оценках. Их анализ помогает лучше понять не только реальный масштаб и в то же время сложность фигуры Ломоносова, но и отнюдь не простой путь рецепции его творчества, который нельзя сводить к созданию ломоносовского мифа.
Ключевые слова: П.А. Вяземский, критик-публицист, «ломоносовский миф», оппозиции Ломоносов-Державин, Ломоносов-Сумароков, Ломоносов-Кантемир.
Abstracts
The article analyzes the statements about M.V. Lomonosov, expressed by P.A. Vyazemsky in the periodical press during the 1810s?1860s. These thoughts are marked by great respect to the personality and works of the great ?language reformer? and the ?father? of the Russian literature and also by an aspiration to sober assessment of the situation. The analysis of these statements helps not only to realize the real scale of Lomonosov’s figure, but also underlines the complicated way of Lomonosov’s works perception, which cannot be narrowed down to the creation of Lomonosov myth.
Key words: P.A. Vyazemsky, critic and opinion journalist, ?Lomonosov myth?, opposition Lomonosov-Derjavin, Lomonosov-Sumarokov, Lomonosov-Kantemir.
Сегодня, подводя итоги уже 300-летнего юбилея М.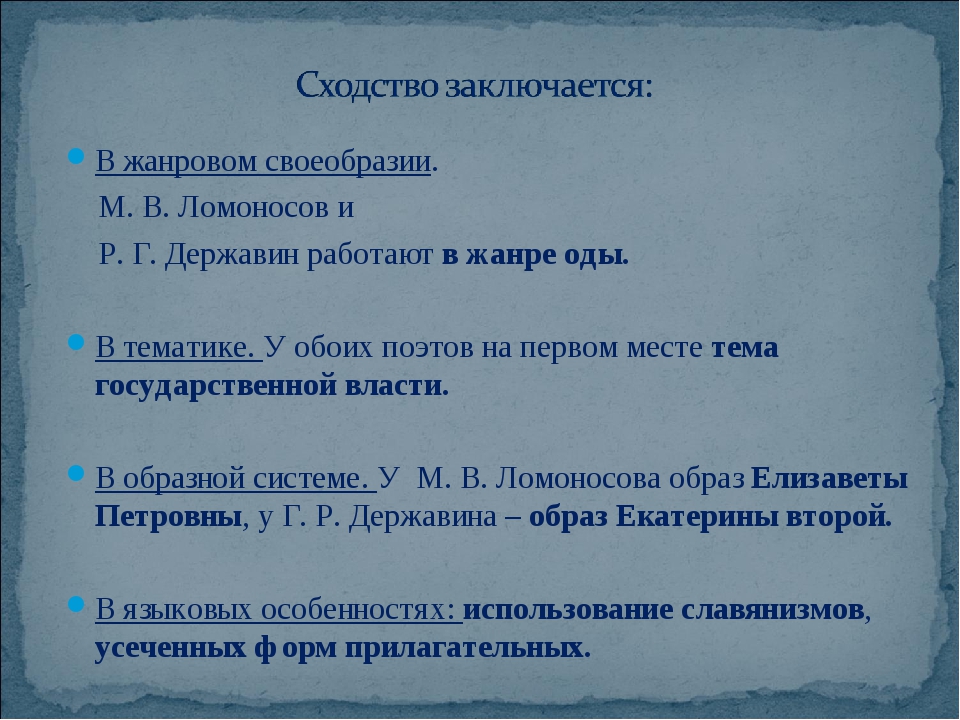 В. Ломоносова, признавая, что очень много сделано для лучшего понимания личности и творчества одного из великих зачинателей науки и культуры послепетровской России, нельзя все же не заметить недостаток в обобщающих, стереоскопических исследованиях всего комплекса довольно разноречивых высказываний о Ломоносове. Без них невозможны действительная объективность и полнота в понимании как реального масштаба и в то же время противоречивости этой фигуры, так и отнюдь не простого (не сводящегося к созданию
В. Ломоносова, признавая, что очень много сделано для лучшего понимания личности и творчества одного из великих зачинателей науки и культуры послепетровской России, нельзя все же не заметить недостаток в обобщающих, стереоскопических исследованиях всего комплекса довольно разноречивых высказываний о Ломоносове. Без них невозможны действительная объективность и полнота в понимании как реального масштаба и в то же время противоречивости этой фигуры, так и отнюдь не простого (не сводящегося к созданию
Одной из удач в привлечении внимания к актуальности такого подхода, с нашей точки зрения, стала книга «М.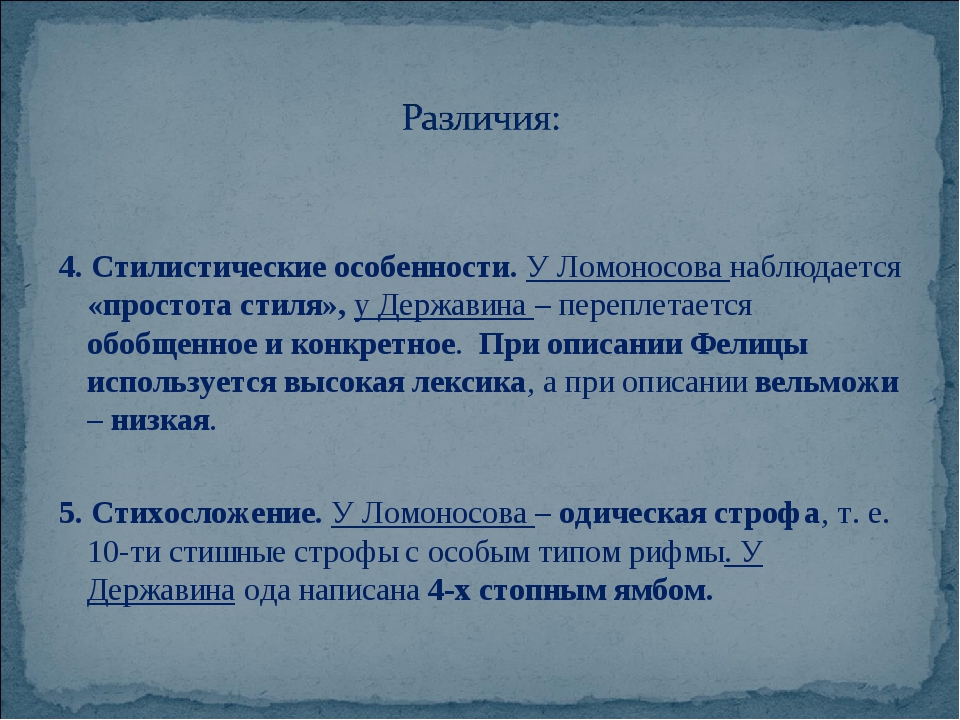 В. Ломоносов: pro et contra» (СПб, 2011) − объемная (более 1000 страниц!) антология материалов о личности и творчестве Ломоносова. Понятно, что «pro» здесь доминирует, поскольку преимущественно в таком направлении развивался «ломоносовский текст» в России. Вместе с тем в книгу включены републикации нескольких ценных, но малоизвестных сегодня даже подготовленной аудитории (тем более − широкой публике) исследований, в которых сделана попытка проанализировать разные, в том числе полемические по отношению друг к другу, отзывы о деятельности Ломоносова. Показательны статьи Ю.Х. Копелевич «Первые отклики зарубежной печати на работы Ломоносова» (первая публикация – 1961 г.) и Н.В. Соколовой «Краткий обзор английской литературы XVIII – XIX веков о М.В. Ломоносове» (первая публикация – 1977 г.). Хотя и их авторы не избежали определенной заданности в интерпретации фактов, да и рассмотрели восприятие Ломоносова лишь за рубежом и лишь в определенные исторические периоды, перспективным представляется сам принцип максимально полного аналитического обозрения.
В. Ломоносов: pro et contra» (СПб, 2011) − объемная (более 1000 страниц!) антология материалов о личности и творчестве Ломоносова. Понятно, что «pro» здесь доминирует, поскольку преимущественно в таком направлении развивался «ломоносовский текст» в России. Вместе с тем в книгу включены републикации нескольких ценных, но малоизвестных сегодня даже подготовленной аудитории (тем более − широкой публике) исследований, в которых сделана попытка проанализировать разные, в том числе полемические по отношению друг к другу, отзывы о деятельности Ломоносова. Показательны статьи Ю.Х. Копелевич «Первые отклики зарубежной печати на работы Ломоносова» (первая публикация – 1961 г.) и Н.В. Соколовой «Краткий обзор английской литературы XVIII – XIX веков о М.В. Ломоносове» (первая публикация – 1977 г.). Хотя и их авторы не избежали определенной заданности в интерпретации фактов, да и рассмотрели восприятие Ломоносова лишь за рубежом и лишь в определенные исторические периоды, перспективным представляется сам принцип максимально полного аналитического обозрения.
Последовательное его применение способно многое прояснить не только в феномене Ломоносова, даже не только в развитии отечественной науки и культуры, но и в целом в развитии российского общества. В этом отношении чрезвычайно важен анализ высказываний о Ломоносове в журналистике
Среди тех, кто был включен в процесс такой «работы» с общественным мнением на протяжении почти всей первой половины XIX века, − П.А Вяземский. Выделение нами этого критика и журналиста не случайно. Обширность познаний и глубину суждений Вяземского об истории России и русской литературе XVIII века, как и публицистический талант, позволявший доносить свои представления до читателей, воздействовать на их позицию, признавали многие его современники и позднейшие исследователи – историки и филологи. Н.В. Гоголь, например, высоко оценив монографию Вяземского о Д.И. Фонвизине2 (в ней, кстати, затрагивалась и тема о Ломоносове), именно ее автора хотел видеть историком литературы екатерининского времени 3.
Н.В. Гоголь, например, высоко оценив монографию Вяземского о Д.И. Фонвизине2 (в ней, кстати, затрагивалась и тема о Ломоносове), именно ее автора хотел видеть историком литературы екатерининского времени 3.
Правда, специальных журнальных публикаций (не говоря уж о монографиях), посвященных Ломоносову, Вяземский, насколько нам известно, не готовил. Но и его разбросанные в многочисленных периодических изданиях 1810–1860-х гг. высказывания о жизни и творчестве Ломоносова, отличающиеся трезвой вдумчивостью и яркой выразительностью, весьма интересны для анализа. Тем более что они во многом не вписываются в «ломоносовский миф», создававшийся в том числе и в периодической печати, и до сих пор не были предметом специального рассмотрения4.
Отношение Вяземского к Ломоносову начало складываться, разумеется, под влиянием репутации последнего, которая к моменту выхода Вяземского на литературно-журнальную арену уже во многом сформировалась, в частности, благодаря карамзинистам и связанной с ними печати. По праву считавший себя «питомцем» Карамзина
По праву считавший себя «питомцем» Карамзина
Поддерживавший такую репутацию Ломоносова, Вяземский одновременно стремился углубить и уточнить представления о его личности и деятельности, рассматривая их в более широком историко-культурном контексте Это проявилось и в журнальных выступлениях критика (в основном именно они рассматриваются в данной статье) и в не предназначенных им для печати «Записных книжках» и письмах.
Это проявилось и в журнальных выступлениях критика (в основном именно они рассматриваются в данной статье) и в не предназначенных им для печати «Записных книжках» и письмах.
Впервые публично Вяземский высказался о Ломоносове уже в первой значительной журнальной публикации – некрологической статье «О Державине». Она увидела свет в самом конце лета 1816 г. в петербургском «Сыне Отечества» (№ 37) и практически сразу же была перепечатана в московском «Вестнике Европы» (№ 15) – в двух ведущих и конкурировавших между собой журналах, литературно-общественные позиции которых тогда все больше расходились. Такая востребованность статьи молодого критика свидетельствовала как о значимости предмета, браться за который мало кто был готов, так и о содержательности и взвешенности оценок, максимально возможных в рамках жанра некролога, что привлекало издателей. Вяземский поставил принципиально важный и сложный (а в год смерти Г.Р. Державина и чрезвычайно злободневный) вопрос о нем как о «величайшем из поэтов» 12.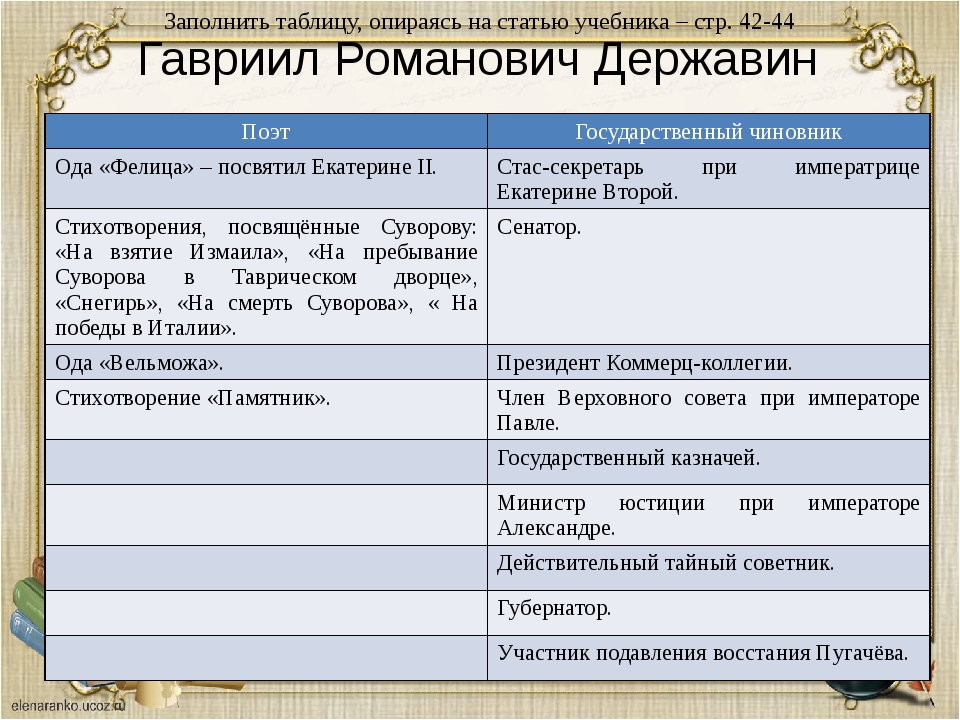 Решение этого вопроса требовало выяснения соотношения его роли и роли его предшественников, прежде всего Ломоносова, в развитии литературы.
Решение этого вопроса требовало выяснения соотношения его роли и роли его предшественников, прежде всего Ломоносова, в развитии литературы.
Отметив, что «достойный наследник лиры Ломоносова»13 именно у него «научился звучности языка пиитического и живописи поэзии»14 и что обоих объединяло обращение к жанру оды, Вяземский, по сути, впервые в русской критике сфокусировал внимание на
Вяземский настаивал на том, что названные поэты отличны и по широте, разнообразию тематики. И, хотя молодой автор не всегда безупречен в формулировании мысли, общий ее ход логичен и в целом верен. Так, номинация Ломоносова «певцом российского двора», особенно на фоне номинации Державина «певцом всех веков и всех народов», на первый взгляд, грешит несправедливостью. Однако едва ли обоснованно подозревать Вяземского в стремлении обвинить автора похвальных од в сервилизме и, соответственно, в неспособности критика оценить их просветительский пафос, назидательность в обращении к монархам. В процитированном противопоставлении Вяземский акцентировал внимание на преимуществе поэзии Державина в предметно-тематическом отношении по сравнению с «умеренностью»17 Ломоносова. И это наблюдение критика-журналиста подтверждается подсчетами авторитетного современного исследователя В.М. Живова: более половины текстов Ломоносова – «панегирическая поэзия, посвященная торжеству государства», включенная в имперско − патриотический дискурс, но практически не содержащая политических деклараций – поучений царей.
И, хотя молодой автор не всегда безупречен в формулировании мысли, общий ее ход логичен и в целом верен. Так, номинация Ломоносова «певцом российского двора», особенно на фоне номинации Державина «певцом всех веков и всех народов», на первый взгляд, грешит несправедливостью. Однако едва ли обоснованно подозревать Вяземского в стремлении обвинить автора похвальных од в сервилизме и, соответственно, в неспособности критика оценить их просветительский пафос, назидательность в обращении к монархам. В процитированном противопоставлении Вяземский акцентировал внимание на преимуществе поэзии Державина в предметно-тематическом отношении по сравнению с «умеренностью»17 Ломоносова. И это наблюдение критика-журналиста подтверждается подсчетами авторитетного современного исследователя В.М. Живова: более половины текстов Ломоносова – «панегирическая поэзия, посвященная торжеству государства», включенная в имперско − патриотический дискурс, но практически не содержащая политических деклараций – поучений царей. Из этого ученый делает вывод о выстраивании Ломоносовым поведенческой «модели придворногопоэта» и о несоответствии действительности мифу о нем как «наставнике царей»18. Как видим, созданная Вяземским номинация («певец российского двора») вполне созвучна определениям Живова, хотя в его исследовании о Вяземском не упоминается.
Из этого ученый делает вывод о выстраивании Ломоносовым поведенческой «модели придворногопоэта» и о несоответствии действительности мифу о нем как «наставнике царей»18. Как видим, созданная Вяземским номинация («певец российского двора») вполне созвучна определениям Живова, хотя в его исследовании о Вяземском не упоминается.
Что касается способности ценить гражданский потенциал оды, в том числе похвальной оды Ломоносова, то, заметим, наименование его «певцом российского двора» отнюдь не лишало Вяземского этой способности. Ведь едва ли можно предположить, что Вяземский готов был априори отказать «двору» в патриотизме, в гражданских устремлениях и деяниях, а «певцу российского двора» − в возможности их воспевать. Недаром даже в известном именно либеральной направленностью стихотворении «Петербург» (1818-1819 гг., напечатано с купюрами в «Полярной звезде» в 1824 г.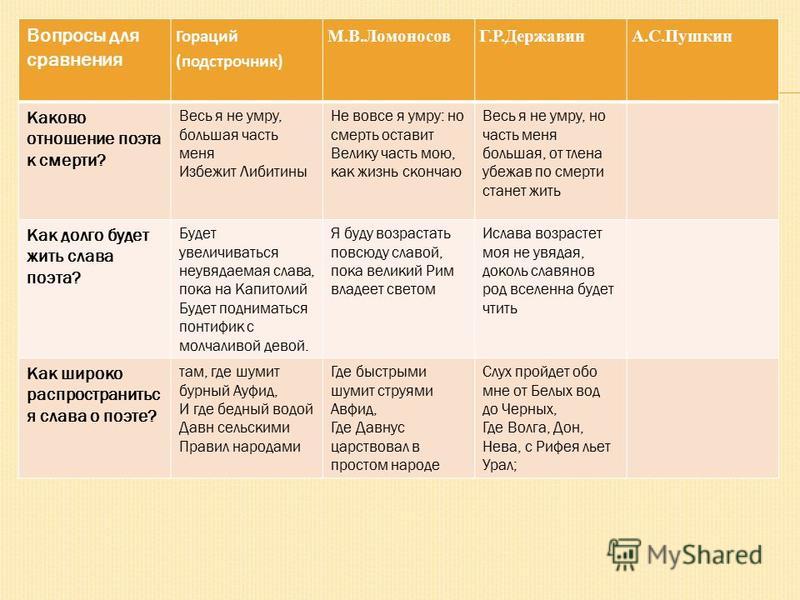 ), кстати, написанном с явным учетом одической традиции, Вяземский с восторгом отзывался о Ломоносове-одописце. Автор «Петербурга» приветствовал «друга Шувалова», который «воспел Елисавету и юных русских муз блистательный рассвет», то есть как раз патриотическую деятельность царицы и ее фаворита, а уже потом упомянул Державина, который «вослед» Ломоносову «предал свету» блестящий «Екатеринин век»19.
), кстати, написанном с явным учетом одической традиции, Вяземский с восторгом отзывался о Ломоносове-одописце. Автор «Петербурга» приветствовал «друга Шувалова», который «воспел Елисавету и юных русских муз блистательный рассвет», то есть как раз патриотическую деятельность царицы и ее фаворита, а уже потом упомянул Державина, который «вослед» Ломоносову «предал свету» блестящий «Екатеринин век»19.
Неприемлемым может показаться также упрек Вяземского в невнимательности Ломоносова к «вдохновениям» природы, хотя тональность предложения, использование вводного слова «кажется»20 говорит о желании автора смягчить оценку. Уже высказывалось мнение, что суждение Вяземского вступает в скрытую полемику с замечанием Батюшкова в «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» о таланте Ломоносова описывать «величественные и прекрасные» явления северной природы21. Но непредвзятый анализ высказываний обоих критиков, учитывающий контекст, в котором они прозвучали в названных статьях, показывает, что Вяземский не оспаривал, а, скорее, развивал мысль Батюшкова. Ведь одним из основополагающих в «Речи…» был тезис об определяющем влиянии «климата, вида неба, воды и земли» на душу и творчество поэта, необходимости для него непосредственных наблюдений. В качестве доказательства приводились «восхитительные» ломоносовские стихи о северном сиянии, которые «поэт не мог бы написать», не будь «свидетелем сего чудесного явления»22. Вяземский, как бы продолжая эту мысль Батюшкова, делал общий вывод о том, что Ломоносов смотрел на природу не «быстрым и светозарным взором поэта-живописца» (как Державин), а «медленным взглядом наблюдателя», и, следовательно, не «вся природа», а только непосредственно «наблюдаемая» могла говорить его сердцу и воображению23.
Ведь одним из основополагающих в «Речи…» был тезис об определяющем влиянии «климата, вида неба, воды и земли» на душу и творчество поэта, необходимости для него непосредственных наблюдений. В качестве доказательства приводились «восхитительные» ломоносовские стихи о северном сиянии, которые «поэт не мог бы написать», не будь «свидетелем сего чудесного явления»22. Вяземский, как бы продолжая эту мысль Батюшкова, делал общий вывод о том, что Ломоносов смотрел на природу не «быстрым и светозарным взором поэта-живописца» (как Державин), а «медленным взглядом наблюдателя», и, следовательно, не «вся природа», а только непосредственно «наблюдаемая» могла говорить его сердцу и воображению23.
В целом при анализе такого рода высказываний Вяземского о творчестве Ломоносова − в сопоставлении с достижениями Державина − следует учитывать, что в его статье-некрологе 1816 г. практически впервые осмысливалась роль двух крупнейших писателей XYIII века в истории отечественной литературы с точки зрения только зарождавшейся в России романтической критики. «Живая», свободная от «отделки холодного искусства» «пиитическая природа»24 Державина, разумеется, увлеченно интересовавшегося романтизмом, Вяземскому была гораздо ближе риторического мастерства Ломоносова в описаниях природы.
«Живая», свободная от «отделки холодного искусства» «пиитическая природа»24 Державина, разумеется, увлеченно интересовавшегося романтизмом, Вяземскому была гораздо ближе риторического мастерства Ломоносова в описаниях природы.
Вместе с тем именно в данной журнальной статье Вяземский сумел наметить контуры общей историко-литературной концепции, которая наложила отпечаток практически на всю его критическую и, шире, публицистическую стратегию. Она основывалась на объективном, избегающем апологетики, но непременном признании заслуг первопроходцев, прокладывавших путь своим «будущим победителям» − в данном случае признании «трудов и подвигов исполинских» «образователя русской поэзии»25 Ломоносова, открывшего и во многом проложившего дорогу Державину.
Участник и деятельный пропагандист творческих исканий писателей 1810−1830-х гг., Вяземский тогда неоднократно на страницах журналов и газет выступал за сохранение высокой репутации достижений предшественников как необходимого фундамента для дальнейшего движения литературы. Вяземский прямо указал на это в рецензии, приветствовавшей новаторскую романтическую поэму А.С. Пушкина «Кавказский пленник», в которой нельзя было не заметить отказ от жанрово-стилистического репертуара Ломоносова («Сын отечества». 1822. № 49). Критик подчеркивал: «Несмотря на то что пора торжественных од миновалась, польза, принесенная Ломоносовым и в одном стихотворном отношении, не утратила прав на уважение и признательность»26. Отдавать должное литературным «классикам» не означало для Вяземского 1820-х гг. поддерживать «застой» и внушать читателям «сожаления» о постепенной смене «авторитетов». Такие консервативно настроенные апологеты классической литературы в статье Вяземского остроумно названы «телохранителями писателей заслуженных, которые в самом деле достойны были бы сожаления, когда бы слава их опиралась единственно на подобных защитниках»27.
Вяземский прямо указал на это в рецензии, приветствовавшей новаторскую романтическую поэму А.С. Пушкина «Кавказский пленник», в которой нельзя было не заметить отказ от жанрово-стилистического репертуара Ломоносова («Сын отечества». 1822. № 49). Критик подчеркивал: «Несмотря на то что пора торжественных од миновалась, польза, принесенная Ломоносовым и в одном стихотворном отношении, не утратила прав на уважение и признательность»26. Отдавать должное литературным «классикам» не означало для Вяземского 1820-х гг. поддерживать «застой» и внушать читателям «сожаления» о постепенной смене «авторитетов». Такие консервативно настроенные апологеты классической литературы в статье Вяземского остроумно названы «телохранителями писателей заслуженных, которые в самом деле достойны были бы сожаления, когда бы слава их опиралась единственно на подобных защитниках»27.
Почти одновременно с рецензией на «Кавказского пленника» Вяземский продолжал работать над предисловием к собранию сочинений И. И. Дмитриева («Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева». 1821−1823 гг.), в котором также отразилась довольно сложная система координат в оценках деятельности Ломоносова. С одной стороны, здесь оценено значение поэтического языка Ломоносова для современной литературы, а также для общества, причем достаточно жестко: «в некотором отношении <…> уже мертвый язык»28. С другой – в довольно большом фрагменте статьи, поставив вопрос о необходимости развития жанра биографии в России, автор декларировал мысль о заинтересованности общества в хорошо написанной истории жизни Ломоносова. Вяземский высказал неудовлетворенность практически единственным на тот момент «скудным» жизнеописанием Ломоносова, сопровождавшим давнее (1784−1787 гг.) академическое издание его сочинений. Критик справедливо считал, что жизнь «преобразователя языка, поэта и ученого соревнователя первейших лириков и Франклина в Петербурге, едва только возникающем к просвещению», может и должна стать «богатым предметом для философа, поэта, историка, которые найдут в нем и поучительность истины строгой и всю чудесность романических вымыслов»29.
И. Дмитриева («Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева». 1821−1823 гг.), в котором также отразилась довольно сложная система координат в оценках деятельности Ломоносова. С одной стороны, здесь оценено значение поэтического языка Ломоносова для современной литературы, а также для общества, причем достаточно жестко: «в некотором отношении <…> уже мертвый язык»28. С другой – в довольно большом фрагменте статьи, поставив вопрос о необходимости развития жанра биографии в России, автор декларировал мысль о заинтересованности общества в хорошо написанной истории жизни Ломоносова. Вяземский высказал неудовлетворенность практически единственным на тот момент «скудным» жизнеописанием Ломоносова, сопровождавшим давнее (1784−1787 гг.) академическое издание его сочинений. Критик справедливо считал, что жизнь «преобразователя языка, поэта и ученого соревнователя первейших лириков и Франклина в Петербурге, едва только возникающем к просвещению», может и должна стать «богатым предметом для философа, поэта, историка, которые найдут в нем и поучительность истины строгой и всю чудесность романических вымыслов»29. Вполне вероятно, что в процитированных словах Вяземского отозвались подобные размышления Батюшкова в статье «О характере Ломоносова» («Вестник Европы». 1816. № 17-18). Правда, о самой этой статье, в которой, кстати, отчасти реализовано желание Батюшкова стать биографом этого «великого человека»30, Вяземский даже не упомянул.
Вполне вероятно, что в процитированных словах Вяземского отозвались подобные размышления Батюшкова в статье «О характере Ломоносова» («Вестник Европы». 1816. № 17-18). Правда, о самой этой статье, в которой, кстати, отчасти реализовано желание Батюшкова стать биографом этого «великого человека»30, Вяземский даже не упомянул.
Стремясь к точности в оценках языковых и литературных явлений и соответственно к рассмотрению их в историческом развитии (насколько это вообще было доступно критике 1820-х гг.), Вяземский небезосновательно утверждал, что поэзия Ломоносова «несколько чопорная и официальная» и в этих качествах отражает свою эпоху. Ведущий критик «Московского телеграфа» в 1827 г. в статье «Сонеты Мицкевича» (ч. 14. отд. 1) признавал, что оды Ломоносова «были бы ныне фальшивыми звуками[выделено мною. – И.П.]»31, наряду со многими другими славными литературными явлениями прошлого. Вместе с тем, как ни парадоксально это может показаться на первый взгляд, Вяземский считал, что именно благодаря своей укорененности в истории подобные сочинения имеют для последующих поколений значение не только архивного раритета. Они ценныкак «календари нравственного мира» прошедших лет для «узнавания времени, на которое они были изданы»32.
Они ценныкак «календари нравственного мира» прошедших лет для «узнавания времени, на которое они были изданы»32.
Не менее важно для Вяземского и то, что истинные художественные (пусть их немного) достоинства хороших писателей не затмятся никогда и знакомство с ними полезно, в первую очередь, для начинающих сочинителей. В «Отрывке из письма к А.И. Готовцевой», увидевшем свет в альманахе «Денница» за 1830 г., Вяземский советовал адресатке, а соответственно, и всей аудитории издания не просто почитать имя, но и изучать наследие Ломоносова и других крупнейших авторов прошлого. Причем критик уточнял, что внимание к произведениям классиков, в том числе Ломоносова, вовсе не предполагает возведение их в ранг образцовых, служащих обязательным «примером для слога, правильности и красивости оборотов». Серьезное их изучение должно было способствовать обогащению сведений молодых писателей о русском языке в его «постепенных изменениях», чтобы те получили «понятие о нем обдуманное, многостороннее»33.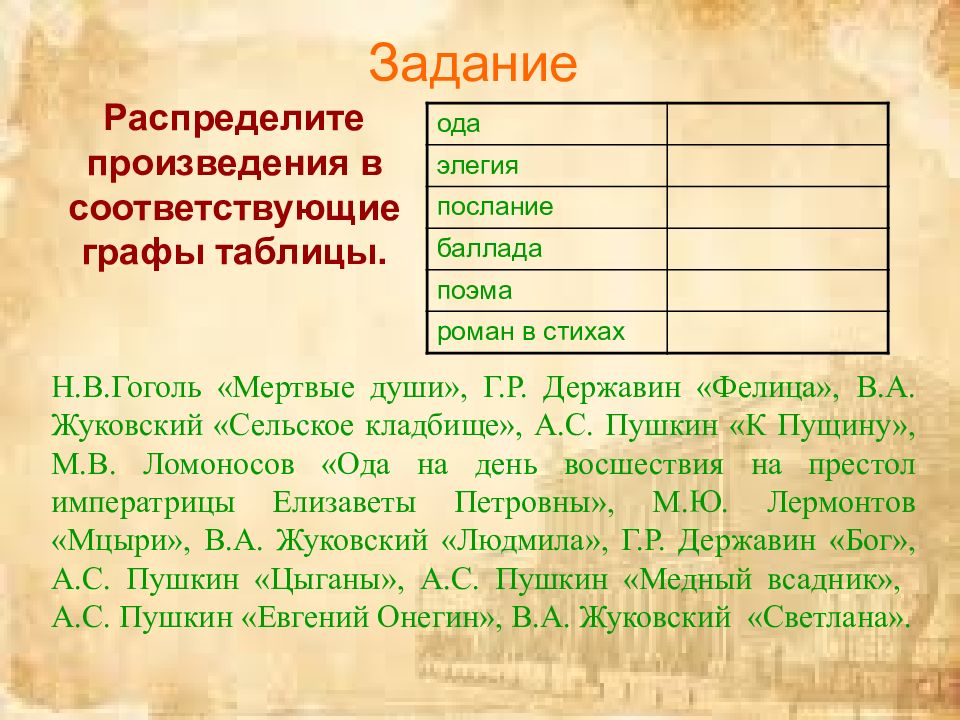
Особую актуальность предостережения от «разрыва с прошедшим»34, опасного для отечественной культуры, российского общества в целом, по мнению Вяземского, приобрели в 1860-е гг., когда в литературе усилилась тенденция к низвержению «наших старых авторитетов»35. Публицист, в отличие от некоторых своих коллег (прежде всего из славянофильской «партии»), не был склонен видеть истоки этих процессов в «крутом переломе, совершенном рукою Петра»36. Ведь, по замечанию Вяземского в статье «Стихотворения Карамзина», опубликованной в журнале «Беседы в Обществе любителей русской словесности» (1867. Кн. 1), «теперь» не знают и «Ломоносова и писателей, за ним последовавших», то есть «истинных сынов петровской реформы». Вина за беспамятство «нового поколения» возлагалась им не на царя-реформатора и на «литературные законные власти, а, скорее, на Тушинских литературных самозванцев»37 − так иронически он называл главенствовавших тогда в общественном мнении критиков демократического лагеря.
Как показывает анализ, в 1820−1830-х гг. для суждений Вяземского о начальном периоде послепетровской русской литературы весьма характерен был сопоставительный подход, выстраивание своеобразных «парных портретов», одним из героев которых выступал Ломоносов. Это проявилось в осмыслении им не только рассмотренной выше оппозиции Ломоносов-Державин, но и в довольно оригинальной разработке сравнительных характеристик Ломоносова и его «более или менее совместников»38 по литературе XVIII века − А.Д. Кантемира, В.К. Тредьяковского, А.П. Сумарокова.
Противопоставление Ломоносов-Кантемир стало предметом специальных размышлений в одном из фрагментов рецензии Вяземского на «Сочинения В. Жуковского в прозе», вышедшей в журнале «Московский телеграф» (1826. № 23) в очень тяжелое для прогрессивно настроенной России время – после подавления декабристского восстания. Откликаясь на переиздание ставшей уже классической статьи Жуковского о сатирах Кантемира, Вяземский исходил из положения об определяющем воздействии на национальную историю и литературу тех писателей, которые стояли у ее истоков.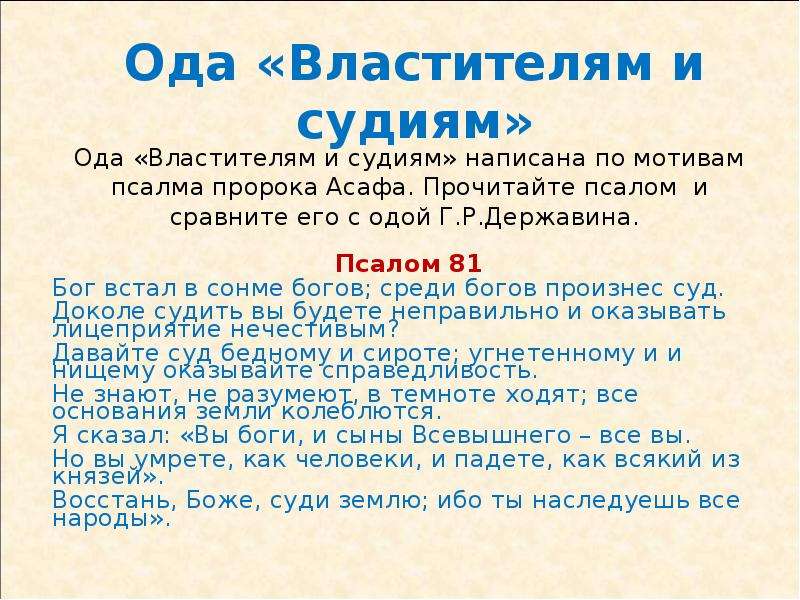 Он высказал сожаление, что в России такое влияние имел Ломоносов, а не Кантемир, с его острыми в социально-критическом отношении сатирами. Спустя 10 лет после номинации Ломоносова «певцом российского двора» в новой политической ситуации, в оппозиционном (насколько это вообще тогда было возможно) «Московском телеграфе» Вяземский посчитал нужным усилить критику «умеренности» этого писателя, заявив, что в избранном «роде сочинений» − оде – он вообще действовал «только в чисто литературном, а не гражданском смысле»39. Вяземский готов был предположить, что, будь у Кантемира «воля исполинская Ломоносова, круто поворотившего наш стихотворный язык», автор сатир сделал бы неизмеримо больше одописца, поскольку одной рукой бы «изгонялись погрешности из языка и предрассудки из общества»40. Это остроумное, хотя спорное с исторической и теоретической точки зрения заявление критика-публициста «Московского телеграфа» спровоцировало тогда дискуссию: критик-эстетик С.
Он высказал сожаление, что в России такое влияние имел Ломоносов, а не Кантемир, с его острыми в социально-критическом отношении сатирами. Спустя 10 лет после номинации Ломоносова «певцом российского двора» в новой политической ситуации, в оппозиционном (насколько это вообще тогда было возможно) «Московском телеграфе» Вяземский посчитал нужным усилить критику «умеренности» этого писателя, заявив, что в избранном «роде сочинений» − оде – он вообще действовал «только в чисто литературном, а не гражданском смысле»39. Вяземский готов был предположить, что, будь у Кантемира «воля исполинская Ломоносова, круто поворотившего наш стихотворный язык», автор сатир сделал бы неизмеримо больше одописца, поскольку одной рукой бы «изгонялись погрешности из языка и предрассудки из общества»40. Это остроумное, хотя спорное с исторической и теоретической точки зрения заявление критика-публициста «Московского телеграфа» спровоцировало тогда дискуссию: критик-эстетик С. П. Шевырев ответил «Замечаниями на замечание к. Вяземского о начале русской поэзии» в литературно-научном журнале «Московский вестник» (1827. № 3). А позднее рассуждение Вяземского о роли Ломоносова и Кантемира и соответственно о двух линиях в развитии отечественной словесности отозвалось в историко-литературных построениях В.Г. Белинского в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» («Современник». 1848. Т. VII).
П. Шевырев ответил «Замечаниями на замечание к. Вяземского о начале русской поэзии» в литературно-научном журнале «Московский вестник» (1827. № 3). А позднее рассуждение Вяземского о роли Ломоносова и Кантемира и соответственно о двух линиях в развитии отечественной словесности отозвалось в историко-литературных построениях В.Г. Белинского в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» («Современник». 1848. Т. VII).
В журналистской деятельности самого Вяземского сопоставительные характеристики Ломоносова и его ближайших современников, находившихся с ним в весьма напряженных отношениях, Тредьяковского и Сумарокова, получили развитие в статьях в «Литературной газете» весной 1830 г. − «О духе партий; о литературной аристократии» (№ 23) и «О Сумарокове» (№ 28). Трактовка критиком противостояния Ломоносов-Тредьяковский как вариант извечного противостояния«двух главных партий» − «литераторов с талантом» и«литераторов бесталанных» − мастерски вписывалась им в злободневную для 1830-х гг. полемику «аристократии дарований», от имени которой выступала «Литературная газета», против «литературной промышленности»41 и газеты Ф.В. Булгарина «Северная пчела».
полемику «аристократии дарований», от имени которой выступала «Литературная газета», против «литературной промышленности»41 и газеты Ф.В. Булгарина «Северная пчела».
Очевидно, что здесь Вяземский пытался апеллировать к «общему мнению», используя распространенные тогда среди читающей российской публики мифологизированные представления о смысле «вражды» Ломоносова и Тредьяковского42. В рамках таких мифологизированных представлений о виднейших деятелях литературы прошлого века дана в рассматриваемой статье «О духе партий; о литературной аристократии» и интерпретация Вяземским «распри» Ломоносова и Сумарокова. Последний однозначно охарактеризован критиком как «раздражительное дитя» и «грамматический старовер», который «мог и не постигать высоты соперника своего», и «ненавидеть» в нем «преобразователя языка»43.
Иную стратегию выбрал Вяземский в статье «О Сумарокове». В ней автор дал возможность читателям «Литературной газеты» одними из первых познакомиться с документальными свидетельствами о драматических взаимоотношениях известнейших писателей XVIII века из только что опубликованных тогда бумаг Сумарокова, включая его жалобы и нападки на Ломоносова, и увидеть последнего глазами его противника, причем отнюдь не бездарного в своей язвительности.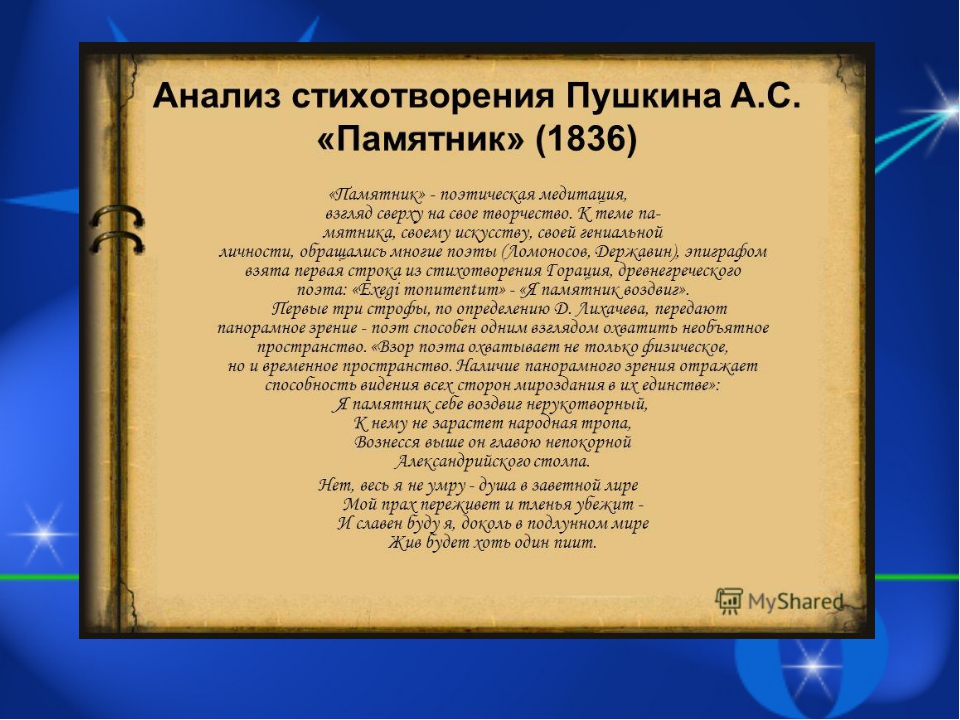
В финале рассматриваемой статьи внимание аудитории и вовсе обращалось на преимущества Сумарокова перед Ломоносовым в вопросе, всегда волновавшем Вяземского, − «творческий человек и общественный быт». «Писатель-боец», «действующее и запальчивое лицо в явлениях общественной жизни, памфлетами, эпиграммами, изустными колкостями», Сумароков явно импонировал Вяземскому-публицисту. В отличие от Ломоносова, который «со своими одами царствовал на Олимпе <…>, в кабинете учеными трудами своими был он равно вдалеке от текущей жизни и почти вне ее»44. Неоднократно высказывавшийся тогда в пользу «памфлетной» литературы и позиционировавший себя «памфлетером»45, Вяземский несколько преувеличивает и заслуги Сумарокова, и недостатки Ломоносова. Но определенный резон в предпочтениях Вяземского, как и при сравнении им Кантемира и Ломоносова, конечно, был.
Постепенно, однако, сопоставительные интенции в размышлениях Вяземского о «краеугольных, заглавных, родоначальных именах» в отечественной поэзии затухали. В процитированной статье «Языков − Гоголь» («Санкт-Петербургские ведомости». 1847. Апр., 24-25) проводилась мысль о самоценности наследия каждого из классиков, но лишь тех, чьи имена характеризовали одну из трех выделенных критиком литературных эпох. Причем первую из них олицетворяли Ломоносов, Петров, Державин46. Так в восприятии Вяземского в середине ХIХ века Кантемир, Тредьяковский и Сумароков утратили свое положение рядом (пусть и в рамках соответствующих «оппозиций») с Ломоносовым-поэтом, сам же он сохранил и даже отчасти укрепил свои позиции, встав на равных с Державиным, но все же не выше «величайшего из поэтов», как последний был назван в статье 1816 г.
В процитированной статье «Языков − Гоголь» («Санкт-Петербургские ведомости». 1847. Апр., 24-25) проводилась мысль о самоценности наследия каждого из классиков, но лишь тех, чьи имена характеризовали одну из трех выделенных критиком литературных эпох. Причем первую из них олицетворяли Ломоносов, Петров, Державин46. Так в восприятии Вяземского в середине ХIХ века Кантемир, Тредьяковский и Сумароков утратили свое положение рядом (пусть и в рамках соответствующих «оппозиций») с Ломоносовым-поэтом, сам же он сохранил и даже отчасти укрепил свои позиции, встав на равных с Державиным, но все же не выше «величайшего из поэтов», как последний был назван в статье 1816 г.
Итак, акценты в отношении Вяземского к Ломоносову в разные годы менялись. Неизменным оставались уважительность и одновременно стремление, по выражению Вяземского, к «здравой трезвости». Недаром он не принял восторженность К.С. Аксакова в диссертации о Ломоносове. Осмысливая литературно-языковую деятельность Ломоносова в журнальных или газетных статьях, причем отнюдь не специально посвященных этому «преобразователю языка» и «образователю русской поэзии», критик, как правило, довольно точно оценивал его место и роль в истории русской литературы и, шире, культуры. Разумеется, далеко не со всеми прямо заявленными или подразумеваемыми тезисами Вяземского можно безусловно согласиться, как, например, с его равнодушием к Ломоносову как к автору разнообразных прозаических и в том числе научных сочинений или некоторыми преувеличениями при сравнительном анализе творчества Ломоносова и других литераторов XVIII века. Но в совокупности рассмотренные нами высказывания Вяземского достаточно верно отражают неоднозначность восприятия личности и деятельности Ломоносова определенной и, видимо, не столь уж малой частью читающей и мыслящей России первой половины XIX века.
Разумеется, далеко не со всеми прямо заявленными или подразумеваемыми тезисами Вяземского можно безусловно согласиться, как, например, с его равнодушием к Ломоносову как к автору разнообразных прозаических и в том числе научных сочинений или некоторыми преувеличениями при сравнительном анализе творчества Ломоносова и других литераторов XVIII века. Но в совокупности рассмотренные нами высказывания Вяземского достаточно верно отражают неоднозначность восприятия личности и деятельности Ломоносова определенной и, видимо, не столь уж малой частью читающей и мыслящей России первой половины XIX века.
- См. об этом, напр.: Живов В. Первые русские литературные биографии как социальное явление: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков // Новое литературное обозрение. 1997. № 25. С. 24–83; Абрамзон Т. «Ломоносовский текст» русской культуры: Избранные страницы. М., 2011.Книга Вяземского была написана в основном в 1830 г., но до1848 г., когда автор решился ее издать, в периодике публиковались лишь отрывки из нее.
 Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.-Л., 1952. Т. VIII. С. 389.Следует заметить, что если журнально-газетные тексты Вяземского о Ломоносове в совокупности не становились предметом специального исследования, то его пометам на Ломоносовском собрании сочинений посвящена статья В.И. Коровина («Новое литературное обозрение». 1993. № 3. С. 181−193).Вяземский П.А. Записные книжки (1813−1848). М., 1963. С. 20.Карамзин Н.М. Избр. статьи и письма. М., 1982. С. 71-72.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 111, 105.Московский Меркурий. 1803. Ч. 4. С. 160, 162, 181.Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 9.Там же. С. 47.Там же. Впрочем, мотив «Ломоносов и Петр I как создатели – преобразователи» возник еще в стихах А.П. Шувалова «на смерть» Ломоносова (см. об этом подробнее: Живов В. Указ. соч. С. 41, 72)Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 11.Там же. Любопытно, что в следующем за содержавшим некролог Державину номере «Вестника Европы» появилась специальная статья К.
Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.-Л., 1952. Т. VIII. С. 389.Следует заметить, что если журнально-газетные тексты Вяземского о Ломоносове в совокупности не становились предметом специального исследования, то его пометам на Ломоносовском собрании сочинений посвящена статья В.И. Коровина («Новое литературное обозрение». 1993. № 3. С. 181−193).Вяземский П.А. Записные книжки (1813−1848). М., 1963. С. 20.Карамзин Н.М. Избр. статьи и письма. М., 1982. С. 71-72.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 111, 105.Московский Меркурий. 1803. Ч. 4. С. 160, 162, 181.Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 9.Там же. С. 47.Там же. Впрочем, мотив «Ломоносов и Петр I как создатели – преобразователи» возник еще в стихах А.П. Шувалова «на смерть» Ломоносова (см. об этом подробнее: Живов В. Указ. соч. С. 41, 72)Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 11.Там же. Любопытно, что в следующем за содержавшим некролог Державину номере «Вестника Европы» появилась специальная статья К. Н. Батюшкова «О характере Ломоносова» (1816, № 17-18), подготовленная, очевидно, до знакомства автора с рассуждениями Вяземского о преемственной линии Ломоносов−Державин и вообще не касавшаяся этой темы (Батюшков К.Н. Указ. соч. С. 29−33).Вяземский П.А. Указ. соч. Т. 2. С. 8.Там же. С. 10.Там же. Кстати заметим, что и Мерзляков в названном рассуждении тоже прибегал к образным параллелям: Ломоносов, «раб своего предмета», уподоблялся «величественной реке», а Державин, который «управляет им [предметом. – И.П.] по своей воле», – «водопаду <…> всегда свободному» (Мерзляков А.Ф. Рассуждение… // Литературная критика 1800− 1820-х годов. М., 1980. С. 126)Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 11.Живов В. Указ. соч. С. 51-52.Там же. Т. 1. С. 87.Там же. Т. 2. С. 11.Батюшков К.Н. Указ. соч. С. 27-28.Там же. С. 28.Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 11.Там же.Там же.Там же. С. 45. Вообще о потере одой своего места в жанровых предпочтениях публики тогда писали многие, а одним из первых стал, очевидно, Мерзляков в статье «Россияда…» 1815 г.
Н. Батюшкова «О характере Ломоносова» (1816, № 17-18), подготовленная, очевидно, до знакомства автора с рассуждениями Вяземского о преемственной линии Ломоносов−Державин и вообще не касавшаяся этой темы (Батюшков К.Н. Указ. соч. С. 29−33).Вяземский П.А. Указ. соч. Т. 2. С. 8.Там же. С. 10.Там же. Кстати заметим, что и Мерзляков в названном рассуждении тоже прибегал к образным параллелям: Ломоносов, «раб своего предмета», уподоблялся «величественной реке», а Державин, который «управляет им [предметом. – И.П.] по своей воле», – «водопаду <…> всегда свободному» (Мерзляков А.Ф. Рассуждение… // Литературная критика 1800− 1820-х годов. М., 1980. С. 126)Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 11.Живов В. Указ. соч. С. 51-52.Там же. Т. 1. С. 87.Там же. Т. 2. С. 11.Батюшков К.Н. Указ. соч. С. 27-28.Там же. С. 28.Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 11.Там же.Там же.Там же. С. 45. Вообще о потере одой своего места в жанровых предпочтениях публики тогда писали многие, а одним из первых стал, очевидно, Мерзляков в статье «Россияда…» 1815 г. Но он, критик с классицистическими привязанностями, в отличие от Вяземского воспринимал это не как историческую закономерность, а как «ошибку» аудитории при недостаточности усилий журналистов и ученых в пропаганде оды, да и классики вообще («Литературная критика 1800−1820-х годов». М., 1980. С. 173).Вяземский П.А.. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 45.Там же. С. 59.Там же. С. 56.Батюшков К.Н. Указ. соч. С. 29. Интересно, что Батюшков писал Н.И. Гнедичу о задаче «начертать жизнь Ломоносова» 7 ноября 1811 года, т.е. буквально накануне его 100-летия.Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 126.Там же. С. 127.Там же. С.132. В то же время сам Вяземский, судя по его «Записным книжкам», готов был использовать сочинения Ломоносова и как источник отдельных «счастливых выражений». Наверное, самое запоминающееся из них – «пугливые невежды» − было обнаружено внимательным читателем Ломоносова в поэме «Петр Великий» (Вяземский П.А. Записные книжки… С.
Но он, критик с классицистическими привязанностями, в отличие от Вяземского воспринимал это не как историческую закономерность, а как «ошибку» аудитории при недостаточности усилий журналистов и ученых в пропаганде оды, да и классики вообще («Литературная критика 1800−1820-х годов». М., 1980. С. 173).Вяземский П.А.. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 45.Там же. С. 59.Там же. С. 56.Батюшков К.Н. Указ. соч. С. 29. Интересно, что Батюшков писал Н.И. Гнедичу о задаче «начертать жизнь Ломоносова» 7 ноября 1811 года, т.е. буквально накануне его 100-летия.Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 126.Там же. С. 127.Там же. С.132. В то же время сам Вяземский, судя по его «Записным книжкам», готов был использовать сочинения Ломоносова и как источник отдельных «счастливых выражений». Наверное, самое запоминающееся из них – «пугливые невежды» − было обнаружено внимательным читателем Ломоносова в поэме «Петр Великий» (Вяземский П.А. Записные книжки… С. 30).Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 226.Там же. С. 227.Там же.Там же.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. С. 110.Вяземский П.А. Полн. собр. соч.: в 12 т. СПб, 1878. Т. 1. С.264−266 .Там же.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. С. 110 [курсив в цитате. – П.А. Вяземского].См. о «мифе Тредьяковского» также: Живов В. Указ. соч. С. 28–40.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. С. 111.Там же. С. 118.Об этом подробнее см. в статье: Прохорова И.Е. «Памфлетер» П.А. Вяземский: особенности личности и своеобразие стиля // Проблемы функционирования языка в разных сферах речевой коммуникации. Пермь, 2005. С.336−341.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. С. 163.
30).Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 226.Там же. С. 227.Там же.Там же.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. С. 110.Вяземский П.А. Полн. собр. соч.: в 12 т. СПб, 1878. Т. 1. С.264−266 .Там же.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. С. 110 [курсив в цитате. – П.А. Вяземского].См. о «мифе Тредьяковского» также: Живов В. Указ. соч. С. 28–40.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. С. 111.Там же. С. 118.Об этом подробнее см. в статье: Прохорова И.Е. «Памфлетер» П.А. Вяземский: особенности личности и своеобразие стиля // Проблемы функционирования языка в разных сферах речевой коммуникации. Пермь, 2005. С.336−341.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. С. 163.
|
ДЕРЖАВИН И ЖУКОВСКИЙ: ТАТЬЯНА ФРАЙМАН
В историко-литературных исследованиях, посвященных проблемам творческой преемственности, наиболее распространено однонаправленное изучение наследования от «старших» к «младшим».
В настоящей статье мы продолжим рассмотрение творческих отношений Державина и Жуковского с позиции, противоположной описанной выше. Нас будет интересовать прежде всего возможность «обратного» наследования от младшего поэта к старшему. Как мы пытались показать, Державин действительно воспользовался поэтическими открытиями Жуковского в «Вечере», применил их в своих поздних стихах, модифицировав и заявив тем самым о своей полемической по отношению к литературной молодежи позиции. Примером такого полемического освоения опыта Жуковского является послание «Евгению. Жизнь Званская» (подробнее об этом см.
История творческих отношений Державина и Жуковского не исчерпывается эпизодом с «Жизнью Званской». Она начинается с юности Жуковского и переплетается с историей личных контактов двух поэтов. Прежде, чем сосредоточиться на интересующем нас моменте, очертим эту историю в целом.
В пансионе Жуковский усердно подражает поэтическим образцам, в том числе и державинским (например, в одном из ранних стихотворений «Человек»). В 1799 г. вместе с С. Родзянкой он переводит оду «Бог» на французский и с почтительным письмом отправляет автору. Державин откликается четверостишием, в котором рекомендует молодым поэтам следовать «Пиндару русскому, Гомеру» Ломоносову.
Эта выходка стоила мне, однако ж, дорого: меня обнесли винегретом, любимым моим кушаньем [Жуковский в воспоминаниях: 115116].
В 1809 г. Жуковский начинает готовить «Собрание русских стихотворений, взятых из лучших стихотворцев российских
». По предварительной договоренности с Державиным он включает в сборник и ряд его сочинений. Однако после выхода первого выпуска собрания (в 1810-м г.) маститый поэт пишет чрезвычайно раздраженные письма А.
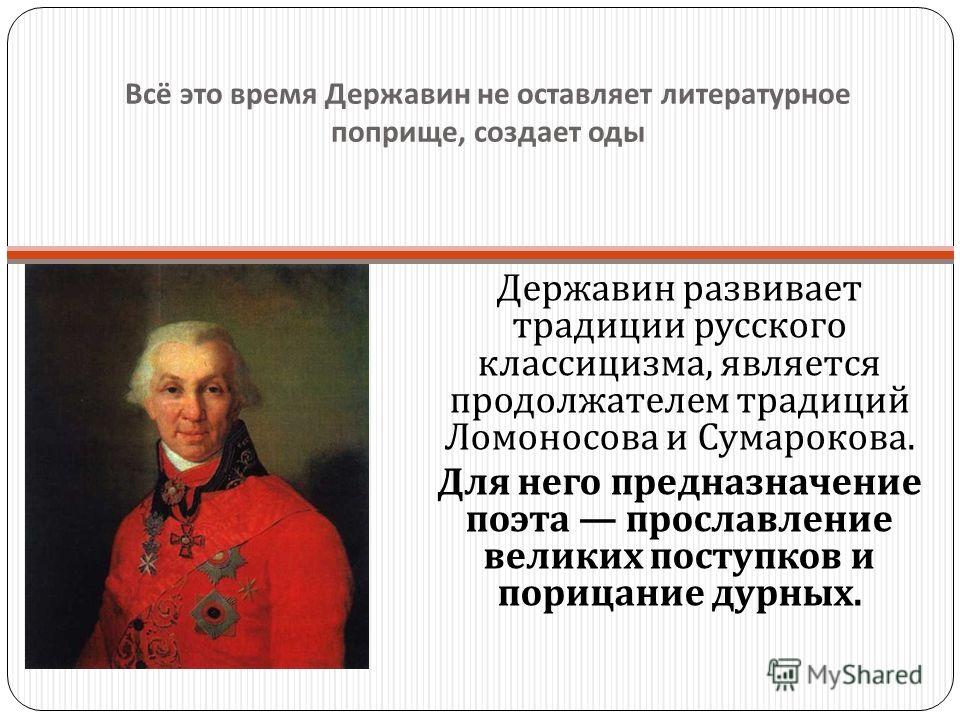 Искусство бессильно; оно никогда не поспеет за гением. Искусство бессильно; оно никогда не поспеет за гением.
Такова биографическая канва отношений двух поэтов, которую вряд ли можно существенно расширить или принципиально уточнить. Совсем иначе обстоит дело, если мы обращаемся к творческим взаимоотношениям Державина и Жуковского. Хорошо известно державинское четверостишие, в котором объявлена передача лиры младшему поэту:
Я ветху лиру отдаю. А я над бездной гроба скользкой Уж, преклоня чело, стою.
Согласно примечанию Я. Грота, этот текст сохранился в черновиках Державина. Но датировка его остается не вполне ясной: Грот отмечает только, что четверостишие «позднейшее» относительно эпиграммы на Жуковского (1811), более точного определения комментатор не дает2. Эта датировка до сих пор является самой распространенной, хотя существует и другая: четверостишие написано на обороте рукописи с авторской датировкой 1808.
Эпизод с вручением «ветхой лиры» интересен не сам по себе, а лишь как симптом общей неясности в картине отношений двух поэтов. На отсутствие исследований о творческих принципах позднего Державина в их соотношении с поэтикой «школы гармонической точности» мы уже указывали. Вопрос о рефлексах державинской лирики в поэзии Жуковского не был предметом глубокого исследования (существующие ограничились констатацией некоторых «одических» элементов в ранних элегиях Жуковского; см., напр., [Серман: 99100], [Западов: 224225]). Признанные исследователями случаи поэтического диалога между Державиным и Жуковским немногочисленны это «ответ» Державина в «Жизни Званской» на элегию Жуковского «Вечер» и попытка создания патриотической поэмы в ответ на «Певца во стане русских воинов». О первом эпизоде нам уже приходилось писать (см. [Фрайман 2004: 5968]). Второй, как нам кажется, практически не разработан и нуждается в подробном описании. В ходе переписки с Державиным по поводу издания «Собрания русских стихотворений » А. И. Тургенев заметил:
Последнее утверждение Тургенева совершенно справедливо: Державин действительно внимательно следил за новой литературой, читал вновь выходящие сочинения, выписывал журналы. Об «истинном таланте» Жуковского он узнал, в частности, из «Вестника Европы», где молодой поэт печатался постоянно со времени публикации «Сельского кладбища» и где был впервые опубликован его «Вечер» (февраль 1807). Внимание к молодому таланту, видимо, поддерживалось внятной для Державина близостью некоторых черт поэтики «Вечера» к его собственным поэтическим приемам. Пейзажные описания в элегии 1806 г., особенно в части колористических деталей следствие державинского воздействия, что было отмечено И. З. Серманом:
Восточных облаков хребты воспламенились; Осыпан искрами во тьме журчащий ключ; В реке дубравы отразились. Эти пейзажи, освещенные то закатным солнцем, то восходящей луной, этот «колеблющийся град», этот зыблющийся блеск луны написаны, говоря образно, красками с державинской пейзажной палитры ([Серман: 100]; курсив автора). Но именно эта относительная схожесть при очевидном расхождении творческих установок и обусловливала, по нашему мнению, полемическое восприятие Державиным достижений Жуковского.
Ю. Н.
Нужно было хоть кому-нибудь передать и стихи, свой гений < >. Поэтому он и сердился на Жуковского Жуковский мог бы ему наследовать [Тынянов: 368369]. Верность тыняновского описания можно доказать на материале лирики Державина начала 1810-х гг.
В это время отношение Державина к Жуковскому осложняется, что мы можем видеть в письме Державина 1813 г.
Сдержанность его объясняется успехом гимна Жуковского. А самого Державина одолевало поэтическое бесплодие, тематизированное в «Гимне лиро-эпическом на прогнание французов из Отечества» (опубликован в октябре 1813):
Холодна старость дух, у лиры глас отъемлет, Екатерины муза дремлет: То юного царя < > достойно петь Я не могу; младым певцам греметь Мои вверяю ветхи струны, Да черплют с них в свои сердца перуны Толь чистых, ревностных огней, Как пел я трех царей. 
Заключительный фрагмент державинского гимна чрезвычайно близок к посвященному Жуковскому четверостишию («ветха лира» здесь распадается на «лиру» и «ветхи струны», повторяется тема угасания вдохновения в преддверии гроба). Таким образом, «Гимн лиро-эпический» становится еще одной попыткой завещания и «передачи лиры» (с более широкой адресацией «младым певцам»). И одновременно он задумывается как финальное произведение, chef dœuvre, последнее доказательство поэтического превосходства. Державин, сочиняя поэму о 12-м годе, по нашему предположению, пытался закрепить свой статус в литературе и придать «правильную» расстановку фигурам в литературной игре (на «русском Парнасе»).
В первое десятилетие XIX в. положение Державина это положение «живого классика», его литературный авторитет был неоспорим (даже драматические опусы не могли поколебать его). Державин нуждался в наследниках, в продолжателях и учениках, что подтверждается неоднократными «вручениями лиры»4.
Еще современники Жуковского единодушно признали новизну «Певца во стане», его несходство с патриотическими одами. Позднее такое мнение было усвоено и исследователями, констатировавшими жанровое новаторство Жуковского, его отход от привычных форм русской батальной поэзии. Необычность жанра «Певца» подтверждается невозможностью однозначного его определения: произведение определяли как «песнь», поэму, балладу, элегию, кантату, похвальную оду (свод мнений см.: [Янушкевич 1983: 16]). Особой удачей Жуковского, обусловившей популярность «Певца», было нахождение особого лирического регистра, «интимизация» военной темы. Сопряжение высокой одической темы и песенной лирики, например, иллюстрируется строфой о «деве красоты»:
Там, там за синей далью Твой ангел, дева красоты, Одна с своей печалью, Грустит, о друге слезы льет; Душа ее в молитве, Боится вести, вести ждет: «Увы! Не пал ли в битве?» И мыслит: «Скоро ль, дружний глас, Твои мне слышать звуки? Лети, лети, свиданья час, Сменить тоску разлуки» [Жуковский: I, 238239]. 
Это внесение песенного и прямо балладного (сюжет «Людмилы» и «Светланы») элемента в торжественную лирику, действительно, давало ей новое звучание. Но обратим внимание на то, что таким принципиальным смешением разных стилевых и жанровых элементов отличается поэзия Державина в целом и в частности его батальная лирика. В ней мы обнаружим ту же интимизацию военной темы за счет введения любовного сюжета, а также песенную (с «простонародным» и сказочным оттенком) образность и фразеологию. В стихотворении «Осень во время осады Очакова» (1788) появляется лирический эпизод описание «нежной супруги» героя:
Пленира сердцем и лицом, Давно желанного ждет гласа, Когда ты к ней приедешь в дом; < > Спеши, супруг, к супруге верной; Обрадуй ты, утешь ее! Она задумчива, печальна, В простой одежде и власы Рассыпав по челу нестройно, Сидит за столиком в софе; И светлоголубые взоры Ее всечасно слезы льют [Державин: I, 227229]. 
«Пленира» здесь реальное лицо, супруга Голицына, но в «Осени » поэт придает ей обобщенные черты «чувствительной» лирической героини. Для Державина этот эпизод стихотворения (финальный) имеет принципиальный смысл: героиня «твердит то славу, то любовь», чье тождество в последних стихах подтверждено уравниванием любви и славы в поэзии:
Умножь, умножь еще твой плод! Приди, желанна весть! и лира Любовь и славу воспоет [Державин: I, 229]. Приведенный фрагмент державинского стихотворения дает достаточно четкую параллель к строфе Жуковского о «деве красоты» из «Певца». Параллель усилена и заявленным строфой ранее тождеством любви и славы:
Среди борьбы кровавой, Друзья, святой питайте жар: Любовь одно со славой.
Приведенная параллель может не являться доказательством генетической связи, однако она подтверждает ориентацию Жуковского на Державина, включение в поэтику «Певца» приемов, которые были уже опробованы старшим поэтом. Указания на Державина в «Певце » многочисленны и находятся на разных уровнях текста. Уже был отмечен комментаторами случай цитирования Жуковским старшего поэта в эпизоде, посвященном атаману Платову:
Вождь невредимых, Платов! Твой очарованный аркан Гроза для супостатов. Орлом шумишь по облакам, По полю волком рыщешь, Летаешь страхом в тыл врагам, Бедой им в уши свищешь; Они лишь к лесу ожил лес, Деревья сыплют стрелы; Они лишь к мосту мост исчез; Лишь к селам пышут селы. Ср. в стихотворении «Атаману и войску донскому»:
Но вихрем мчится под тобой.  По камню ль черну змеем черным Ползешь ты в ночь и следу нет; По влаге ль белой гусем белым Плывешь ты в день лишь струйка след; Орлом ли в мгле паришь сгущенной < > Почто ж вепря щетиночерна < > Арканом не схватил поднесь? [Державин: II, 649650] Как мы видим, Жуковский прямо цитирует образы Державина, подражает и лексико-синтаксической организации его текста (короткие конструкции, часто делящие стих; обращение к герою, использование глагольных форм второго лица единственный случай в «Певце», все остальные эпизоды с обращениями к героям, но в третьем лице).
Наконец, «певец» прямо обращается к Державину. В поэме упомянуты два одописца, воспевавшие военные победы Петров и Державин, причем именно второму посвящена целая строфа. Обращение к Державину вполне каноническое: «юный певец» ждет от него отзыва на современные победы, побуждает его «грянуть в струны».
Моя играла лира Вдруг выпал жребий: к знаменам! Прости, и сладость мира, И отчий край, и круг друзей, И труд уединенный, < > Но буду ль ваши петь дела И хищных истребленье? Быть может, ждет меня стрела И мне удел паденье. Но что ж навеки ль смертный час Мой след изгладит в мире? Останется привычный глас В осиротевшей лире5. Несмотря на видимое противопоставление «юного певца» «чадам Муз» («Так, братья, чадам Муз хвала!.. / Но я, певец ваш юный »), в реплике хора они объединены, антитеза «старых и новых» в перспективе снимается:
Их песни жизнь победам; И внуки, внемля их струнам, В слезах дивятся дедам. 
Жуковский, таким образом, декларировал преемственность «певца» по отношению к «старцу» с «голосом лебединым»6. В глазах Державина «Гимн лиро-эпический», написанный спустя почти год после «Певца», отвечал на вызов Жуковского и закреплял особенно своим финалом отношения на русском Парнасе. Молодой поэт отдавал Державину должное и как бы заранее принимал на себя роль его наследника еще до передачи лиры в «Гимне»7. Однако реальное положение было иным. Для современников превосходство «Певца во стане » было очевидным; ср., напр., отзыв А. Измайлова в письме к Грамматину, 13 января 1813 г.:
По степени воздействия на читателей, по влиятельности, по роли в формировании патриотической риторики с «Певцом» не может сравниться никакое другое произведение, посвященное «славе 12-го года». Наиболее показательный в этом смысле эпизод отказ Державина «воспеть» всех героев, то есть отказ от организующего принципа «Певца». Жуковский избрал форму поэтической кантаты, не предполагающую сквозного сюжета, в определенном смысле «кумулятивную»8. Державин же пишет сюжетное произведение, которое не просто воспевает героев, а разъясняет смысл совершившихся событий, и поэтому в «Гимне» могут быть представлены лишь ключевые фигуры на театре военных действий:
Достойны войны наших дней. < > Но как исчислить всех героев, Живых и падших с славою средь боев? Почтим Багратионов прах, Он жив у нас в сердцах! [Державин: III, 160]
В «Гимне» упомянуты, кроме Багратиона, лишь трое героев Кутузов, Витгенштейн и Платов (чье описание отсылает к посвященному ему державинскому стихотворению, которое было процитировано в «Певце»). Однако не везде воздействие Жуковского могло быть преодолено. Так же, как и в «Певце во стане», в «Гимне лиро-эпическом» появляются летящие тени в духе Оссиана:
Летящих воздуха волнами, Он видит теней пред очами Святых и наших праотцов, Которы в зведном их убранстве, Безмерной высоты в пространстве [Державин: III, 147]. Особенно близко напоминает Жуковского эпизод с тенями полководцев:
Ношуся вне пределов мира, Где в голубых полях эфира Витает вождей росских сонм. Меж ими там в беседе райской Рымникский, Таврский, Задунайский Между собою говорят [Державин: III, 159]. 
Ср. в «Певце» полет над полками Святослава, Дмитрия Донского, Петра, Суворова:
Воздушными полками, Их тени мчатся в высоте Над нашими шатрами [Жуковский: II, 226].
Конечно, этот сюжетный эпизод не был изобретением Жуковского. В «Певце во стане» силен «оссианический» колорит9, а упомянутый мотив относится к числу заимствованных из поэм легендарного барда. В России Оссиан ассоциировался как раз с именем Державина, который в своих стихах «акклиматизировал» его на русской поэтической почве10. Отметим, что образ Державина в «Певце» стилизован под образ Оссиана это старец с лирой, воспевающий былые сражения (ср. у современного исследователя: Макферсон «лепит образ поэта-мифа, наделяя его обликом то воина с копьем, мечом и щитом, то (по прошествии многих лет) седовласого старца с лирой, оплакивающего свое одиночество и вспоминающего битвы былых времен» [Вершинин: 159160]). Оссиановские мотивы и образы, как мы видим, являются общими для державинского «Гимна» и «Певца во стане» Жуковского. У последнего они служат отсылкой к более ранним произведениям Державина, указывают на «ученичество» Жуковского. Пользуясь поэтическими находками Державина и при этом апеллируя к «старцу», молодой поэт признавал его первенство в высокой лирике.
В «Гимне», по нашему мнению, «оссианизмы» могли уже вызывать ассоциацию с поэмой Жуковского как самым популярным и актуальным произведением эпохи Отечественной войны. Бывшие ранее одним из «знаков» державинской батальной лирики, эти детали теперь принадлежат иной поэтической традиции традиции, задаваемой «Певцом во стане русских воинов». Наконец, стиль «Гимна» Державина, чрезвычайно архаизирующий, представляется нам также реакцией на популярность поэмы Жуковского. «Песня» неподходящий жанр для воспевания побед русского оружия, осмысляемых Державиным в возвышенно-мистическом ключе. Маститый поэт, когда-то превративший ломоносовскую оду в сюжетное стихотворение, допустивший в ней смешение разных стилистических регистров, теперь в виду новой поэзии возвращается к одической архаике. Это возвращение было в значительной степени инициировано кругом «Беседы любителей русского слова». Державин, поставленный главой круга, должен был доказать превосходство шишковского направления, превзойти карамзиниста Жуковского. Но возвращение оказалось, в общем, мало возможно: Державину никогда не давались стилистическая выдержанность. И в высоко-одическом контексте появляется в финале «Гимна» (как раз перед обращением к молодым поэтам) совершенно элегический фрагмент, напоминающий о герое «Вечера» Жуковского:
Уже за холмы синих туч Спускаешься ты в темны бездны, Твой тускнет блеск любезный, Среди лиловых мглистых зарь И мой уж гаснет жар [Державин: III, 164]. 
Итак, Державин после знакомства с элегией Жуковского «Вечер» начинает свой поэтический диалог с ним, и «Гимн лиро-эпический» становится частью этого диалога, репликой в нем, равно и сочувственной, и полемической. Продолжая свою поэтическую линию, Державин в то же время усваивает и приемы школы «гармонической точности». Его творчество никогда не было рафинированным в своих теоретических установках: «школа» не превосходила собственно «поэзии», и поэтому усвоение «чужого» не разрушало державинскую поэтику. Относительная неудача с патриотическим гимном 1813 года не остановила попыток Державина идти в ногу с новой литературой и с поэтической модой. В 18121813 гг. поэт пишет несколько баллад: «Жилище богини Фригги», «Новгородский волхв Злогор» и «Северный Амур» (две последние не были окончены). Их генезис описывал Я. Грот:
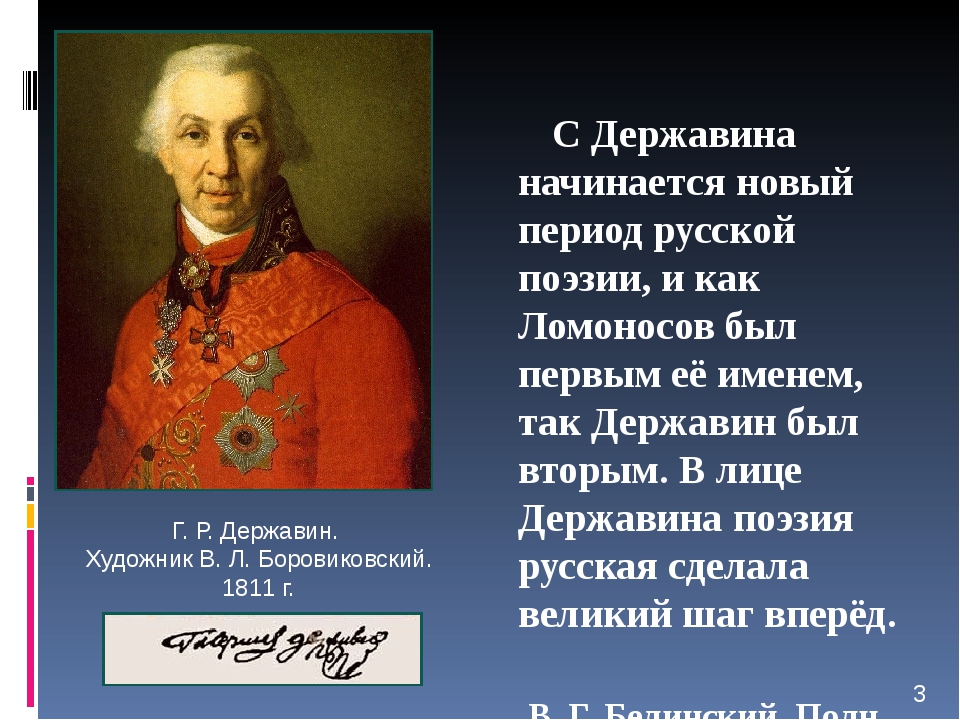 Именно этот пример мог привлечь на ту же стезю и Державина, который ни в одном роде поэзии не хотел уступать другим пальму первенства, к чему способствовал епископ (впоследствии митрополит) Евгений, который однажды, в письме 1809 г., советовал ему подражать Горацию во всем, «то есть, попытаться бы и в эпистоле и в сатире, дабы и в сем не уступить римскому певцу» [Державин: II, 120]. Именно этот пример мог привлечь на ту же стезю и Державина, который ни в одном роде поэзии не хотел уступать другим пальму первенства, к чему способствовал епископ (впоследствии митрополит) Евгений, который однажды, в письме 1809 г., советовал ему подражать Горацию во всем, «то есть, попытаться бы и в эпистоле и в сатире, дабы и в сем не уступить римскому певцу» [Державин: II, 120].
Опираться только на выкладки Грота было бы рискованно, но факт ориентации Державина в его балладах на новейшие произведения балладника-Жуковского можно доказать, если мы обратимся к балладе о новгородском волхве.
Державин начал писать эту балладу 13 марта 1813 г. в Петербурге, построив ее сюжет на некоторых преданиях и «мнимо-древних» (по Гроту: [Державин: II, 181]) стихотворениях. Имя Злогора появляется у поэта еще в «Жизни Званской» (1807), где оно упомянуто в связи с местной легендой о волхве, похороненном под холмом, на котором любил сидеть хозяин Званки. Теперь этот мифологический (точнее мифический) персонаж приобрел свое сюжетное пространство. Злогор, совершивший множество злодеяний при жизни, не может обрести покоя после смерти и скитается, совершая новые и новые злодейства. Баллада, хотя и повествует исключительно о безобразиях и преступлениях героя, не лишена комизма:
Но слух так страшен был о нем, Что люди добрые, по смерти В гроб положивши ниц лицом, Так спрятали его в могилу, Чтоб им не вреден был тиран, Осинов кол ему вбив с тылу, Над ним насыпали курган.
Но он и по своей кончине
В куту Кикиморой незримой При жизни Злогор совершал гораздо более существенные злодейства: препятствовал крещению новгородцев, противился введению законов Ярослава, покровительствовал бунтовщикам Марфе Посаднице и Вадиму. По многим признакам державинская баллада напоминает литературные сказки екатериниской эпохи, но автор дает ей жанровое определение «баллада», ранее у него не встречавшееся. Появление такого определения, видимо, объясняется внезапной популярностью жанра, точнее новой разновидности этого жанра, представленной балладами Жуковского. В январе 1813 г. в «Вестнике Европы» опубликована «Светлана», а двумя годами ранее в том же журнале была напечатана первая часть «Двенадцати спящих дев» баллада «Громобой». Сюжет последней, как мы полагаем, и натолкнул Державина на мысль о балладной обработке местной легенды.
Но у Державина баллада приобретает свой особенный смысл: она становится политической сатирой. После поражения Наполеона в Отечественной войне 1812 г. поэт начинает несколько стихотворений, в ироническом ключе изображающих французского императора.
Мы хотим обратить внимание на незамеченное другими исследователями наблюдение Я. Грота: комические опыты Державина о Наполеоне составляют дополнение к высокоторжественному «Гимну лиро-эпическому». Развивая эту мысль, можем предположить, что такая «дополнительность» была в авторской интенции. Кроме «Злогора», к балладам у Державина отнесено оставшееся в рукописи стихотворение «Северный Амур» (1814):
Галл, разбойник озорной, Чтоб добычи взять богаты, Дерзко в Русь взвился войной. < >
Но узрел лишь он, проклятый,
Но Киргиз был за стеной: По нашему мнению, сходство с балладой о Злогоре здесь вполне очевидно. Обе «баллады» сказочные и одновременно аллюзионные, обе используют мифологические образы и мотивы, обе выдержаны в «простонародном» стиле. Обратив внимание на актуальный жанр, Державин наполнил его своим содержанием не лирическим, а политическим.
Кроме перечисленных выше «Злогора», «Жилища богини Фригги» и «Северного Амура», поэт назвал балладой стихотворение «На возвращение императрицы Елисаветы Алексеевны из чужих краев, ноября 30 дня 1815 года» [Державин: III, 229]. Жанровое определение в рукописи снабжено пояснением «баллада или застольная песнь». В одно время с балладами появляется у Державина и несколько «романсов», не похожих на традиционные произведения в этом жанре. Романсами названы в рукописи «Царь-девица» (1812) и «Горе-богатырь», сюжетно и стилистически весьма сходные с державинскими балладами и также с политическим подтекстом.
Комментарии к вопросу мы находим у Грота, приводящего высказывания как самого поэта, так и его собеседника Евгения Болховитинова. Он отмечал, что смешение двух названных жанров свойственно не только Державину, а эпохе в целом, и в доказательство привел их описание в теории Эшенбурга (cм. Примечания Грота к «Царь-девице» [Державин: III, 117121], а также [Грот: 614]). Эшенбург объединял балладу и романс под общим определением песни, от других разновидностей песни их отличает смешанная природа: по содержанию они относятся к повествовательной поэзии, по форме к лирической. Различие между балладой и романсом Эшенбург видел в характере основного происшествия: в первой оно трагическое, во втором комическое. Я. Грот считает, что Державин разделял такое понимание двух жанров, однако мы видим, что тот же «Северный Амур» лишен какого бы то ни было «трагизма» и, соответственно, предположения Грота не вполне справедливы. Скорее мы можем согласиться с другим высказыванием Я. Грота, сближающим державинские опыты баллады и романса с «народной поэзией». Судя по имеющемуся материалу, Державин разрабатывал эти жанры, отталкиваясь от сборников Чулкова, Попова и Ключарева. В «Рассуждении о лирической поэзии» он писал:
Из переписки же Державина с Евгением Болховитиновым 1809 г. можно заключить, что поэт считал «древние русские стихотворения» (из сборника Ключарева) «северными балладами или романсами».
Именно популярность немногочисленных еще (к 181213 гг.
Здесь можно отметить необычное явление: «домашняя поэзия» Жуковского («долбинские стихотворения» прежде всего; см., напр.: [Фрайман 2002: 97108]) разительно напоминает баллады и романсы Державина с их стилистическими контрастами, совмещением поэтической лексики и бытовых сюжетов и «галиматьей».
Итак, обращение к проблеме творческих взаимоотношений Державина и Жуковского позволяет сделать нам некоторые заключения. В начале 1810-х Державин оказывается в парадоксальной ситуации, когда еще не переданная им формально «лира» уже подхвачена Жуковским, а сам признанный первый поэт смещен с вершины русского Парнаса. ПРИМЕЧАНИЯ 1 В частности, Державин пишет:
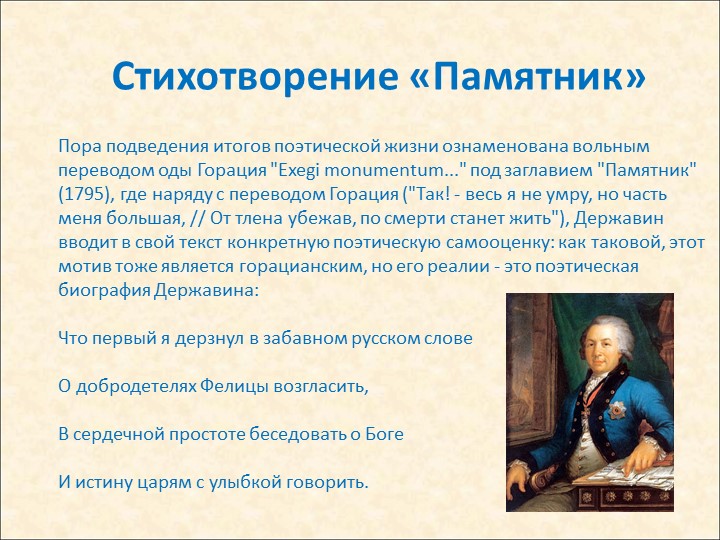 по: [Грот: 617]). по: [Грот: 617]).
2 Не вполне определенно Грот относит «передачу лиры» к периоду после создания Жуковским «Певца во стане »: «Державин, отдавая полную справедливость высокому таланту певца во стане русских воинов < > набросал на одной из своих рукописей четверостишие » [Грот: 619]. 3 Намек слишком прозрачный: Державин впервые выступил в печати в 1773 г., будучи 30 лет от роду, а известность пришла к нему после оды «К Фелице» (1782). 4 Ю. Н. Тынянов проницательно связал державинский поиск поэтических наследников с поиском наследников номинальных: у Державина не было детей, и он неоднократно предлагал выбранным им людям унаследовать его фамилию («имя» не должно было умереть во всех смыслах; [Тынянов: 368369]). 5 Ср. в «Вечере» (1806):
Быть другом мирных сел, любить красы природы, Дышать под сумраком дубравной тишиной И, взор склонив на пенны воды,
Творца, друзей, любовь и счастье воспевать. 6 Эту поэтическую деталь можно расценивать как отсылку к державинскому «Лебедю» (1804). 7 Здесь несущественен вопрос о датировке четверостишия «Тебе в наследие, Жуковский », потому что оно, вне зависимости от времени создания, осталось в черновиках Державина и широкой публике не могло быть известно. 8 Действительно, «Певец» дополнялся отдельными эпизодами в ходе своей творческой истории, сюжетная композиция этим не нарушалась.
9 Это у Жуковского не первый опыт приобщения к оссианической традиции, применительно к военной теме она использована еще в 1806 г., в «Песни барда над гробом славян-победителей» (с тем же мотивом явления теней). Фигура Карамзина здесь также важна, но карамзинское увлечение Оссианом было недолгим, и к концу 1790-х отзывы о шотландском барде приобретают даже иронический оттенок (см. 10 Ю. Д. Левин в статье «Оссиан в России» отметил, что свой перевод «Сельмских песен» Карамзин посвятил именно Державину, что указывает, по разделяемому нами мнению исследователя, на очевидную для современников связь его с оссианизмом [Левин: 511]. Державин переводил Оссиана (1794 поэма «Карик-тура»), но существеннее то, что он усвоил образность его поэм. Ю. Д. Левин отмечает влияние Оссиана в одах «На взятие Варшавы», «На взятие Измаила», «На победу в Италии», «На переход Альпийских гор», стихотворении «На кончину Ольги Павловны», но более всего в оде «Водопад» [Левин: 509511]. ЛИТЕРАТУРА Державин: Державин Г. Р. Сочинения / С объяснительными прим. Я. Грота. СПб., 18681878. Жуковский: Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 19992000. Т. 12.
Вершинин: Вершинин И. Г. Оссиан: поэт-миф, созданный Макферсоном // Вестник ОГУ: Гуманитарные науки. Грот: Грот Я. Жизнь Державина. М., 1997. Западов: Западов В. А. Гаврила Романович Державин: Биография. М., 1965. Левин: Левин Ю. Д. Оссиан в России // Макферсон Дж. Поэмы Оссиана. Л., 1983. Серман: Серман И. З. Державин. М., 1958. Тынянов: Тынянов Ю. Н. Пушкин. Л., 1976. Фрайман 2002: Фрайман Т. Творческая стратегия и поэтика В. А. Жуковского (1800-е начало 1820-х годов). Тарту, 2002. Фрайман 2004: Фрайман Т. Об одном случае скрытой литературной полемики (Жуковский в «Жизни Званской» Державина) // Лотмановский сборник. 3. М., 2004. С. 5968. Янушкевич: Янушкевич А. С. Жанровый состав лирики Отечественной войны 1812 года и «Певец во стане русских воинов» В. А. Жуковского // Проблемы метода и жанра. Томск, 1983. Вып. 9. * Пушкинские чтения в Тарту 3: Материалы международной научной конференции, посвященной 220-летию В. 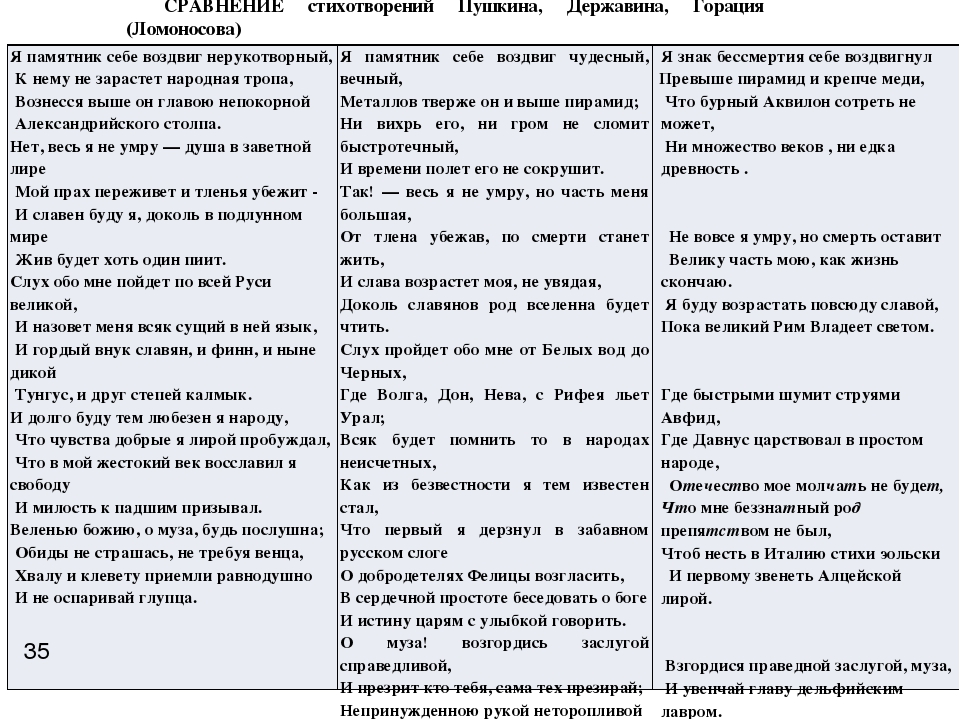 А. Жуковского и 200-летию Ф. И. Тютчева / Ред. Л. Киселева. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. С. 929. А. Жуковского и 200-летию Ф. И. Тютчева / Ред. Л. Киселева. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. С. 929.
© Татьяна Фрайман, 2004. Дата публикации на Ruthenia 14/01/05. |
|
К вопросу о проблематике и поэтике стихотворений Г.
 Р. Державина — Информио
Р. Державина — ИнформиоВ поэзии Державина намечаются два пути преодоления гнетущей мысли о смерти. Один из них — традиционный путь религиозных утешений. Религиозные мотивы занимают немалое место в поэзии «воспитанного в страхе божием» Державина. Но, наряду с религиозной резиньянцией, с патетическим оспариванием «слепых света мудрецов» — философов — материалистов XVIII века, у Державина звучат и мотивы скептического отношения, к обещаниям религии. Недаром одно из его стихотворений называется «Успокоенное неверие» (1779). А о том, что успокоено оно было недостаточно прочно, красноречиво свидетельствуют знаменитые, проникнутые горьким сомнением строки в написанной, видимо, почти сразу же вслед за этим оде «На смерть князя Мещерского»:
Здесь персть твоя, а духа нет. Где ж он?- Он там,- Где там?- Не знаем.
Мы только плачем и взываем:
«О, горе нам, рожденным в свет!»1
Как считал сам Гавриил Романович, его собственная настоящая поэтическая деятельность началась с 1779 года. Когда он окончательно отказался от попыток подражания своим поэтическим кумирам. В 1805 году, создавая автобиографическую записку и называя себя в ней третьим лице, Державин так определил смысл происшедшего в его позиции перелома: «Он в выражении и стиле старался подражать г. Ломоносову, но, не хотев парить, не мог выдержать постоянно, красивым набором слов, свойственного единственному российскому Пиндару великолепия и пышности. А для того с 1779 года избрал он совсем другой путь»2.
Когда он окончательно отказался от попыток подражания своим поэтическим кумирам. В 1805 году, создавая автобиографическую записку и называя себя в ней третьим лице, Державин так определил смысл происшедшего в его позиции перелома: «Он в выражении и стиле старался подражать г. Ломоносову, но, не хотев парить, не мог выдержать постоянно, красивым набором слов, свойственного единственному российскому Пиндару великолепия и пышности. А для того с 1779 года избрал он совсем другой путь»2.
Именно контрастным соотношением элементов взаимопроникающих одических и сатирических мирообразов, контраста жанра и стиля, контрастом понятийным отличается лирика Державина в тот момент, когда его поэтический голос набирает силу и происходит становление индивидуальной поэтической манеры в русле общий тенденции русской литературы 1760-1780-х годов к синтезу ранее изолированных жанров и взаимопроникновению противоположных по иерархии жанрово-стилевых структур.
Первый пример такого синтетического жанрового образования в лирике Державина предлагает ода «На смерть князя Мещерского» (1779). Тема смерти и утраты — традиционно элегическая, и в творчестве самого писателя последующих лет она будет находить как вполне адекватное жанровое воплощение (проникновенная элегия на смерть первой жены Державина, Екатерины Яковлевны, написанная в 1794 году), так и травестированное: тема смерти, при всем своем трагизме, всегда осознавалась и воплощалась Гавриилом Романовичем контрастно. Так, может быть, одно из самых характерных для державинского стиля поэтического мышления стихотворений, сжато демонстрирующее в четырех стихах неповторимость его поэтической манеры, тоже написано на смерть: «На смерть собачки Милушки, которая при получении известия о смерти Людовика XVI упала с колен хозяйки и убилась до смерти» (1793):
Тема смерти и утраты — традиционно элегическая, и в творчестве самого писателя последующих лет она будет находить как вполне адекватное жанровое воплощение (проникновенная элегия на смерть первой жены Державина, Екатерины Яковлевны, написанная в 1794 году), так и травестированное: тема смерти, при всем своем трагизме, всегда осознавалась и воплощалась Гавриилом Романовичем контрастно. Так, может быть, одно из самых характерных для державинского стиля поэтического мышления стихотворений, сжато демонстрирующее в четырех стихах неповторимость его поэтической манеры, тоже написано на смерть: «На смерть собачки Милушки, которая при получении известия о смерти Людовика XVI упала с колен хозяйки и убилась до смерти» (1793):
Увы, сей день с колен Милушка И с трона Людвиг пал,- Смотри,
О смертный! Не все ль судьб игрушка — Собачки и цари?3
Равноправие всех фактов жизни в эстетическом сознании Державина делает для него возможным немыслимое — объединение абсолютно исторического происшествия, значимого для судеб человечества в целом (казнь Людовика XVI во время Великой французской революции) и факта абсолютно частной жизни (горестная участь комнатной собачки) в одной картине мира, где все живое и живущее неумолимо подвержено общей судьбе: жить и умереть. Так, поэтический экспромт, воспринимаемый как озорная шутка, оказывается чревато глубоким философским смыслом. И неудивительно, что, обратившись к теме смерти в 1779 году, Державин на традиционно элегическую тему написал глубоко эмоциональную философскую оду.
Так, поэтический экспромт, воспринимаемый как озорная шутка, оказывается чревато глубоким философским смыслом. И неудивительно, что, обратившись к теме смерти в 1779 году, Державин на традиционно элегическую тему написал глубоко эмоциональную философскую оду.
«На смерть князя Мещерского» — всестороннее воплощение контрастности державинского поэтического мышления, в принципе не способного воспринимать мир однотонно, одноцветно, однозначно. Первый уровень контрастности, который, прежде всего, бросается в глаза, — это контрастность понятийная. Все стихотворение Державина выстроено на понятийных и тематических антитезах: «Едва увидел я сей свет, // Уже зубами смерть скрежещет», «Монарх и узник — снедь червей»; «Приемлем с жизнью смерть свою, // На то, чтоб умереть, родимся»; «Где стол был яств, там гроб стоит»; «Сегодня Бог, а завтра прах»4 — все эти чеканные афоризмы подчеркивают центральную антитезу стихотворения: «жизнь — смерть», части которой, как будто бы противоположны по смыслу; «вечность» — бессмертие, «смерть» — небытие, конец; оказываются уподоблены друг другу в ходе развития поэтической мысли Державина: «Не мнит лишь смертный умирать // И быть себя он вечным чает» — «Подите счастьи прочь возможны, // Вы все пременны здесь и ложны: // Я в дверях вечности стою»3.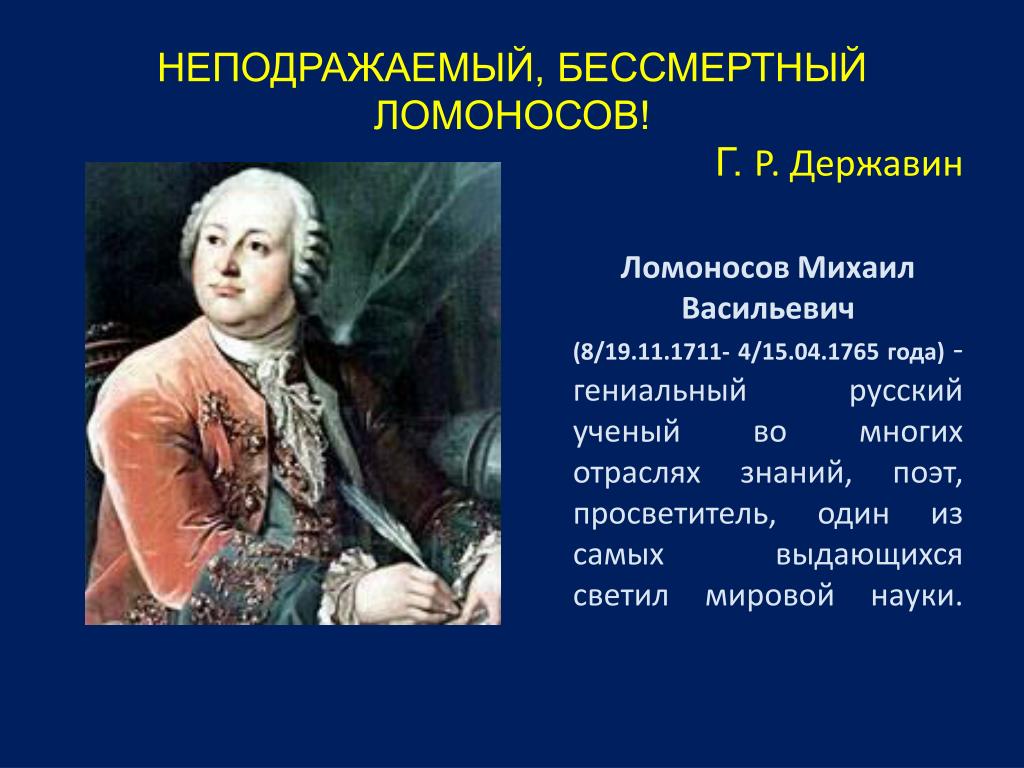
И если способом контрастного противопоставления понятий писатель достигал единства поэтической мысли в своей философской оде, то единство ее текста определяется приемами повтора и анафоры, которые на композиционном уровне объединяют сходными зачинами стихи, содержащие контрастные понятия, а также сцепляют между собой строфы по принципу анафорического повтора от последнего стиха предыдущей строфы к первому стиху последующей:
И бледна смерть на всех глядит.
Глядит на всех — и на царей,
Кому в державу тесны миры,
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и в сребре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Г лядит на силы дерзновенны И точит лезвие косы.6
Причем сам по себе прием анафоры оказывается, в плане выразительных чувств — средств, контрастно противоположным приему антитезы, функциональному в пределах одного стиха или одной строфы, тогда как анафора действует на стыках стихов и строф.
Контрастность словесно-тематическая и контрастность выразительных средств — приемов антитезы и анафоры, дополнено в оде «На смерть князя Мещерского» и контрастностью интонационной. Стихотворение в целом отличается чрезвычайной эмоциональной насыщенностью, и настроение трагического смятения и ужаса, заданное в первой строфе:
Стихотворение в целом отличается чрезвычайной эмоциональной насыщенностью, и настроение трагического смятения и ужаса, заданное в первой строфе:
Глагол времен! Металла звон!
Твой страшный глас меня смущает,
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет — и к гробу приближает -7
к концу стихотворения нагнетается до невыносимости, заставившей Белинского воскликнуть: «Как страшна его ода «На смерть князя Мещерского»: кровь стынет в жилах..!»8. Но вот последняя строфа — неожиданный вывод, сделанный поэтом из мрачного поэтического зрелища всеполагающей смерти и контрастирующей с ним своей эпикурейски — жизнерадостной интонацией:
Сей день иль завтра умереть,
Перфильев! должно нам конечно:
Почто ж терзаться и скорбеть,
Что смертный друг твой жил не вечно?
Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой ее себе к покою И с чистою твоей душою Благословляй судеб удар.9
Этот интонационный перепад, связанный с обращением поэта к третьему лицу заставляет обратить внимание на такое свойство державинского поэтического мышления, как его конкретность, составляющее контраст общему тону философской оды, оперирующей родовыми категориями и абстрактными понятиями. На склоне лет, в 1808 году Державин написал к своим стихам «Объяснения-. где откомментировал и оду. «На смерть князя Мещерского»: «Действительный тайный советник, главный судья таможенной канцелярии», указать на его привычки: «Был большой хлебосол и жил весьма роскошно», а также сообщить о том. кто такой Перфильев: «Генерал-майор, хороший друг князя Мещерского, с которым всякий день были вместе»10.
На склоне лет, в 1808 году Державин написал к своим стихам «Объяснения-. где откомментировал и оду. «На смерть князя Мещерского»: «Действительный тайный советник, главный судья таможенной канцелярии», указать на его привычки: «Был большой хлебосол и жил весьма роскошно», а также сообщить о том. кто такой Перфильев: «Генерал-майор, хороший друг князя Мещерского, с которым всякий день были вместе»10.
В этом точно биографически-бытовом контексте стихотворение обретает дополнительный смысл: стих-элегия «Где стол был яств, там гроб стоит» начинает восприниматься не только как общефилософский контраст жизни и смерти, но и как национальный бытовой обычай (ставить гроб с покойником на стол) и как знак эпикурейского жизнелюбия хлебосольного князя Мещерского, с которым его разделяли его друзья Перфильев и Державин. Таким образом, эпикурейская концовка стихотворения оказывается тесно связана с бытовой личностью князя Мещерского. смерть которого вызвала к жизни философскую оду-элегию Державина.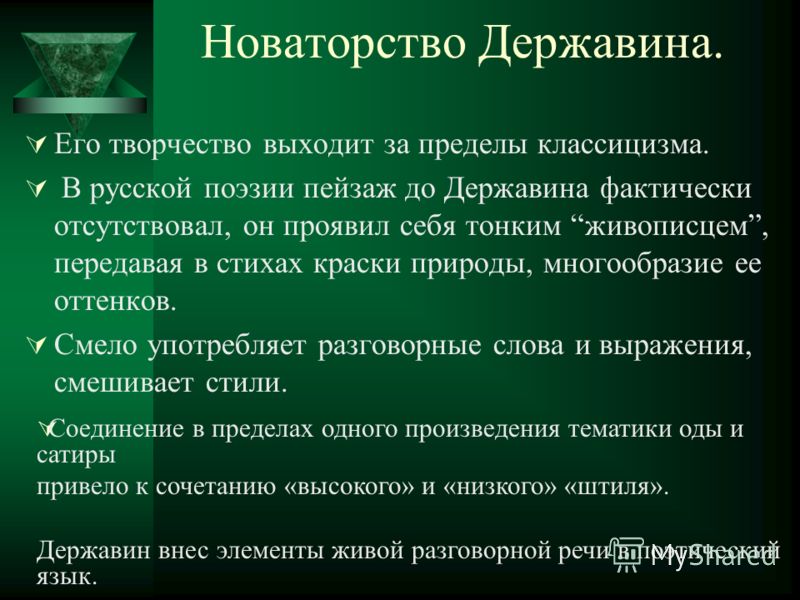
Те же мысли и чувства, которыми некогда была подсказана ода на смерть Мещерского, стали опорною точкой для «Водопада». Державин сам подчеркнул эту связь в строфе, прямо намекающей на начало стихов о Мещерском:
Не зрим ли всякий день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?
Не слышим ли в бою часов
Глас смерти, двери скрып подземной?
Не упадает ли в сей зев
С престола царь и друг царев?11
Но контраст, пленивший Державина, был на сей раз иного оттенка. Мало того, что Потемкин был вырван смертью из сказочного великолепия, пред которым богатства Мещерского — ничто: смерти Мещерского не предшествовала и не сопутствовала та личная трагедия, которой отмечена смерть Потемкина и в которую Державин мог только намекнуть, что в свою очередь придало его строфам тайную силу, которой они насквозь пропитаны:
Чей труп, как на распутье мгла,
Лежит на темном лоне ноши?
Простое робище чресла,
Два лепта покрывают очи,
Прижаты к хладной груди персты,
Уста безмолвствуют отверсты!
Чей одр — земля; кров — воздух синь;
Чертоги — вкруг пустынны виды?
Не ты ли, Счастья, Славы сын,
Великолепный князь Тавриды?
Не ты ли с высоты честей Незапно пал среди степей?12
Именно потому, что Мещерский был личностью малозначащей, его смерть давала удобный повод для философствований о смерти вообще. Кончина Потемкина должна была повести вдохновение в сторону истории.
Кончина Потемкина должна была повести вдохновение в сторону истории.
Вообще, ближе к началу XIX века отчетливее звучат элегические ноты не только в поэзии, но и в прозе. Это и понятно. Образование жанров находится в прямой зависимости от направления, и в нарастании элегической линии в русской литературе роль сентиментализма была решающей. Влияние времени, воздействие новых эстетических представлений на литературный процесс было настолько сильно, что даже в недрах державинской одической поэзии начинает пробиваться элегическая струя. Об этом как раз и свидетельствует «Водопад»:
Пустыня, взор насупя свой.
Утесы и скалы дремали;
Волнистой облака грядой Тихонько мимо пробегали,
Из коих трепетна, бледна,
Проглядывала вниз луна…
Где слава? — Где великолепье?
Где ты, о сильный человек?
Мафусаила долголетие
Лишь было б сон, лишь тень в наш век;
Вся наша жизнь не что иное.
Как лишь мечтание пустое…14
Тема державинского стихотворения значительно шире, чем распространенны, мотивы элегии того времени. Сказался эпический характер дарования автор: И поэтому Белинский в отношении «Водопада» наряду с «элегией» искал боле, точные, более емкие определения: «эпическая элегия», «элегия — дума»15.
Сказался эпический характер дарования автор: И поэтому Белинский в отношении «Водопада» наряду с «элегией» искал боле, точные, более емкие определения: «эпическая элегия», «элегия — дума»15.
В философских одах-элегиях Державина человек оказывается перед лицом вечности. В поздней философской лирике понятие вечности может конкретизироваться через идею божества и картину мироздания, космоса в целом ( «Бог» (1780-1784)), через понятие времени и исторической памяти (ода «Водопад» (1791-1794)), наконец, через идею творчества и посмертной вечности жизни человеческого духа в творении (ода «Памятник» (1795)), стихотворен1 «Евгению. Жизнь Званская» (1807). И каждый раз в этих антитезах человека вечности человек оказывается причастен бессмертию. В оде «Бог», написанной под явным влиянием ломоносовских духовных од Державин создает близкую ломоносовской поэтике картину бесконечности космоса и непостижимости божества, причем эта картина замкнута в чеканную к. ионическую строфу Ломоносовской торжественной оды:
Светил возженных миллионы В неизмиримости текут,
Твои они творят законы,
Лучи животрящи льют. 16
16
На фоне этой грандиозной космической картины человек не теряется имени потому, что в нем слиты материальные и духовные, земное и божественное начало — так поэтика державинского контрастного мировосприятия получает свое философское и теологическое обоснование:
Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайняя степень вещества;
Я сосредоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я бог!17
От осознания двойственности человеческой природы рождается державинское убеждение о том, что истинный удел человека — бессмертие духа, которого не может упразднить конечность плоти: «Мое бессмертно бытие; // И чтоб чрез смерть я возвратился, // Отец! в бессмертие твое». Именно эта мысль является внутренне организующей для всего цикла философской лирики Державина. Следующую стадию ее развития, более конкретно по сравнению с общечеловеческим пафосом оды «Бог», можно наблюдать в большой философско — аллегорической оде «Водопад». Как всегда, Державин идет в ней от зрительного впечатления. и в первых строфах оды в великолепной словесной живописи изображен водопад Кивач на реке Суня в Олонецкой губернии:
Как всегда, Державин идет в ней от зрительного впечатления. и в первых строфах оды в великолепной словесной живописи изображен водопад Кивач на реке Суня в Олонецкой губернии:
Алмазна сыплется гора С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми
Шумит — и средь густого бора Теряется в глуши потом 18
Однако эта пейзажная зарисовка сразу приобретает смысл символа человеческой жизни — открытой и доступной взору в своей земной фазе и теряющейся во мраке вечности после смерти человека: «Не жизнь ли человека нам //Сей водопад изображает? »19. А далее это аллегория развивается очень последовательно: сверкающий и гремящий, и берущий из него начало скромный ручеек, затерявшийся в глухом лесу, но поящий своей водою всех приходящих к его берегам, уподобляются времени и славе: «Не так ли с неба время льется // Честь блещет, слава раздается?»20; «О слава, слава в свете сильных! // Ты точно есть сей водопад».
Основная часть оды персонифицирует эту аллегорию в сравнении прижизненных и посмертных судеб двух великих современников Державина, фаворита Екатерины II князя Потемкина — Таврического и опального полководца Румянцева.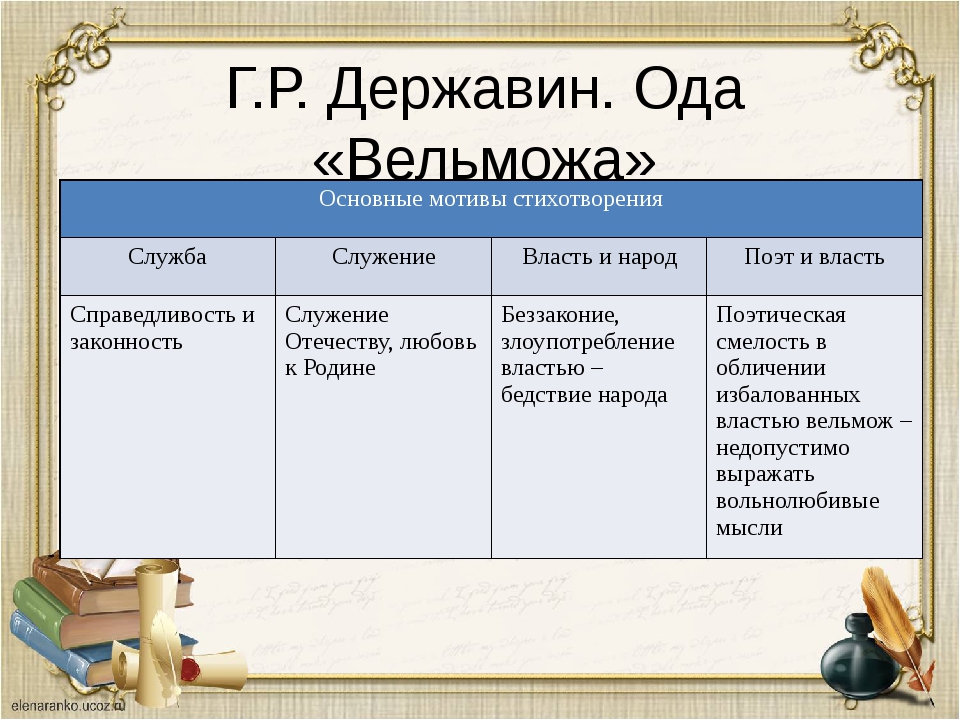 Потемкин в оде «Водопад» погружен во тьму безвременной смертью: «Чей труп, как на распутье мгла, // Лежит на темном лоне нощи?» Яркая и громкая прижизненная слава Потемкина, как и сама его личность, уподобляются в оде Державина великолепному, но бесполезному водопаду:
Потемкин в оде «Водопад» погружен во тьму безвременной смертью: «Чей труп, как на распутье мгла, // Лежит на темном лоне нощи?» Яркая и громкая прижизненная слава Потемкина, как и сама его личность, уподобляются в оде Державина великолепному, но бесполезному водопаду:
Дивиться вкруг себя людей Всегда толпами собирает,- Но если он водой своей Удобно всех не наполняет
Разрешение проблемы бессмертия человека в памяти потомков дается в общечеловеческом плане и абстрактно-понятийном ключе:
Услышьте ж, водопады мира!
О славной шумные главы!
Ваш светел лич, цветна порфира,
Коль правду возлюбили вы,
Когда имели б только литу.
Чтоб счастие доставить свету.24
И столь же моралистический общечеловеческий характер имеет комментарий к этой строфе в «Объяснениях»: «Водопады, или сильные люди мира, тогда только заслуживают истинные похвалы, когда споспешествовали благоденствию смертных»-25.
В стихотворении «Снегирь», посвященном на смерть великого полководца Суворова. Все выдержано в портретно-бытовом низком или абстрактно-понятийном высоком словесном ключе, стихи чередуются как перекрестные рифмы:
Все выдержано в портретно-бытовом низком или абстрактно-понятийном высоком словесном ключе, стихи чередуются как перекрестные рифмы:
Кто перед ратью будет, пылая.
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и зное нег закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов С горстью россиян все побеждать!26
В этом стихотворении птицы выступают не просто как знак, но как персонификация. Поэт продолжает традиции устного народного творчества. Птица одушествляется, наделяется чертами живого существа, приобретает статус второго лирического субъекта стихотворения. Птичка выступает как «мил дружок», котрому Державин поверяет свои мысли и переживания.
Державин с нежностью обращается к птице — снегирь для него «милый». Проводя параллель между птицей и человеком, Державин тем не менее не забывает воссоздать конкретный облик птицы. Образ снегиря он воссоздает через звук Пение снегиря подобно флейте и напоминает военную песню. Поэтому оно наводит Державина на воспоминания о бранях, о Суворове:
Что ты заводишь песню военну Флейте подобно, милый снегирь
С кем мы пойдем войной на Гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?27
Итак, в поэзии 1770-х годов у Державина наметились основные эстетически принципы индивидуальной поэтической манеры: тяготение к синтетическим жанровым структурам, контрастность и конкретность поэтического образного мышления.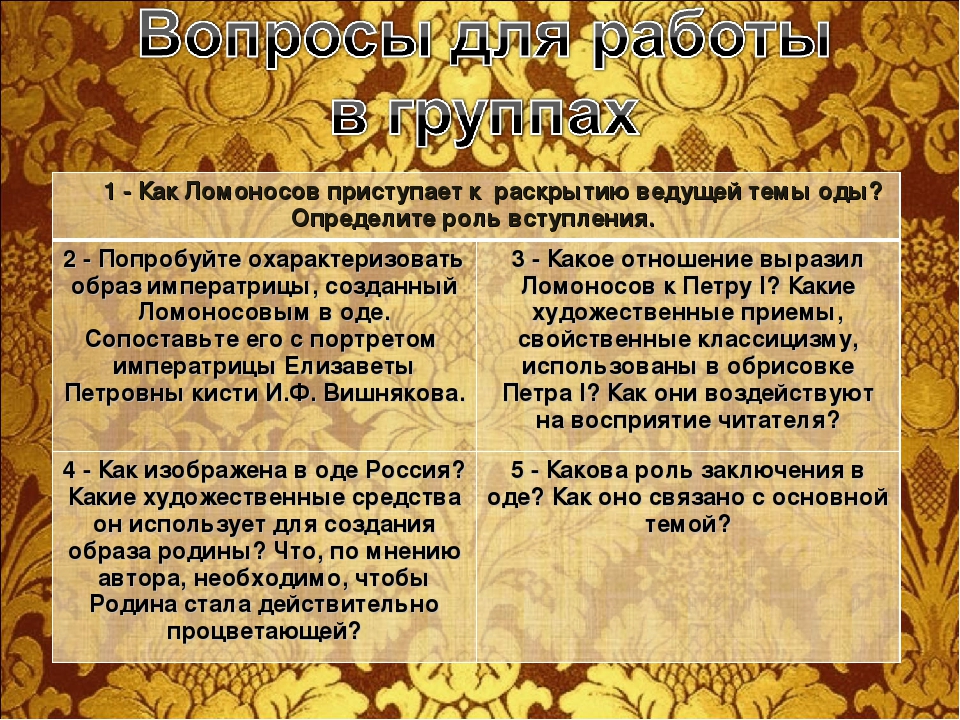 сближение категорий исторического события и обстоятельств частной жизни в тесной связи между биографическими фактами жизни поэта и его текстами, которые он считает нужным комментировать сообщениями о конкретных обстоятельствах их возникновения и сведениями об упомянутых в них людях.
сближение категорий исторического события и обстоятельств частной жизни в тесной связи между биографическими фактами жизни поэта и его текстами, которые он считает нужным комментировать сообщениями о конкретных обстоятельствах их возникновения и сведениями об упомянутых в них людях.
Державин совмещает столь несовместимые жанры оды и элегии. Стихотворения построены на антиномиях — противоречиях, равно убедительных и в тоже время непримиримых. Эти антиномии органически присущи элегии.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Державин, Г. Р. Стихотворения. — М., 1982. — С. 24.
2. Державин, Г. Р. Сочинения с объяснительными замечаниями Я. К. Гр та: в 9т.-СПб., 1864-1884. — Т. 6. — С. 443.
3. Державин, Г. Р. Сочинения. Л., 1987. — С. 259.
4. Державин, Г. Р. Сочинения. М., 1985. — С. 29-30.
5. Там же. — С. 3 1.
6. Там же. -С. 30.
7. Там же. — С. 29.
8. Белинский, В. Г. Полное собрание сочинений: в 13т,- М., 1953. — Т. 1. — С. 5
9. Державин, Г. Р. Сочинения. — М., 1985. — С. 3 1.
Р. Сочинения. — М., 1985. — С. 3 1.
10. Там же. — С. 319.
11. Державин, Г. Р. Стихотворения. — С. 104.
12. Там же. — С. 108-109.
13. Там же. — С. 105.
14. Там же. — С. 111.
15. Белинский, В. Г. Указ. соч. — Т. 2. — С. 9.
16. Державин, Г. Р. Сочинения. — М., 1985. — С. 53.
17. Там же. — С. 54.
18. Там же. — С. 107.
19. Там же. — С. 109.
20. Там же.
21. Там же. -С. 112. /
22. Там же. — С. 114.
23. Там же. — С. 113.
24. Там же. — С. 118.
25. Там же. — С. 333.
26. Там же. — С. 222.
27. Державин, Г. Р. Стихотворения. -Д. : Советский писатель, 1957. — С. 283.
Оригинал работы:
К вопросу о проблематике и поэтике стихотворений Г.Р. Державина
Ломоносов как эмблема русской поэзии (русские поэты XVIII века о портрете М.В. Ломоносова)
Целью данной работы является анализ поэтических откликов писателей XVIII века на прижизненный портрет М. В. Ломоносова в контексте интереса к гербу. Методы исследования — культурно-исторический и семиотический. На протяжении XVIII века гербоведение внедрялось в русскую культуру; они использовались как декоративно-смысловой элемент в изобразительном искусстве и как художественный прием в литературе, являясь отражением эмблематического образа мышления того времени.Эмблематическое начало оказалось в центре внимания современных исследователей Стефана Яворского, А.Д. Кантемира и Г.Р. Державин. Эмблематический образ мышления того времени, проявившийся в лирическом жанре портретной подписи, считается неизученным. Темой данной работы является единственный прижизненный портрет Ломоносова, на который откликнулись несколько поэтов (Н.Н. Поповский, В.И. Майков, Г.Р. Державин и Н.М. Карамзин) в разные десятилетия XVIII века. Работая в характерном для своей эпохи жанре подписи к портрету, поэты, являвшиеся продолжателями заложенной Ломоносовым одической традиции, давали оценку творчеству своего предшественника.
В. Ломоносова в контексте интереса к гербу. Методы исследования — культурно-исторический и семиотический. На протяжении XVIII века гербоведение внедрялось в русскую культуру; они использовались как декоративно-смысловой элемент в изобразительном искусстве и как художественный прием в литературе, являясь отражением эмблематического образа мышления того времени.Эмблематическое начало оказалось в центре внимания современных исследователей Стефана Яворского, А.Д. Кантемира и Г.Р. Державин. Эмблематический образ мышления того времени, проявившийся в лирическом жанре портретной подписи, считается неизученным. Темой данной работы является единственный прижизненный портрет Ломоносова, на который откликнулись несколько поэтов (Н.Н. Поповский, В.И. Майков, Г.Р. Державин и Н.М. Карамзин) в разные десятилетия XVIII века. Работая в характерном для своей эпохи жанре подписи к портрету, поэты, являвшиеся продолжателями заложенной Ломоносовым одической традиции, давали оценку творчеству своего предшественника.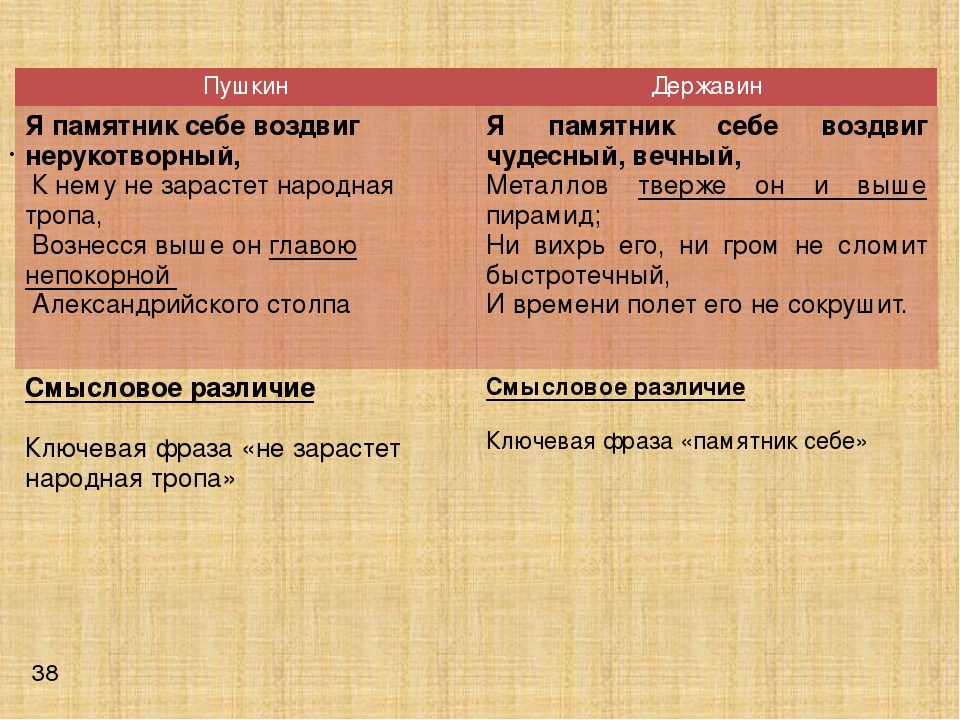 Сравнительный анализ четырех стихотворений показывает, как менялось поэтическое восприятие Ломоносова на протяжении XVIII века. Если в середине века Ломоносов в культурном сознании эпохи был значим как эпический поэт, как одист и как ученый, то в конце века Ломоносов воспринимается исключительно как создатель торжественной оды. Можно сказать, что образ Ломоносова эмблематизируется и становится знаком укорененности России в культурном контексте Европы.Сами стихи, связанные с изображением и задуманные как подписи к портрету, становятся частью эмблемы. В конце статьи предлагается ряд вопросов и заданий, которые могут быть использованы учителями словесности при изучении русской литературы XVIII века и творчества М.В. Ломоносова, в частности.
Сравнительный анализ четырех стихотворений показывает, как менялось поэтическое восприятие Ломоносова на протяжении XVIII века. Если в середине века Ломоносов в культурном сознании эпохи был значим как эпический поэт, как одист и как ученый, то в конце века Ломоносов воспринимается исключительно как создатель торжественной оды. Можно сказать, что образ Ломоносова эмблематизируется и становится знаком укорененности России в культурном контексте Европы.Сами стихи, связанные с изображением и задуманные как подписи к портрету, становятся частью эмблемы. В конце статьи предлагается ряд вопросов и заданий, которые могут быть использованы учителями словесности при изучении русской литературы XVIII века и творчества М.В. Ломоносова, в частности.
Количественная грамматика и поэтика форм конечных глаголов в гуслях Доброгласная Симеона Полоцкого | Двинятин
Двинятин Ф.Н., «Вторая кульминация генетической поэтики. Маяковского», в: В. Г. Вестстейн, изд., Дело авангарда. Дело об авангарде (= Pegasus Oost-Europese Studies, 8), Амстердам, 2008 г.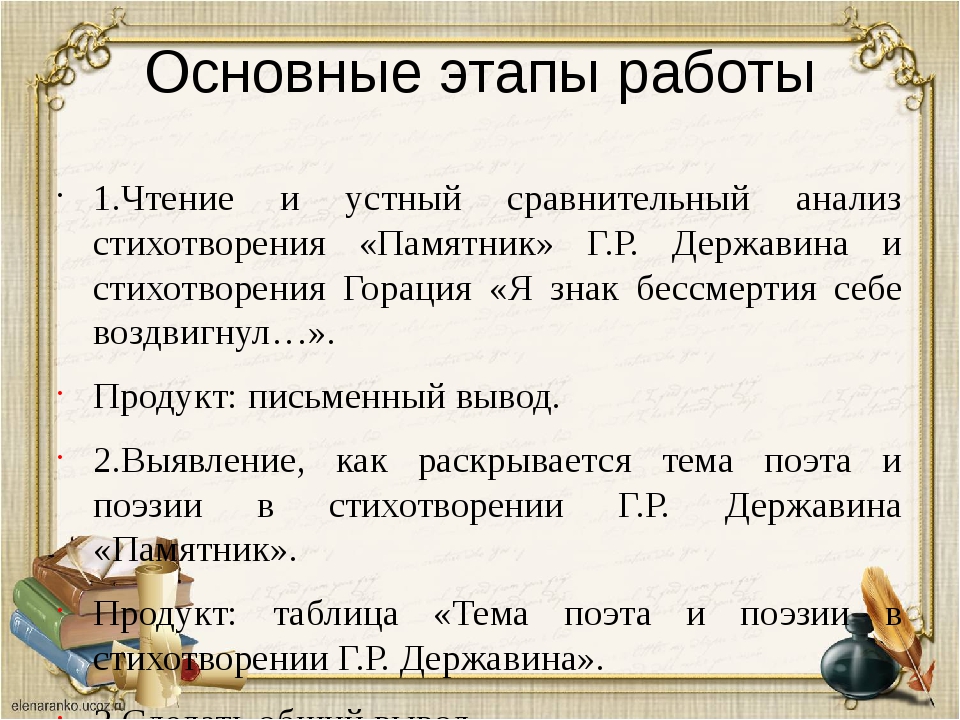 , стр. 81–111.
, стр. 81–111.
Двинятин Ф. Н., «Беспредложный творческий в поэтическом тексте П. Филонова: структура текста и «мерцание» семантики», Русская литература, 71/3–4, 2012, 313–328.
Двинятин Ф. Н., «Количественная грамматика глагола в торжественных одах Ломоносова», в кн.: С.Е. Бухаркин, С. С. Волков, Е. М. Матвеев (ред.), Филологическое наследие М. В. Ломоносова, СПб, 2013, 380–401.
Двинятин Ф. Н. Распределение основных морфологических классов слов в русском поэтическом тексте // В: Вяч. Против. Иванов, И. А. Пильщиков, ред., Русский формализм (1913–2013). Международный конгресс к столетию русской формальной школы: Тезисы документов, Москва, 2013, 232–234.
Двинятин Ф. Н., «Количественная грамматика глагола в десяти одах Г.Р. Державина», в: П. Е. Бухаркин, Е. М. Матвеев, ред., Литературная культура России XVIII века, 5, СПб, 2014, 164–181.
Двинятин Ф. Н., «Лермонтов и эволюция поэтической грамматики: количественные параметры», в: М. Н. Виролайнен, А. А. Карпов, ред., Мир Лермонтова, СПб, 2015, 407–415.
А. Карпов, ред., Мир Лермонтова, СПб, 2015, 407–415.
Еремин И. П., изд., Симеон Полоцкий. Избранные сочинения, Москва, Ленинград, 1953.
Гаспаров М. Л., Скулачева Т. В., Статиолингвистика, Москва, 2005.
Якобсон Р., «Поэзия грамматики и грамматика поэзии», в: Ю. С. Степанов, изд., Семиотика, М., 1983, 462–482.
Кравец Е. В., «Книжная справа и переводы Максима Грека как опыт нормализации церковнославянского языка XVI века», Русское языкознание, 15/3, 1991, 247–279.
Маслов Ю.В. С., Избранные труды. Аспектология. Общее языкознание, Москва, 2004, 216–246.
Падучева Е. В., Семантические исследования: семантика времени и вида в русском языке.Семантика нарратива, Москва, 1996.
.Петрухин П. В., Нарративная стратегия и потребление глагольных времен в русской летописи XVII века // Вопросы языкознания, 4, 1996, 62–84.
Зализняк А. А., «Слово о полку Игореве»: Взгляд лингвиста, 3-е изд., М., 2008.
Живов В. М., «Usus scribendi. Простые претериты у летописца-самоучки // Русское языкознание. 1995. С. 19. С. 45–75.
Простые претериты у летописца-самоучки // Русское языкознание. 1995. С. 19. С. 45–75.
В чем заслуга дежавина перед русским.В чем заслуга Державина перед русской литературой? Другие варианты биографии
Гаврила Романович Державин (1743-1816) — выдающийся русский поэт 18 — начала 19 веков. Творчество Державина было во многом новаторским и оставило значительный след в истории литературы нашей страны, повлияв на ее дальнейшее развитие.
Жизнь и творчество Державина
Читая биографию Державина, можно отметить, что ранние годы писателя никак не указывали на то, что ему суждено было стать великим человеком и гениальным новатором.
Гаврила Романович родился в 1743 году в Казанской губернии. Семья будущего писателя была очень бедной, но принадлежала к дворянству.
Юные годы
В детстве Державину пришлось пережить смерть отца, что еще больше ухудшило материальное положение семьи. Мать была вынуждена пойти на многое, чтобы обеспечить двух своих сыновей и дать им хоть какое-то воспитание и образование. В губерниях, где жила семья, было не так много хороших учителей; им приходилось мириться с теми, кого можно было нанять.Несмотря на тяжелое положение, слабое здоровье, неквалифицированных учителей, Державин благодаря своим способностям и упорству все же смог получить достойное образование.
В губерниях, где жила семья, было не так много хороших учителей; им приходилось мириться с теми, кого можно было нанять.Несмотря на тяжелое положение, слабое здоровье, неквалифицированных учителей, Державин благодаря своим способностям и упорству все же смог получить достойное образование.
Служба в армии
Еще будучи учеником Казанской гимназии, поэт написал свои первые стихи. Однако закончить учебу в гимназии ему не удалось. Дело в том, что канцелярская ошибка, допущенная каким-то сотрудником, привела к тому, что юноша годом ранее был направлен на военную службу в Санкт-Петербург, в должности рядового солдата.Только спустя десять лет ему все-таки удалось добиться офицерского звания.
С поступлением на военную службу жизнь и деятельность Державина сильно изменились. Долг службы оставлял мало времени для литературной деятельности, но, несмотря на это, в годы войны Державин сочинил немало юмористических стихотворений, а также изучал произведения разных авторов, в том числе и Ломоносова, которого особенно почитал и считал образцом для подражания.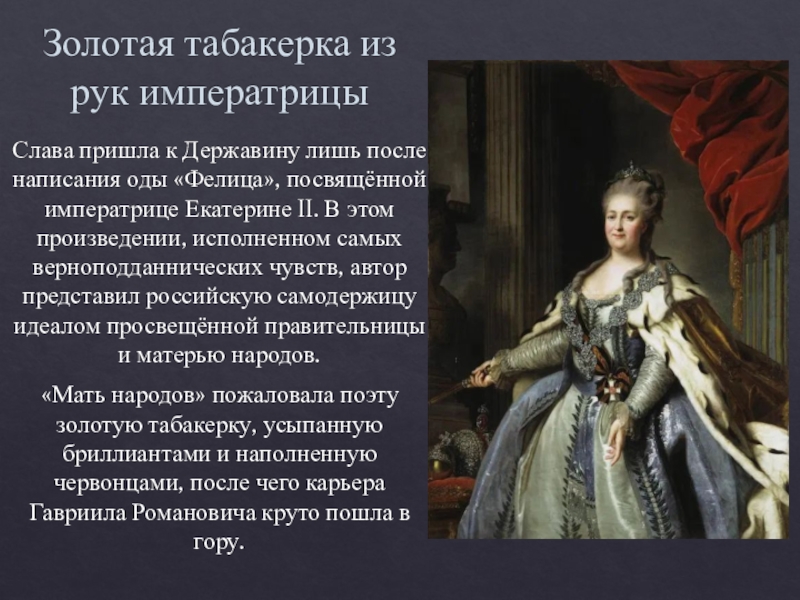 Немецкая поэзия привлекала и Державина. Он прекрасно знал немецкий язык и занимался переводами на русский язык немецких поэтов и в своих стихах часто опирался на них.
Немецкая поэзия привлекала и Державина. Он прекрасно знал немецкий язык и занимался переводами на русский язык немецких поэтов и в своих стихах часто опирался на них.
Однако в то время Гаврила Романович еще не видел своего главного призвания в поэзии. Он стремился к военной карьере, чтобы служить своей родине и улучшить материальное положение своей семьи.
В 1773-1774 гг. Державин принимал участие в подавлении восстания Емельяна Пугачева, однако повышения и признания его заслуг не добился. Получив в награду всего триста душ, он был демобилизован. Некоторое время обстоятельства вынуждали его зарабатывать на жизнь не совсем честным способом — игрой в карты.
Раскрытие таланта
Стоит отметить, что именно в это время, к семидесятым годам впервые раскрылся его талант. «Чаталагайские оды» (1776) вызвали интерес читателей, хотя в творческом отношении это и другие произведения семидесятых годов еще не были вполне самостоятельными. Несколько подражательны были работы Державина, в частности Сумарокова, Ломоносова и других. Строгие правила стихосложения, которым, следуя классицистической традиции, подчинялись его стихи, не позволяли полностью раскрыться уникальному таланту автора.
Строгие правила стихосложения, которым, следуя классицистической традиции, подчинялись его стихи, не позволяли полностью раскрыться уникальному таланту автора.
В 1778 году в личной жизни писателя произошло радостное событие — он страстно влюбился и женился на Екатерине Яковлевне Бастидон, которая на долгие годы стала его поэтической музой (под именем Пленира).
Свой путь в литературе
С 1779 года писатель выбрал свой путь в литературе. До 1791 года он работал в жанре оды, принесшем ему наибольшую известность. Однако поэт не просто следует классицистическим образцам этого строгого жанра.Он реформирует его, полностью меняя язык, который становится необычайно звонким, эмоциональным, совсем не таким, каким он был в размеренном, рациональном классицизме. Державин полностью изменил идейное содержание оды. Если раньше государственные интересы были превыше всего, то теперь в творчество Державина вносятся и личные, интимные откровения. В этом отношении он предвосхитил сентиментализм с его упором на эмоциональность, чувственность.
Последние годы
В последние десятилетия жизни Державин перестал писать оды, любовную лирику, дружеские послания, в его творчестве стали преобладать шуточные стихи.
О творчестве Державина вкратце
Сам поэт считал своей главной заслугой введение в художественную литературу «веселого русского стиля», в котором смешивались элементы высокого и просторечного стиля, сочетались лирика и сатира. Новаторство Державина заключалось еще и в том, что он расширил перечень тем русской поэзии, включив в него сюжеты и мотивы из быта.
Торжественные оды
Творчество Державина кратко характеризуется наиболее известными его одами. Они часто сосуществуют с бытовым и героическим, гражданским и личностным началами.Таким образом, в творчестве Державина соединяются ранее несовместимые элементы. Например, «Стихи к рождению на Севере мальчика-порфира» уже нельзя назвать торжественной одой в классицистическом понимании этого слова. Рождение Александра Павловича в 1779 г. описывалось как великое событие, все гении приносят ему разные дары — разум, богатство, красоту и т. д. Однако пожелание последнего из них («Быть человеком на троне») свидетельствует о том, что король – мужчина, что не характерно для классицизма. Новаторство в творчестве Державина проявилось здесь в смешении гражданского и личного статуса человека.
описывалось как великое событие, все гении приносят ему разные дары — разум, богатство, красоту и т. д. Однако пожелание последнего из них («Быть человеком на троне») свидетельствует о том, что король – мужчина, что не характерно для классицизма. Новаторство в творчестве Державина проявилось здесь в смешении гражданского и личного статуса человека.
«Фелица»
В этой оде Державин осмелился обратиться к самой императрице и полемизировать с ней. Фелица — Екатерина II. Гаврила Романович представляет царствующую особу как нечто, нарушающее существовавшую в то время строгую классицистическую традицию. Поэт восхищается Екатериной II не как государственным деятелем, а как мудрым человеком, знающим свой жизненный путь и идущим по нему. Затем поэт описывает свою жизнь. Самоирония при описании страстей, охвативших поэта, служит подчеркиванию достоинств Фелицы.
«На взятие Измаила»
Эта ода изображает величественный образ завоевания русским народом турецкой крепости. Его сила уподобляется силам природы: землетрясению, морскому шторму, извержению вулкана. Однако она не стихийна, а подчиняется воле российского государя, движимая чувством преданности Родине. Необычайная сила русского воина и вообще русского народа, его мощь и величие были изображены в этом произведении.
Его сила уподобляется силам природы: землетрясению, морскому шторму, извержению вулкана. Однако она не стихийна, а подчиняется воле российского государя, движимая чувством преданности Родине. Необычайная сила русского воина и вообще русского народа, его мощь и величие были изображены в этом произведении.
«Водопад»
В этой оде, написанной в 1791 году, главным становится образ ручья, символизирующего бренность жизни, земную славу и человеческое величие. Прототипом водопада стал Кивач, расположенный в Карелии. Цветовая палитра произведения богата разнообразными оттенками и цветами. Первоначально это было просто описание водопада, но после смерти князя Потемкина (неожиданно скончавшегося по дороге домой, возвращаясь с победой в русско-турецкой войне) Гаврила Романович добавил картине смысловое наполнение, и водопад стал олицетворять бренность жизни и наводить на философские размышления о различных ценностях.Державин был лично знаком с князем Потемкиным и не мог не откликнуться на его внезапную смерть.
Впрочем, Гаврила Романович был далек от восхищения Потемкиным. В оде ему противопоставлен Румянцев — вот кто, по мнению автора, истинный герой. Румянцев был настоящим патриотом, заботившимся об общем благе, а не о личной славе и благополучии. Тихий ручей образно соответствует этому герою в оде. Шумному водопаду противопоставляется невзрачная красота реки Суна с ее величественным и спокойным течением, прозрачной водой.Такие люди, как Румянцев, живущие спокойно, без суеты и кипящих страстей, могут отразить всю красоту неба.
Философские оды
Темы произведения Державина продолжают философское «На смерть князя Мещерского» (1779 г.), написанное уже после смерти наследника Павла. Причём смерть изображается образно, она «точит лезвие косы» и «точит зубы». Читая эту оду, сначала даже кажется, что это своеобразный «гимн» смерти.Однако заканчивается она обратным выводом — Державин призывает нас ценить жизнь как «моментальный дар небес» и прожить ее так, чтобы умереть с чистым сердцем.
Анакреонтическая лирика
Подражая античным авторам, создавая переводы их стихов, Державин создавал свои миниатюры, в которых чувствуется национальный русский колорит, быт, описывается русская природа. Классицизм в творчестве Державина также претерпел здесь свою трансформацию.
Перевод Анакреона для Гаврилы Романовича – это возможность попасть в царство природы, человека и жизни, которому не было места в строгой классицистической поэзии.Державина очень привлекал образ этого античного поэта, презирающего свет и любящего жизнь.
В 1804 году Анакреонтические песни были изданы отдельным изданием. В предисловии он объясняет, почему решил писать «легкие стихи»: такие стихи поэт писал в юности, но публикует сейчас, потому что оставил службу, стал частным лицом и теперь волен издавать все, что хочет.
Поздняя лирика
Одной из особенностей творчества Державина позднего периода является то, что в это время он практически перестает писать оды и создает преимущественно лирические произведения. В стихотворении «Евгений. Жизнь Званской», написанном в 1807 году, описываются будни домашнего двора старого дворянина, живущего в роскошном сельском родовом имении. Исследователи отмечают, что это произведение было написано в ответ на элегию Жуковского «Вечер» и носило полемический характер с зарождающимся романтизмом.
В стихотворении «Евгений. Жизнь Званской», написанном в 1807 году, описываются будни домашнего двора старого дворянина, живущего в роскошном сельском родовом имении. Исследователи отмечают, что это произведение было написано в ответ на элегию Жуковского «Вечер» и носило полемический характер с зарождающимся романтизмом.
К поздней лирике Державина относится и произведение «Памятник», наполненное верой в достоинство человека, несмотря на невзгоды, жизненные перипетии и исторические перемены.
Значение творчества Державина было очень велико.Преобразование классицистических форм, начатое Гаврилой Сергеевичем, было продолжено Пушкиным, а затем и другими русскими поэтами.
1. Вспомнить и записать пословицы и поговорки о книге.
2.Что означает слово фольклор в переводе с английского языка?
3. Определите, к какому жанру фольклора относится каждый из текстов:
а) Сон, сон.
Покупай, покупай, покупай!
Успокойся…
Спи, брызни.
Скорей к бороне.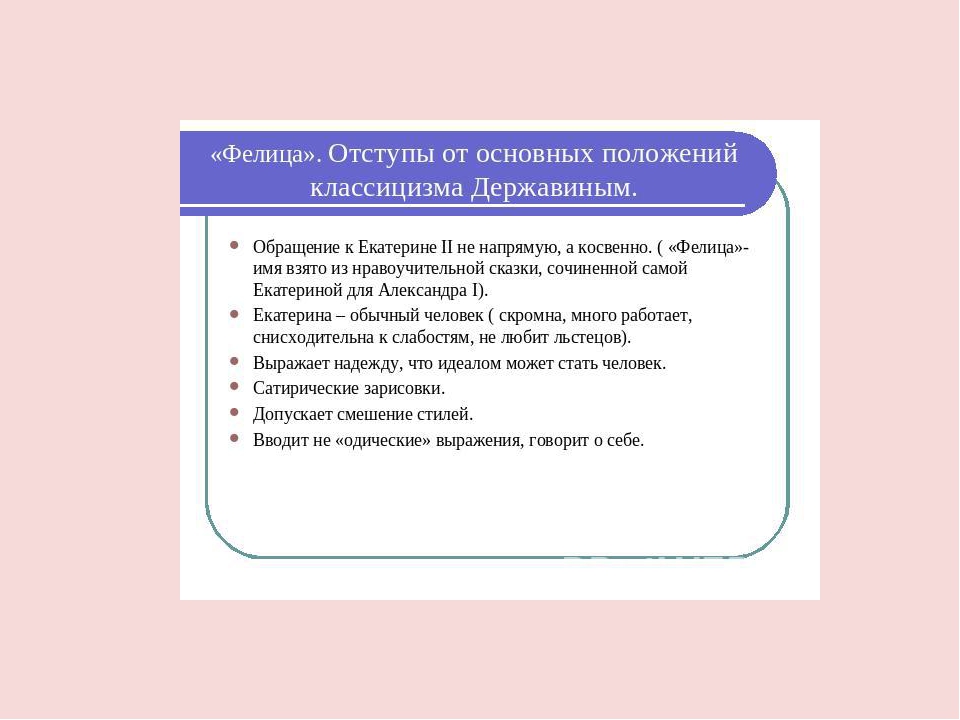 ..
..
б) Дождь, дождик, сильнее,
Я тебе дам густой …
в) Шапка сшита,
Да не по-колпаковски.
г) Галка по елке скачет,
Хвостом бьет березу.
На галку наехали разбойники,
С галки голубой кафтан сняли.
Не с чем ходить по городу.
Галка плачет, а взять ее негде…
д) Свет в поле зрения.
е) Один в поле не воин.
4. Из каких басен взяты эти пословицы, поговорки, афоризмы?
а) «Льстец всегда найдет уголок в своем сердце.
б) «А ларец только что открылся».
в) «Сильный всегда виноват перед бессильным».
г) «Все ли спели? Это дело. , Мопс! Знай, она сильная
Что лает на слона!
ф) «А Васька слушает и ест».
5. Из какого произведения эти строки?
а) «Там князь мимоходом
Пленит грозного царя…»
б) «Жили-были добрый царь Матвей;
Жил у своей царицы
Он в согласии много лет;
И детей до сих пор нет».
в) «Я вздохнул тяжело,
Восхищения не нёс
И умерла она массой…»
г) «Да были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри не вы».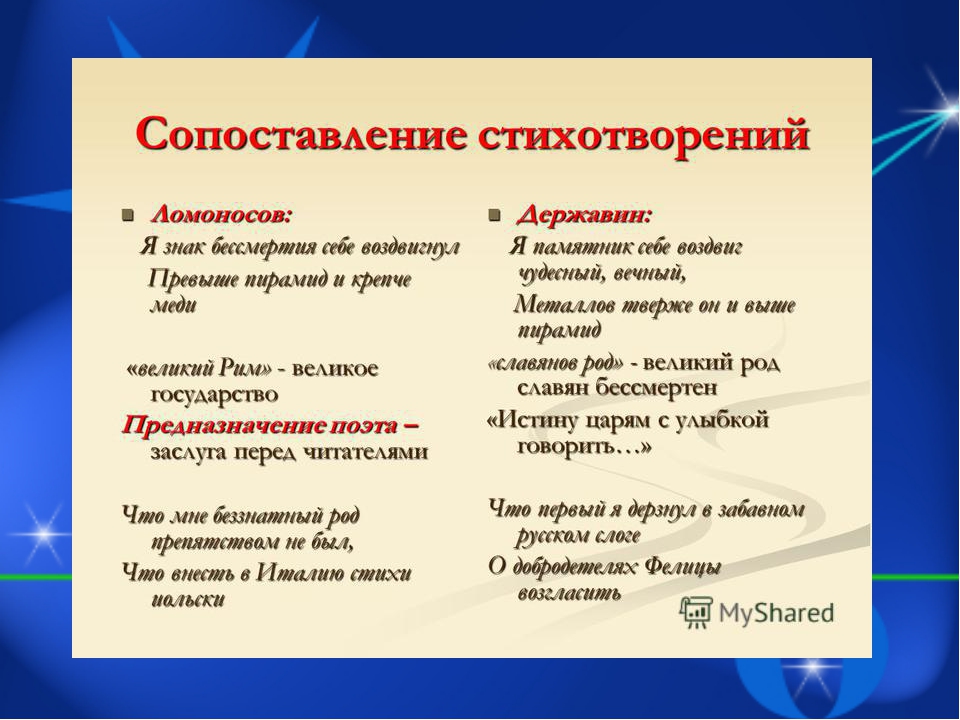
д) «Сваха приехала, король дал слово,
И приданое готово:
Семь торговых городов
Да сто сорок башен…»
6 Вот рукопись из бутылки пойманной в море. восстановить название рукописи, которая была частично повреждена? c_o_ _a_ _b_ _.
7. Кому из литературных или сказочных героев принадлежат следующие предметы или свойства? Назовите героя, произведение и автора.
Говорящее Чудесное Зеркало
Только серый дырявый свиток
Горох
Беломраморный мальчик
Острый сверкающий нож и меховая муфта
8. Перед вами стихотворение русской поэтессы ХХ века Марины Ивановны Цветаевой. Попробуйте объяснить, что переживает автор этих строк? Почему детство называют раем, «золотыми временами»? Какую роль в этом играют книги? Почему литературных героев друзья называют «золотыми именами»? Из каких произведений эти герои и кто их автор?
Книги в красном переплете
Из рая детской жизни
Ты шлешь мне прощальный привет,
Неизменные друзья
Потрепанный, красный переплет.
Получил небольшой урок
Я сразу же побежал к тебе.
— «Поздно!» — «Мама, десять строк!» …
Но, к счастью, мама забыла.
На люстрах дрожат огни…
Как хорошо иметь дома книгу!
При Григе, Шумане и Кюи
Я узнал судьбу Тома.
Темнеет… Воздух свеж…
Счастье Тома с Бекки полно веры.
Здесь с факелом Индеец Джо
Бродя во мраке пещеры…
Кладбище… Пророческий крик совы…
(Мне страшно!) Вот она летит по кочкам
Прием чопорной вдовы
Как Диоген живет в бочке.
Тронный зал ярче солнца
Над стройным мальчиком — корона…
Вдруг — нищий! Бог! Он сказал:
«Извините, я наследник престола!»
Ушли во тьму, кто в ней возник.
Судьба Британии печальна…
— О, почему среди красных книг
Не заснуть ли снова за лампой?
О золотые времена
Где взор смелее и сердце чище!
О, золотые имена:
Гекк Финн, Том Сойер, Принц и нищий!
1908-1910
9.Сколько «кавказских пленников» в русской литературе? Назовите авторов, которые так назвали свои произведения.
10. Поиграем в бурим — напишите стихотворение на заданные рифмы. Признаемся сразу, что эти рифмы взяты из стихотворения русского поэта М.Ю. Лермонтов.
сумасшедший — шумный
гранитный — покрытый
рожденный — помчится
герой — мирный
Гавриил Романович Державин занимает значительное место в русской литературе наряду с Д.И. Фонвизин и М.В. Ломоносов. Вместе с этими титанами русской литературы он входит в блестящую плеяду основоположников русской классической литературы эпохи Просвещения, восходящей ко второй половине XVIII века. В это время, во многом благодаря личному участию Екатерины II, в России бурно развивались наука и искусство.
Это было время появления первых русских университетов, библиотек, театров народных музеев и относительно самостоятельной прессы, хотя и весьма относительной и на короткий период, закончившейся появлением А.П. Радищев. К этому времени, как назвал его Фамусов Грибоедова, «век золотой Екатерины», относится наиболее плодотворный период деятельности поэта.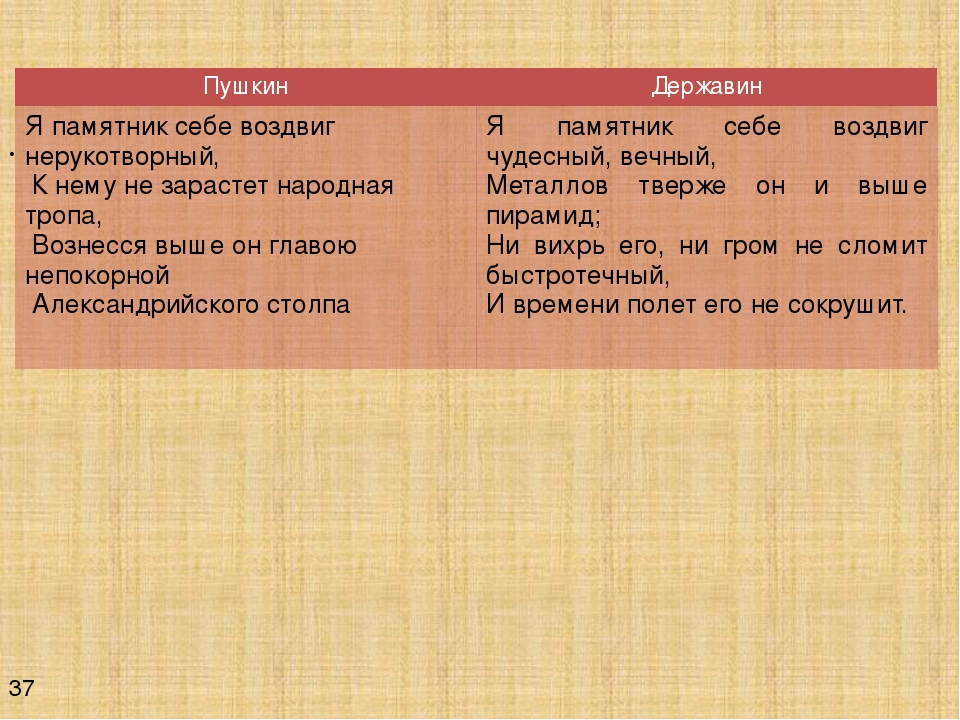
Жизнь
Будущий поэт родился 14 июля 1743 года в родовом имении Сокура под Казанью.
Еще в раннем детстве он потерял отца, офицера русской армии, и воспитывался матерью Фёклой Андреевной Козловой. Жизнь Державина была яркой и насыщенной, во многом благодаря его уму, энергии и характеру.Были невероятные взлеты и падения. По его биографии можно было написать приключенческий роман, основанный на реальных событиях. Но подробнее обо всем.
С 1762 года, как и подобает дворянским детям, принят в Преображенский полк рядовым опричником. В 1772 г. он стал офицером и с 1773 по 1775 гг. принимал участие в подавлении пугачевского мятежа. В это время с ним происходят два совершенно противоположных по смыслу и невероятности случая.Во время пугачевского бунта он полностью потерял свое состояние, но вскоре выиграл в карточную игру 40 000 рублей.
Только в 1773 году были опубликованы его первые стихи. К этому периоду его жизни относятся некоторые интересные факты его жизни. Как и многие офицеры, он не чурался кутежа и карт, чуть не лишивших Россию великого поэта. Карты довели его до шулерства, ради денег проделывались всякие неблаговидные уловки. К счастью, он смог вовремя осознать пагубность этого пути и изменить свой образ жизни.
Как и многие офицеры, он не чурался кутежа и карт, чуть не лишивших Россию великого поэта. Карты довели его до шулерства, ради денег проделывались всякие неблаговидные уловки. К счастью, он смог вовремя осознать пагубность этого пути и изменить свой образ жизни.
В 1777 году вышел в отставку с военной службы. Вступает в должность статского советника в Сенате. Стоит отметить, что он был неисправимым любителем правды, к тому же не особо преклонялся перед авторитетами, за что никогда не пользовался любовью последних. С мая 1784 по 1802 г. состоял на государственной службе, в том числе с 1791-1793 гг. кабинет-секретарь Екатерины II, но неумение вовремя открыть льстить и пресечь неприятные царственным ушам доклады способствовало тому, что он пробыл здесь недолго.За период службы он дослужился по карьерной лестнице до министра юстиции Российской империи.
Благодаря своему правдолюбию и непримиримому характеру Гавриил Романович не задерживался на каждой должности более двух лет из-за постоянных конфликтов с вороватыми чиновниками, что видно из хронологии его службы. Все попытки добиться справедливости вызывали лишь раздражение его высоких покровителей.
Все попытки добиться справедливости вызывали лишь раздражение его высоких покровителей.
Все это время занимался творческой деятельностью.Оды «Бог» (1784), «Гром победы, гряни!» (1791 г., неофициальный гимн России), хорошо известные нам по романам Пушкина «Дубровский», «Вельможа» (1794 г.), «Водопад» (1798 г.) и многим другим.
После выхода на пенсию жил в родовом имении Званка в Новгородской губернии, где все свое время отдавал творчеству. Он скончался 8 июля 1816 года.
Литературное творчество
Державин стал широко известен в 1782 году изданием оды «Фелица», посвященной императрице.Ранними произведениями являются ода на свадьбу великого князя Павла Петровича, изданная в 1773 году. Вообще ода занимает одно из главенствующих мест в творчестве поэта. До нас дошли его оды: «На смерть Бибикова», «О благородных», «На день рождения Ее Величества» и другие. В первых композициях чувствуется открытое подражание Ломоносову. Со временем он отошел от этого и взял за образец для своих од произведения Горация. Большинство его произведений было опубликовано в St.Петербургский вестник. Это: «Песни Петру Великому» (1778 г.), послание Шувалову, «На смерть князя Мещерского», «Ключ», «О рождении порфирового юноши» (1779 г.), «Об отсутствии императрица в Белоруссию», «Первому соседу», «Властителям и судьям» (1780).
Большинство его произведений было опубликовано в St.Петербургский вестник. Это: «Песни Петру Великому» (1778 г.), послание Шувалову, «На смерть князя Мещерского», «Ключ», «О рождении порфирового юноши» (1779 г.), «Об отсутствии императрица в Белоруссию», «Первому соседу», «Властителям и судьям» (1780).
Возвышенный тон, яркие образы этих произведений привлекли внимание писателей. Поэт привлек внимание общества своей «Одой к Феличе», посвященной королеве. Табакерка, усыпанная бриллиантами, и 50 дукатов стали наградой за оду, благодаря чему он был замечен королевой и публикой.Не меньший успех принесли ему оды «На взятие Измаила» и «Водопад». Встреча и близкое знакомство с Карамзиным привели к сотрудничеству в Карамзинском «Московском журнале». Здесь печатались его «Памятник герою», «На смерть графини Румянцевой», «Величество божье».
Незадолго до отъезда Екатерины II Державин подарил ей свое рукописное собрание сочинений. Это замечательно. Ведь расцвет таланта поэтессы пришелся именно на период ее правления. По сути, его творчество стало живым памятником царствования Екатерины II. В последние годы своей жизни он пытался экспериментировать с трагедиями, эпиграммами и баснями, но они не имеют такой высоты, как его поэзия.
По сути, его творчество стало живым памятником царствования Екатерины II. В последние годы своей жизни он пытался экспериментировать с трагедиями, эпиграммами и баснями, но они не имеют такой высоты, как его поэзия.
Критика была неоднозначной. От благоговения до почти полного отрицания его творчества. Лишь появившиеся после революции произведения Д. Грога, посвященные Державину, его усилия по публикации произведений и биография поэта позволили оценить его творчество.
Державин для нас — первый поэт той эпохи, чьи стихи можно читать без дополнительных комментариев и пояснений.
Главной заслугой Державина было приближение поэзии к жизни. В его произведениях впервые предстали перед читателем картины сельской жизни, современных политических событий, природы. Главным предметом изображения была человеческая личность, а не условный, вымышленный герой. Поэт говорил в стихах о себе — все это было ново и совершенно необычно для русской литературы.Рамки классицизма оказались для Державина тесными: в своем творчестве он отверг учение о жанровой иерархии. Низкое и высокое, грустное и смешное соединились в одном произведении, отражающем жизнь в ее единстве контрастов.
Низкое и высокое, грустное и смешное соединились в одном произведении, отражающем жизнь в ее единстве контрастов.
Державин-человек резко выделялся из массы современников своими умственными и нравственными качествами. Небогатый дворянин, Державин дослужился до самых высоких чинов, но не ладил ни с Екатериной II, ни с Павлом I, ни с Александром I. Причина всегда была одна — слишком усердно служил он делу, Родине, народу.
Ода «Фелица». Программной поэмой Державина, заставившей читателей сразу же заговорить о нем как о великом поэте, стала ода «Фелица». По словам В. Г. Белинского, «Фелица» — одно из «лучших произведений» Державина. В нем счастливо сочеталась полнота чувства с оригинальностью формы, в которой виден русский ум и слышится русская речь. Несмотря на значительный размах, эта ода проникнута внутренним единством мысли, от начала до конца выдержана по тону.Воплощая современное общество, поэт тонко воспевает Фелицу, сравнивая себя с ней и сатирически изображая ее пороки.
«Фелица» — яркий пример нарушения классицистической нормативности, прежде всего за счет сочетания оды с сатирой: образ просвещенного монарха противопоставляется собирательному образу злобного мурзы; -серьезно сказано о заслугах Фелицы; автор весело смеется над собой. Слог поэмы представляет собой, по Гоголю, «сочетание слов высшего с низшим.
Державинский образ Фелицы многогранен. Фелица — просвещенный монарх и в то же время частное лицо. Автор тщательно выписывает повадки Екатерины-человеки, ее образ жизни, черты характера:
Не подражая вашим мурзам,
Ходишь часто
А еда самая простая
Бывает за твоим столом
Новизна стихотворения заключается, однако, не только в том, что Державин изображает частную жизнь Екатерины II, сам принцип изображения положительного героя оказывается новым, по сравнению с Ломоносовым.Если, например, образ Елизаветы Петровны у Ломоносова чрезвычайно обобщен, то и здесь комплиментарная манера не мешает поэту показать конкретные дела правительницы, ее покровительство торговле и промышленности, она и есть тот самый «бог», по поэту,
Кто даровал свободу
Чтобы прыгнуть в чужие края,
Пусть его люди
Серебро и золото ищут;
Который разрешает воду
И не запрещает рубить лес;
Заказы и ткачество, и прядение, и шитье;
Раскрепощение ума и рук
Приказ любить трейдинг, науку
И найти счастье дома.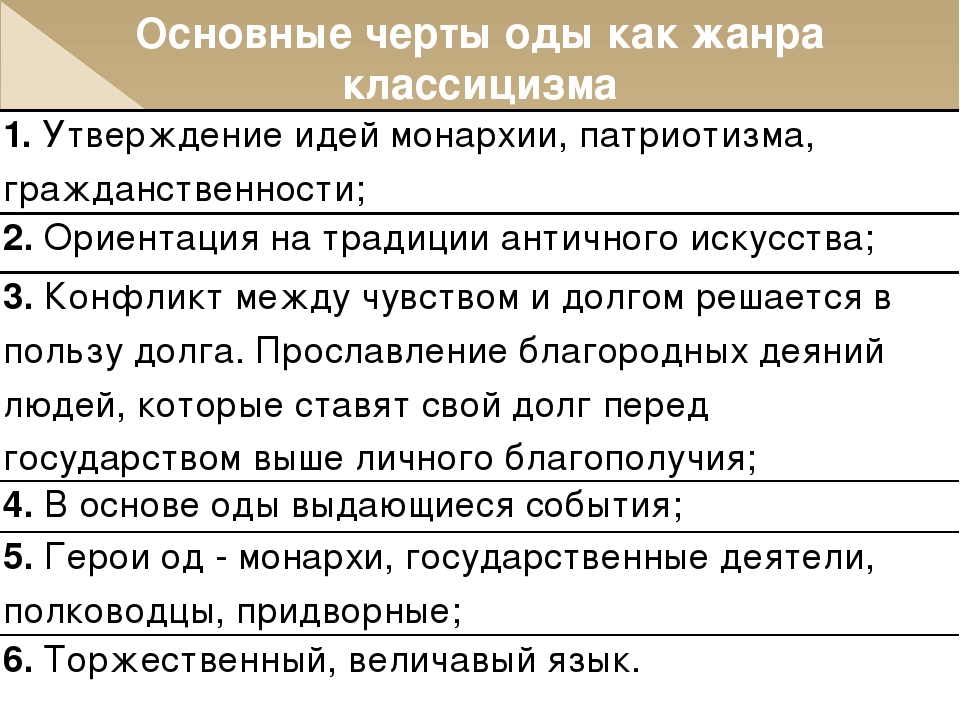
Фелица «просвещает нравы», пишет «в сказки наставления», но смотрит на свои «любезные» стихи как на «вкусный лимонад летом». Оставаясь в рамках похвалы, Державин следует истине и, может быть, сам того не замечая, показывает ограниченность Екатерины-писательницы, стремившейся развивать литературу в духе охранительных идей.
Державин, как и его предшественники, противопоставляет современное царствование предыдущему, но опять же делает это предельно конкретно, с помощью нескольких выразительных бытовых деталей:
Там именем Фелица можно
Соскоблить линия …
В этой оде поэт сочетает восхваление императрицы с сатирой на ее окружение, резко нарушая жанровую чистоту, за которую ратовали классицисты. В оде появляется новый принцип типизации: собирательный образ мурзы не равен механической сумме нескольких абстрактных «портретов». Державинский Мурза — сам поэт с присущей ему откровенностью, а иногда даже лукавством. И в то же время в нем отразились многие характерные черты конкретных екатерининских дворян.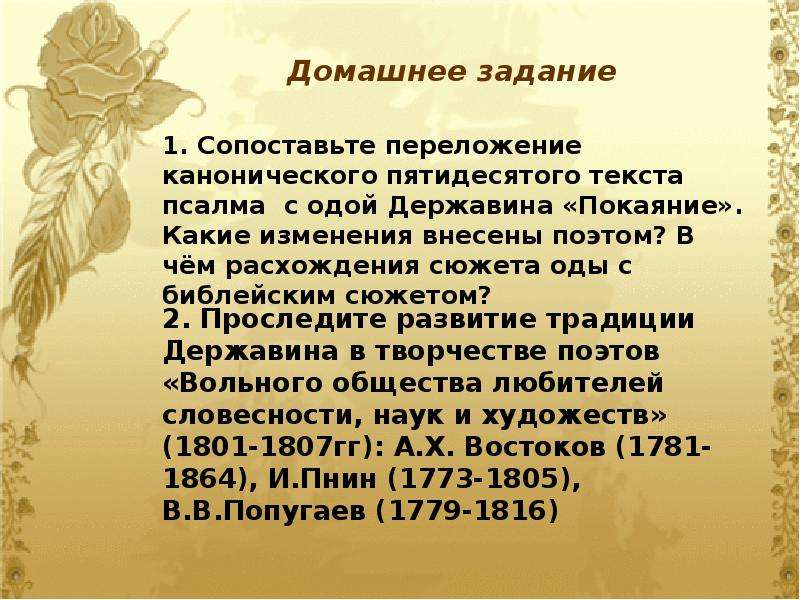 Вот поэт, живущий роскошно, как Потемкин; уходит со службы на охоту, как Л. И. Панин; не дает соседям спать по ночам, развлекаясь похотливой музыкой, как С.К. Нарышкин; подбадривает дух кулачными боями, как А. Г. Орлов; просвещает свой ум, читая Полкана и Бову, как А. А. Вяземский. Теперь для установки прототипов мурзы нужны комментарии. Современники Державина узнавали их без труда. Типичность образа мурзы была ясна и самому поэту – он закончил рассказ о нем многозначительными словами: «Таков уж, Фелица, развратный я! Но весь мир похож на меня.
Вот поэт, живущий роскошно, как Потемкин; уходит со службы на охоту, как Л. И. Панин; не дает соседям спать по ночам, развлекаясь похотливой музыкой, как С.К. Нарышкин; подбадривает дух кулачными боями, как А. Г. Орлов; просвещает свой ум, читая Полкана и Бову, как А. А. Вяземский. Теперь для установки прототипов мурзы нужны комментарии. Современники Державина узнавали их без труда. Типичность образа мурзы была ясна и самому поэту – он закончил рассказ о нем многозначительными словами: «Таков уж, Фелица, развратный я! Но весь мир похож на меня.
Введение личности в поэзию было смелым, но необходимым шагом, подготовленным самой логикой художественного развития. Стихи Державина раскрывают во всей полноте и противоречивости образ его современника, естественного человека, с его падениями и взлетами.
Нововведением Державина было также включение в оду образца натюрморта — жанра, который затем блестяще проявится в других его стихотворениях: «Есть славный вестфальский окорок, // Есть звенья астраханских рыб, // Там это плов и пироги.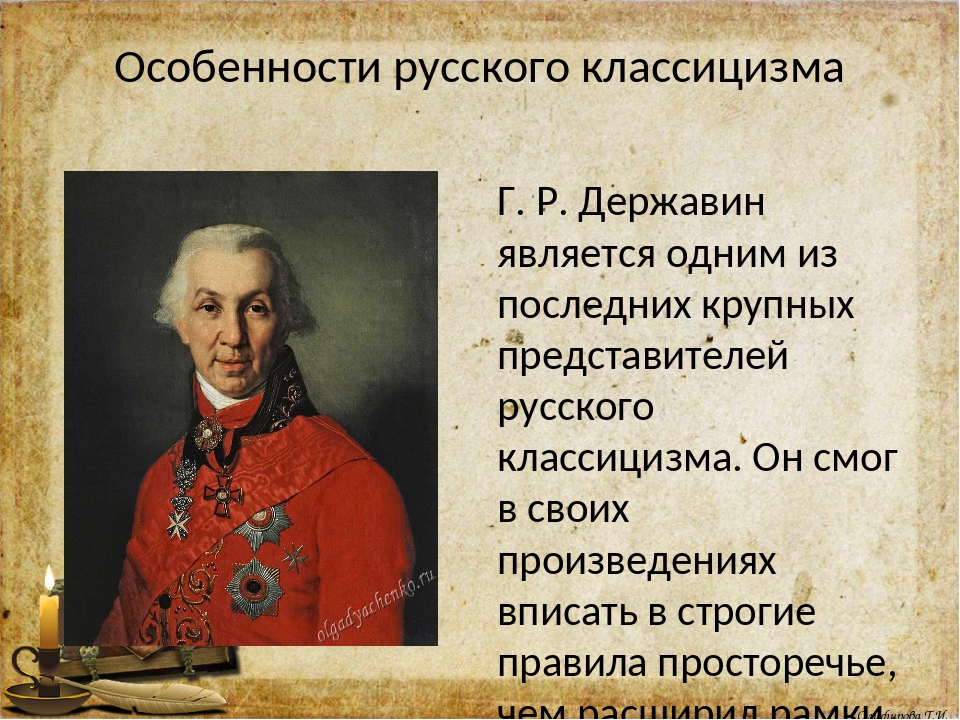 ..». Новаторский характер произведения был замечен современниками.
..». Новаторский характер произведения был замечен современниками.
Ода «Богу». Это произведение является вдохновенным гимном всемогуществу человеческого разума. Поэт начал работать над ним в 1780 году и закончил в 1784 году. Державин, вслед за Ломоносовым, подходит к понятию божества как деист.Бог для него есть начало начал, по существу это вся природа, вся вселенная, которая «все наполняет собой, объемлет, созидает, сохраняет». Используя богословские термины, Державин пишет о вечном движении матерей:
О ты, бесконечное пространство,
Живой в движении материи;
Течение времени вечное,
Безликое, в трех ликах божества!
При этом он поясняет, что три лица обозначают вовсе не теологическую троицу, а «три метафизические лица; то есть бесконечное пространство, бесконечную жизнь в движении субстанций и бесконечное течение времени, которое Бог сочетает в себе самом». .Время, пространство и движение, по Державину, атрибуты природы. Державин пишет о необъятности мироздания, о множественности миров:
Светила зажгли миллионы
Текут в неизмеримости,
Твои законы творят
Лучи
Как истинный деист говорит о наличии божественного импульса:
Ты свет, откуда исходил свет
Кто сотворил все одним словом, один,
Ты был, ты есть, ты будешь навсегда.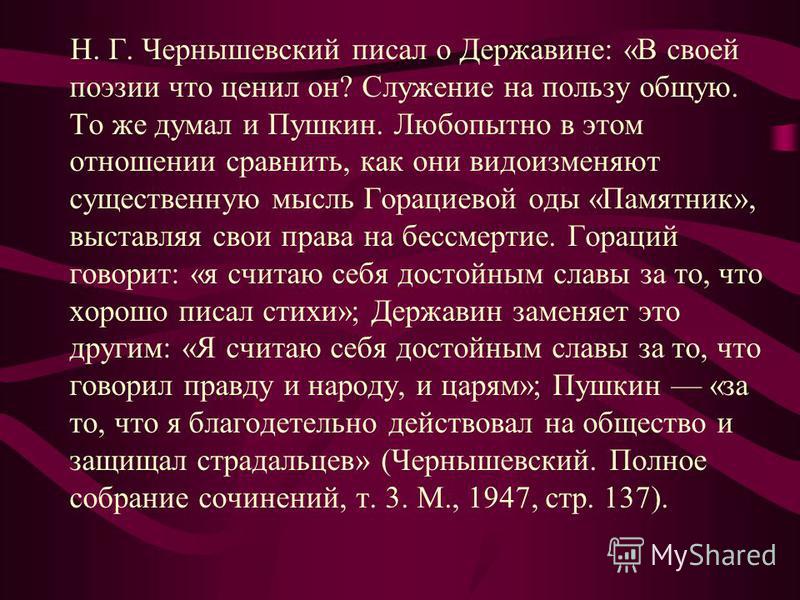
Державин не мог не думать в оде «Бог» о месте человека во вселенной:
Как капля в море, капнула
Весь небосвод пред тобою таков.
Но что мне видимая вселенная?
А что я перед тобой?
Заметно изображая ту ничтожную ценность, которую представляет человек по сравнению с мирозданием, Державин с гордостью говорит о его возможностях, о силе человеческой мысли, стремящейся постичь мир, способной «Измерить глубины океана, // Соединить пески, лучи планет» и дерзновенно восходят к непостижимому богу.
Человек не просто пылинка в хаосе мира. Он часть общей системы мироздания, он занимает свое определенное и очень важное место среди живых существ:
Я соединение миров, существующих повсюду,
Я крайняя степень субстанции;
Я — средоточие живых
Главная черта божества.
Человек – средоточие мироздания, самое совершенное существо на земле. Державин высоко ценит свои силы и возможности.
«Водопад». В стихотворении «Водопад» Державин снова возвращается к теме быстротечности жизни и задается вопросом, что такое вечность, кто из людей имеет право на бессмертие.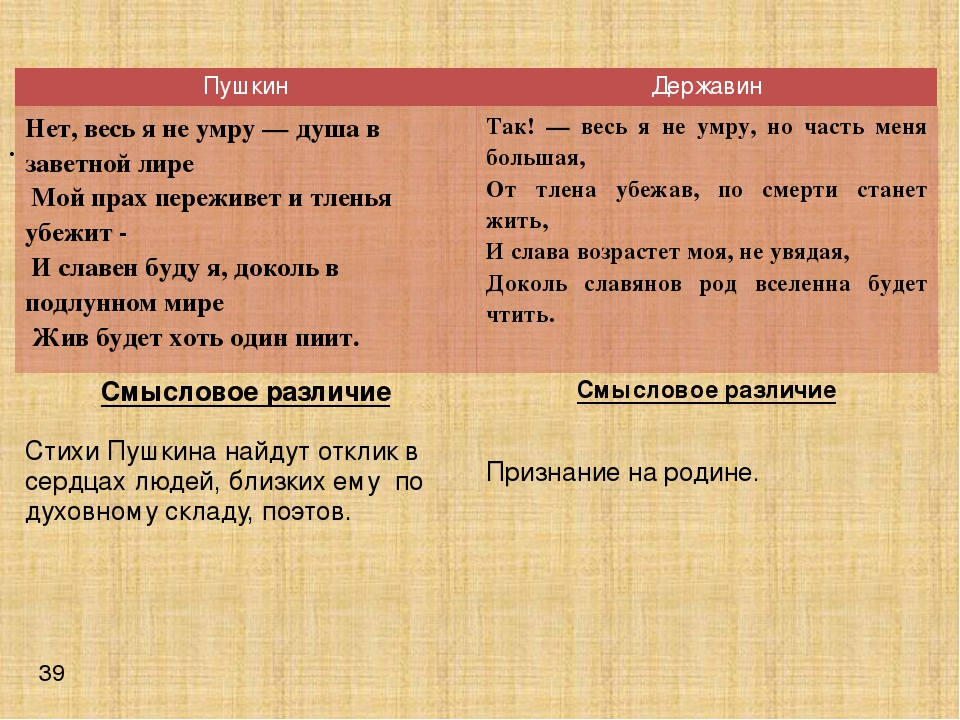 Великолепная картина водопада, открывающая стихотворение, содержит аллегорию: водопад — это быстротекущее время, а волк, олень и конь, приходящие к нему, — знаки таких человеческих качеств, как гнев, кротость и гордость:
Великолепная картина водопада, открывающая стихотворение, содержит аллегорию: водопад — это быстротекущее время, а волк, олень и конь, приходящие к нему, — знаки таких человеческих качеств, как гнев, кротость и гордость:
Не жизнь ли нам человеческая
Не представляет ли этот водопад?
Он же и благословение своих струй
Дает воду надменным, кротким, злым.
Не то ли время льется с неба
Желание страстей кипит…
Большинство человеческих судеб бесследно исчезают в вечности, и лишь немногие остаются в памяти потомков. Чтобы решить, кто достоин бессмертия, Державин сравнивает два типа фигур — Потемкина и Румянцева.
Сидит у водопада некий седовласый муж и размышляет о том, что значит быть полезным отечеству. Это полководец Румянцев, явно идеализированный Державиным, которого поэт противопоставляет Потемкину, дворянину, уделявшему себе слишком много внимания.В то же время поэт рассказывает о многих полезных делах и о личных заслугах Потемкина, благодаря которым простые солдаты любили его и ненавидели знать.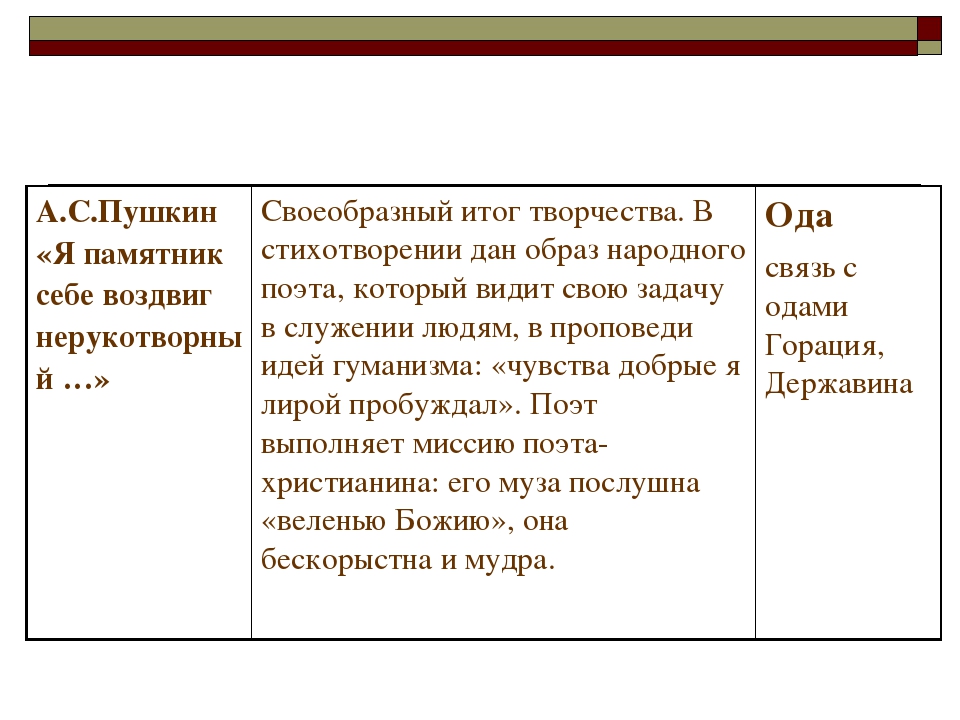
Но Державин не находит ни одного доброго слова в адрес преемника Потемкина Платона Зубова. Поэт говорит об этом ничтожестве, способном лишь «испортить» деяния своего предшественника, с губительным презрением, говоря о нем, как о черве, ползающем вокруг праха героя.
Вновь возвращаясь в конце оды к теме водопада, Державин отождествляет его одновременно и с Потемкиным, и со всеми земными правителями — «водопадами мира», и, между строк, с самой веком Екатерины II: блестящий, великолепный, шумный — и жестокий, страшный, кровавый.И не избитая мораль, не сухая мораль, а горький упрек, безнадежная мечта о лучшем будущем звучит последним воззванием поэта:
Правда одна дает венцы
Заслуги, которые не увядают;
Певцы поют только правду
То, что никогда не умолкнет
Гремящие перуны сладких лир;
Только праведник — святой идол.
Слушайте, водопады мира!
О шумные главы славы!
Твой меч светлый, цветной порфир,
Если любил ты правду,
Когда были только мета,
Чтоб счастье на свет доставить.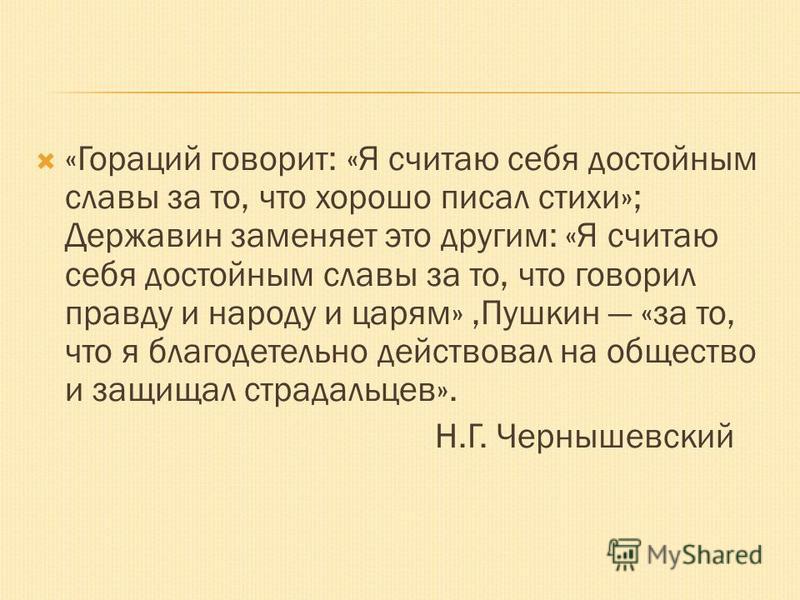
Более четырех лет Державин работал над «Водопадом», но сумел создать впечатление, что стихотворение написано сразу, по вдохновению, «на одном дыхании» под впечатлением необычной смерти потемкинской «любимицы счастья». И это роднит «Водопад» с романтизмом начала 19 века, утверждавшим, что источником истинной поэзии является вдохновение поэта.
Художественные особенности оды: общая торжественная тональность поэмы, сумрачно-возвышенный колорит, титанические образы в духе северных сказаний и народных былин — окончательно делают «Водопад» одним из первых романтических стихотворений русской поэзии.
Державин сыграл выдающуюся роль в истории русской литературы. На его достижения опирались все поэты первых десятилетий девятнадцатого века.
Особой заслугой поэта следует признать его художественное исследование диалектики бытия макро- и микрокосмоса. Отсюда излюбленный поэтический прием поэта — антитеза. Ему иногда удается выявить диалектическую связь противоречий в их единстве. Замечательны в этом отношении следующие строки из оды «Бог»:
Замечательны в этом отношении следующие строки из оды «Бог»:
Телом своим тлею в прах,
Разумом повелеваю громам,
Я царь — я раб — я червь — я я бог!
Возрождению поэзии способствовал «веселый русский стиль» Державина.Соединив слова «высокий» и «низкий», Державин освободил русскую поэзию от оков теории «трех спокойствий», открыв путь к развитию реалистического языка. Недаром В. Г. Белинский говорил, что «Державин — отец русских поэтов», что он «будет первым живым глаголом нашей русской поэзии».
По В. Западову, В. Федорову.
в чем заслуга Державина перед русской литературой? и получил лучший ответ
Ответ от Динамовец В духе [гуру]
Гаврила Романович Державин — великий русский поэт конца XVIII века, один из титанов могучего русского слова, сыгравший огромную роль в освобождении русской литературы от классицизма и формирования элементов будущего реалистического стиля.Место поэта в русской литературе очень точно определил В. Г. Белинский: «С Державина начинается новый период русской поэзии, и как Ломоносов был ее первым именем, так Державин был вторым. В Державине русская поэзия сделала большой шаг вперед. вперед.» Исторической заслугой поэта является введение им в поэзию «обычного поэтического слова». Державин сузился в рамках трех стилей, установленных Ломоносовым. Он снял их и, по словам А. В. Западова, «тем самым….. вводил в поэзию русскую разговорную речь и энергично содействовал укреплению национально-демократических основ нашего литературного языка».
В Державине русская поэзия сделала большой шаг вперед. вперед.» Исторической заслугой поэта является введение им в поэзию «обычного поэтического слова». Державин сузился в рамках трех стилей, установленных Ломоносовым. Он снял их и, по словам А. В. Западова, «тем самым….. вводил в поэзию русскую разговорную речь и энергично содействовал укреплению национально-демократических основ нашего литературного языка».
Гражданские оды Державина обращены к лицам, наделенным большой политической властью: монархам, дворянам. не только к хвалебному, но и обличительному пафосу.В оде «Фелица» Державин-просветитель видит в монархе человека, которому обществом доверено заботиться о благе граждан, поэтому право быть монархом возлагает многочисленные обязанности на правителя по отношению к народу.Новаторство Державина в этой оде не только в трактовке образа просвещенного монарха, но и в смелом сочетании хвалебного и обличительного начал — оды и сатиры. Это сочетание является явлением просветительской литературы, ибо просветители понимали жизнь общества как постоянную борьбу между истиной и заблуждением.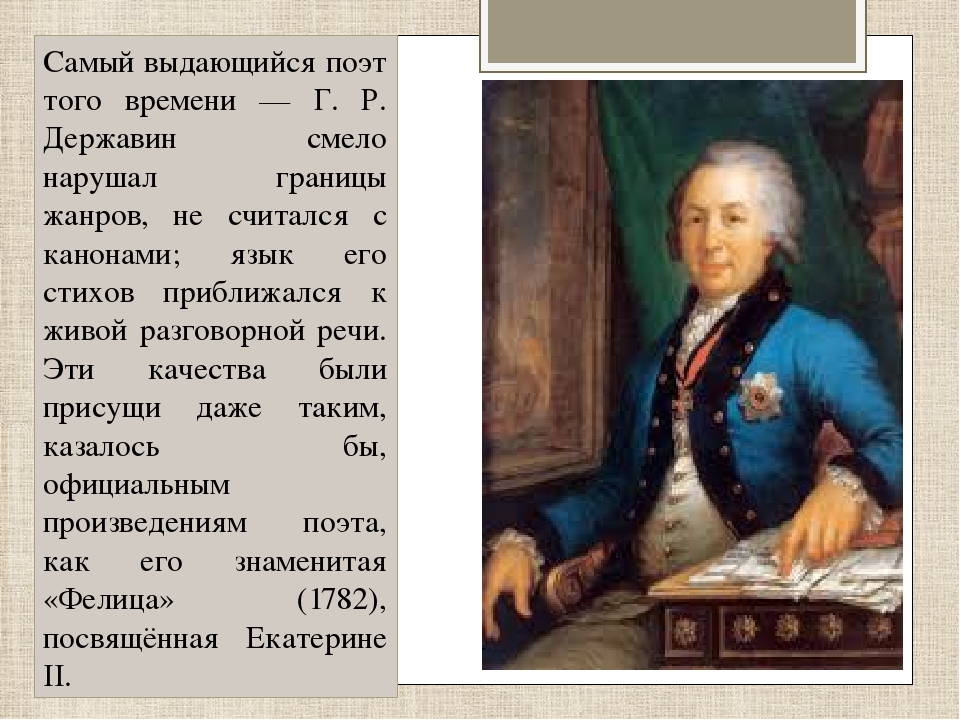
В оде «Дворянину» Державина зло, возникающее от равнодушия дворян к своему долгу, представлено с таким негодованием, какое можно проследить лишь в некоторых произведениях того времени.Поэта возмущает положение людей, страдающих от преступного отношения придворных. В поэме «Властителям и судьям» равнодушие и алчность власть имущих не оставляют поэта равнодушным, и он требует наказания виновных. Поэт напоминает царям, что они так же смертны, как и их подданные, и рано или поздно предстанут перед судом
Божьим. В «Памятнике» Державина — идея права их авторов на бессмертие. В этом стихотворении поэт вспоминает, что он первый осмелился отказаться от торжественного, помпезного стиля од.
Державин настаивал на своем человеческом достоинстве и независимости своего суждения о современности. Этим Державин разъяснял мысль о личной ответственности поэта за свои суждения, мысль об искренности и правдивости его идейной пропаганды, что очень важно для дальнейшего развития прогрессивной русской литературы. Предшественники Державина — Кантемир, Ломоносов, Сумароков — тоже были вполне правдивы и искренни, проповедуя свои идеи.Но они думали, что для читателя важно не мнение поэта, а всеобщее доказательство его произведений, что их устами говорит само государство или сама правда, — и ценность этих высоких идей перевешивала вопрос о личный авторитет поэта-человека.
Предшественники Державина — Кантемир, Ломоносов, Сумароков — тоже были вполне правдивы и искренни, проповедуя свои идеи.Но они думали, что для читателя важно не мнение поэта, а всеобщее доказательство его произведений, что их устами говорит само государство или сама правда, — и ценность этих высоких идей перевешивала вопрос о личный авторитет поэта-человека.
Державин писал иначе, чем его предшественники. Он учил и судил людей именно как человек-поэт, стал авторитетом нового идейного характера. Державин — монархист. Он сохраняет свою свободную власть гражданина и чувствует, что самодержавие ее ухудшает:
От страха скованного цепями
И рождённого под розгой
Можно ли с орлиными крыльями
К солнцу умом воспарить?
И когда они взлетят,
Чувствуем наше ярмо…
Раб не может хвалить,
Он может только льстить.
В 1796 г. Державин в оде «князю афинскому» прославил А. Г. Орлова, находившегося в опале, и в начале своей оды подчеркнул значение самостоятельности и правдивости похвалы и осуждения в творчестве поэта и в его Работа.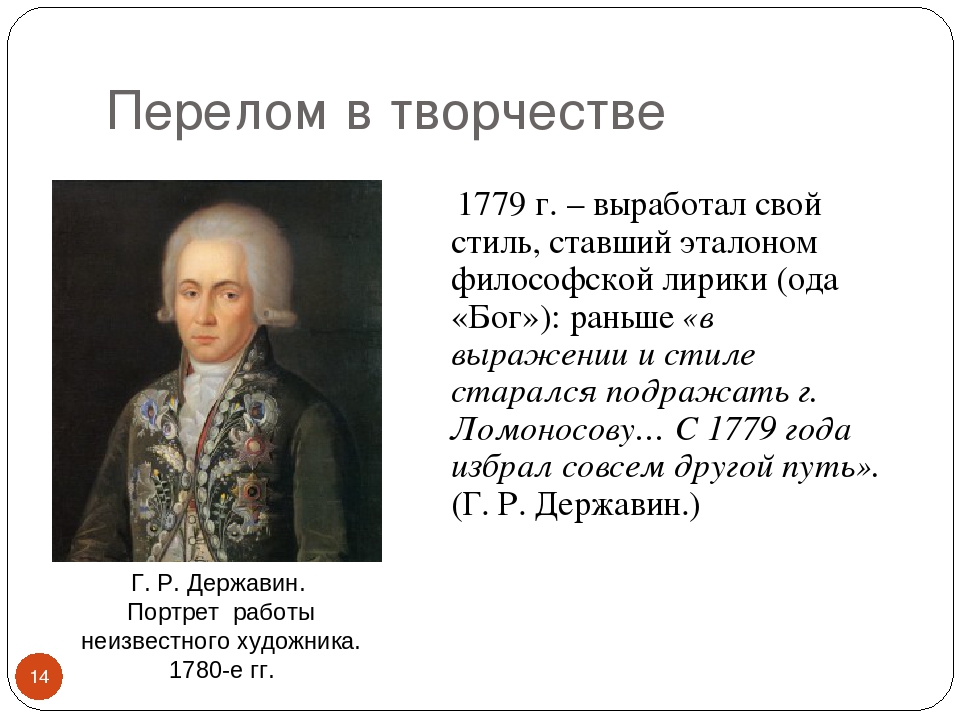
В своей похвале Державин был искренен и хотел, чтобы читатели поверили в его искренность. «Фелицу» — Екатерину, — пел он увлеченно, такой она казалась ему издалека.
Обзор книги
Том.13, № 2, весна 2005 г., Охватывая страны бывшего Советского Союза, Центральной и Восточной Европы .
Обзор книги
Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского университета, 1994.
.Отзыв Олега П. Турлака.
Евангельские тексты в русской литературе XVIII-XX веков представляет собой сборник материалов международной конференции по этому прошла в Петрозаводском государственном университете, Карелия, Россия, 7-12 июня 1993.Авторы тома пролили новый свет на современные темы в Русская литература.
Во введении профессор Петрозаводского гос.
Университет пишет, что большинство публикаций по истории русской
литература не понимает его духовной сущности. Хотя многое имеет
было написано в прошлом веке об уникальности и национальной
самобытность русской литературы, ее христианская сущность редко
был признан. Однако, пишет Захаров, «христианство было столь же естественным
на душу россиян как то что Волга впадает в Каспий
Море.» 1
Хотя многое имеет
было написано в прошлом веке об уникальности и национальной
самобытность русской литературы, ее христианская сущность редко
был признан. Однако, пишет Захаров, «христианство было столь же естественным
на душу россиян как то что Волга впадает в Каспий
Море.» 1
Само понятие русской литературы связано с христианством. В в отличие от тех культур, которые имели письменный язык до приняв христианство, русское христианство и язык, и таким образом литературы, неразделимы. Фактически, Захаров использует термин слово ( слово/логос ) вместо литература в своих ссылках на историческое принятие Россией слова (Слова) Христа. 2
Современная русская литература резонирует с темами Бога, Христа,
и христианство.В XVIII веке Михаил Ломоносов писал в
его оды величию Бога. Кто в России не знает Гавриила
оды Державина под названием Бог ( Бог ) и Христос ( Христос )?
А в девятнадцатом и двадцатом веках произведения Федора
Достоевский, Федор Тютчев, Афанасий Фет, Александр Блок, Борис
Пастернака и Анны Ахматовой наполнены христианскими образами.
Русские писатели часто выбирали христианские имена для героев их романы.Они также относились к религиозным праздникам, таким как Рождество, Преображение Христово и Пасха как неразрывные части Русская жизнь. Образ Преображения Христова глубоко сплетен у Пастернака Доктор Живаго . Само название Живаго есть взято из евангельского повествования о Преображении (Матфея 17:1-11), когда Иисус открылся ученикам как Сын Бога живого. Слово живое переводится на русский язык как живого . 3 Таким образом, имя Живаго подразумевает образ изменения, преображения, преображения.
В романе Достоевского Преступление и наказание ( Преступление и наказание ), Родион Романович Раскольников, глубоко боровшийся с духовной вопросы, положил Новый Завет под подушку. Это был этот драгоценный книгу, которую он просил Соню Мармеладову принести ему в самое трудный момент его жизни. 4
В Братя Карамазовы, ( Братья Карамазовы ) Алеша
имеет видения отца Зосимы и Христа в контексте венчания
в Кане Галилейской (Иоанна 2:1-12).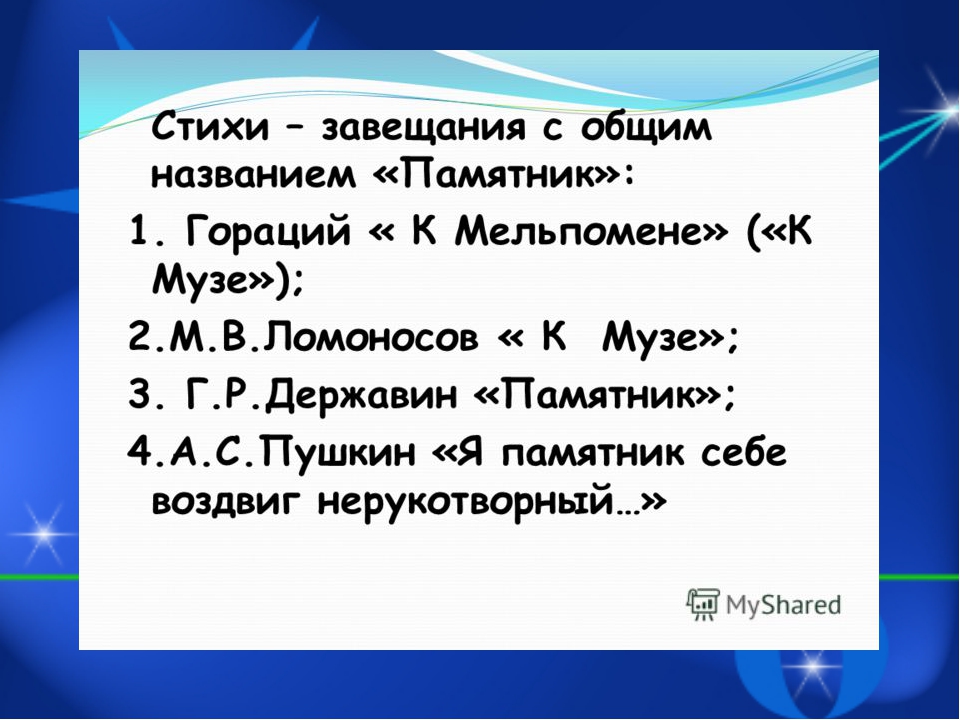 Достоевский пишет: «Христос посещает
люди не только тогда, когда они скорбят, но и когда переживают
радость. Совершив чудо, он увеличил их радость. . . .Кто бы ни
любит людей, любит и их радость». 5
Достоевский пишет: «Христос посещает
люди не только тогда, когда они скорбят, но и когда переживают
радость. Совершив чудо, он увеличил их радость. . . .Кто бы ни
любит людей, любит и их радость». 5
Даже в советский период, утверждает Захаров, русская литература не был систематически и всецело антихристианским. Несмотря на презрение и отвергнутый основным советским литературным истеблишментом, Борис Пастернаку, Анне Ахматовой и Александру Солженицыну удалось изобразить Христианские ценности и образы в их написании. 6 После распада Советского Союза их работы пользовались большим спросом.
Евангельские тексты в русской литературе XVIII-XX веков служит чрезвычайно полезным инструментом для изучения русского языка.
литературы, культуры и менталитета. Те, у кого были разговоры
с русскими знаю, насколько их язык насыщен примерами,
метафоры и аналогии, взятые из классических литературных произведений
таких почитаемых русских писателей, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь и
Булгаков.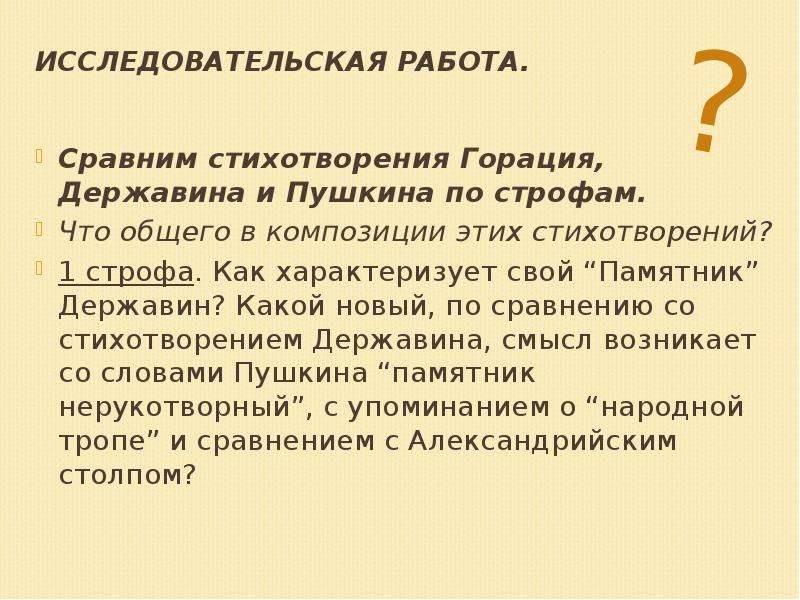 Редко разговор проходит без сравнения настоящего
реалии жизни к изображенным в произведениях Федора Достоевского
и Лев Толстой.
Редко разговор проходит без сравнения настоящего
реалии жизни к изображенным в произведениях Федора Достоевского
и Лев Толстой.
В постсоветское время как русская христианская культура и религиозная возрождение сознания, русские способны восстанавливать свои духовных корней отчасти путем повторного знакомства с библейскими темы, отраженные в литературе. Миссионеры, работавшие в бывшем Советскому Союзу непременно следует ознакомиться с русскими литературы и получить доступ к этому богатому источнику духовного понимания.
Источники:
- В. Н. Захаров, «Русская литература и христианство» в Евангелический текст в русской литературе XVIII-XX веков (ПГУ, 1994), 5.
- Там же. , 6.
- Там же. , 10.
- Федор Достоевский, Преступление и наказание (Нью-Йорк: Рэндом Хаус, 1956), 492-93.
- А.Е. Кунильский, «Проблема ‘Смех и христианство’ в романе Достоевского ‘Братья Карамазовы'» в Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков (ПГУ, 1994), 195.
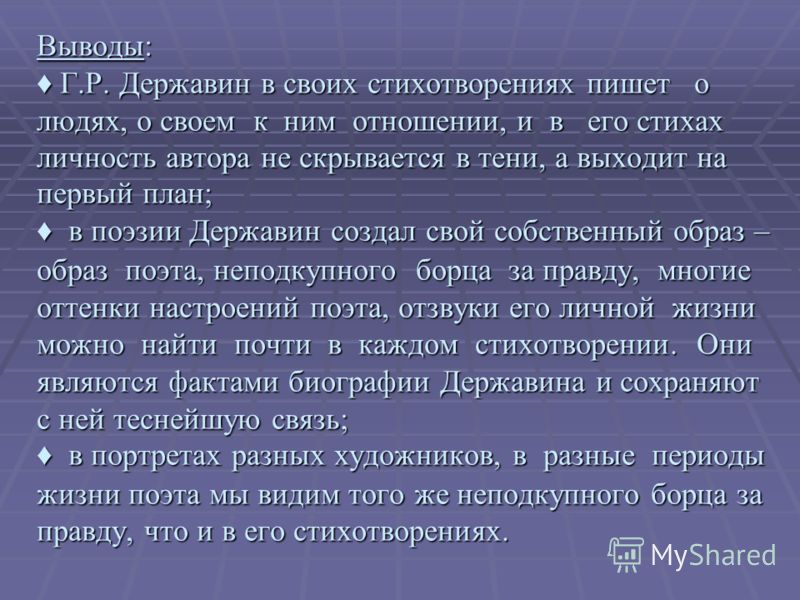
- Захаров, «Русская литература и христианство», 11.
Олег П. Турлак — профессор богословия Колледжа Богословие и образование, Кишинев, Молдова, и доктор министерства кандидат в Школе богословия Бисона, Сэмфордский университет, Бирмингем, Алабама.
Олег П. Турлак, Рецензия на Евангелический текст в русской литературе XVIII-XX веков , Восток-Запад Церковь и служение Отчет 13 (весна 2005 г.), 14-15.
Для перепечатки или электронного распространения любой части отчета East-West Church & Ministry Report требуется письменное разрешение.
Отчет церкви и служения Восток-Запад за 2005 г.
ISSN 1069-5664
Отчет EWC&M | Содержание | Искать Назад Проблемы | От наших читателей | Подписаться
Обратная связь .


 «Старшие» писатели, как правило, выступают как доноры, чья дальнейшая творческая судьба после передачи «наследства» перестает быть актуальной для описываемого фрагмента литературной истории. Такова судьба позднего Державина в русском литературоведении, о чем нам уже приходилось писать [Фрайман 2004]: он занимал исследователей только как персонификация одической лирики XVIII в.
«Старшие» писатели, как правило, выступают как доноры, чья дальнейшая творческая судьба после передачи «наследства» перестает быть актуальной для описываемого фрагмента литературной истории. Такова судьба позднего Державина в русском литературоведении, о чем нам уже приходилось писать [Фрайман 2004]: он занимал исследователей только как персонификация одической лирики XVIII в.
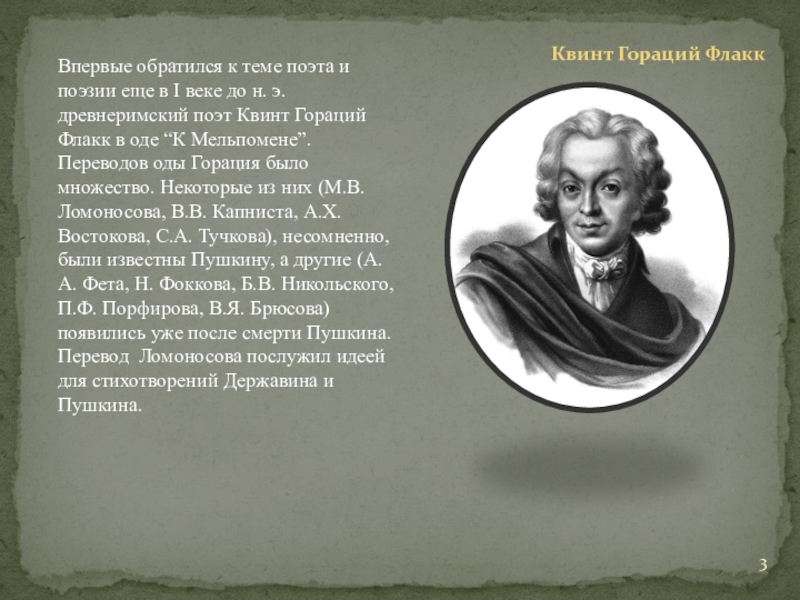 нашу статью; впервые на это было указано В. А. Западовым [Западов: 150154]). Как пишет исследователь, Державин начал
нашу статью; впервые на это было указано В. А. Западовым [Западов: 150154]). Как пишет исследователь, Державин начал
 24 марта 1807 г. С. П. Жихарев читает в присутствии Державина и Шишкова элегию Жуковского «Сельское кладбище», чтобы уверить присутствующих, что перевод Жуковского «несравненно превосходнее» перевода П. И. Кутузова:
24 марта 1807 г. С. П. Жихарев читает в присутствии Державина и Шишкова элегию Жуковского «Сельское кладбище», чтобы уверить присутствующих, что перевод Жуковского «несравненно превосходнее» перевода П. И. Кутузова:
 И. Тургеневу, обвиняя Жуковского в нарушении авторских прав и получении незаконной прибыли. На уверения Тургенева, что о проекте издания они Державину сообщили и представили список стихотворений, включаемых в собрание, тот отвечал совсем уже раздраженно и обещал жаловаться правительству1. В 1811 г. поэт сочиняет эпиграмму «На издателя чужих стихотворений». В последующие выпуски «Собрания» его сочинения включены не были. В апреле 1816 г. Жуковский лично был представлен Карамзиным Державину. Последний пригласил их и П. А. Вяземского к себе на обед. Но Карамзин, обремененный официальными визитами, не смог принять приглашение, и его молодые друзья отправились к Державину одни. Старик был не в духе, и визит быстро закончился (см. об этом: [Грот: 618619]). Наконец, в июне 1816 г. Державин послал Жуковскому только что вышедший пятый том своих сочинений; в ответном письме Жуковский благодарил его:
И. Тургеневу, обвиняя Жуковского в нарушении авторских прав и получении незаконной прибыли. На уверения Тургенева, что о проекте издания они Державину сообщили и представили список стихотворений, включаемых в собрание, тот отвечал совсем уже раздраженно и обещал жаловаться правительству1. В 1811 г. поэт сочиняет эпиграмму «На издателя чужих стихотворений». В последующие выпуски «Собрания» его сочинения включены не были. В апреле 1816 г. Жуковский лично был представлен Карамзиным Державину. Последний пригласил их и П. А. Вяземского к себе на обед. Но Карамзин, обремененный официальными визитами, не смог принять приглашение, и его молодые друзья отправились к Державину одни. Старик был не в духе, и визит быстро закончился (см. об этом: [Грот: 618619]). Наконец, в июне 1816 г. Державин послал Жуковскому только что вышедший пятый том своих сочинений; в ответном письме Жуковский благодарил его:
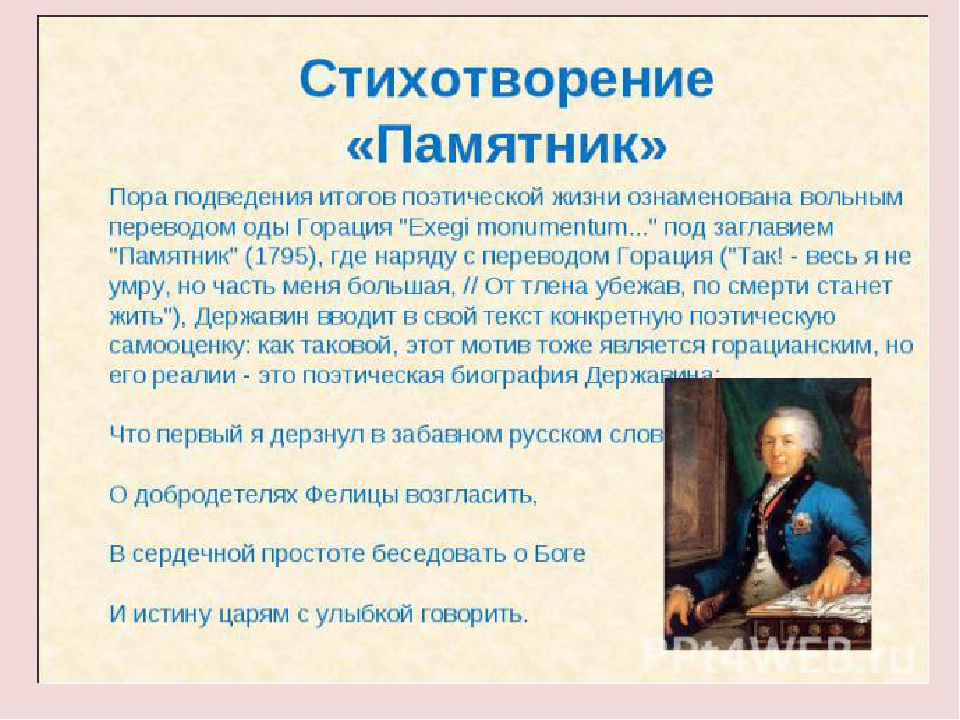 Однозначного решения вопроса о времени создания этого текста пока нет.
Однозначного решения вопроса о времени создания этого текста пока нет.
 Как нам представляется, более глубокое его изучение и привлечение нового материала позволит дополнить картину творческих отношений двух поэтов.
Как нам представляется, более глубокое его изучение и привлечение нового материала позволит дополнить картину творческих отношений двух поэтов.

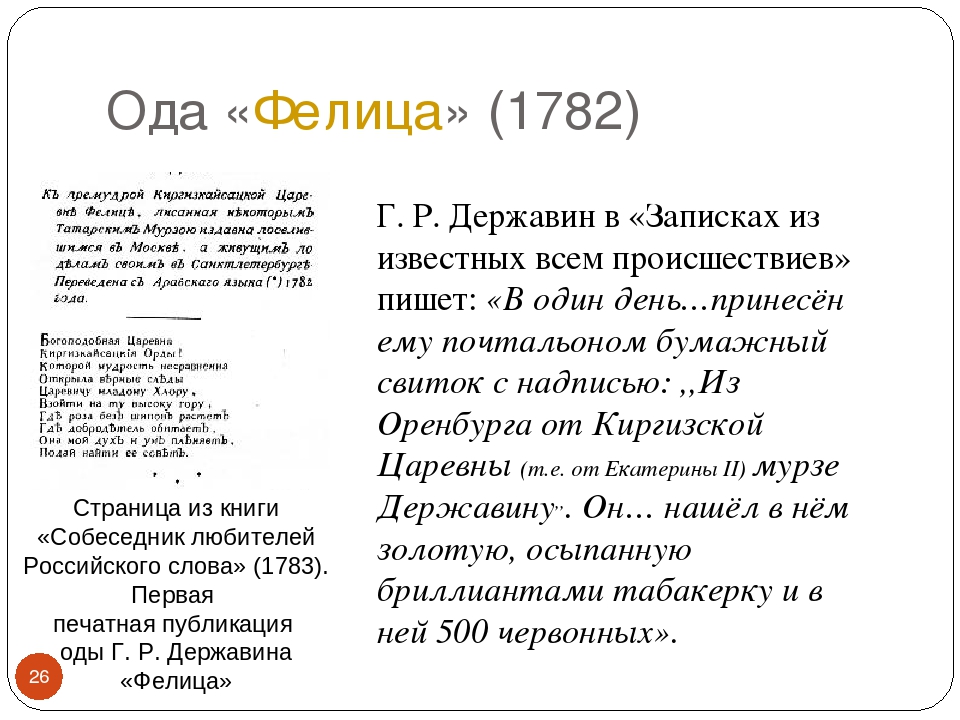 Тынянов в романе о Пушкине дал конспективное описание отношений двух поэтов, не имеющее четкой опоры на факты лишь в одном фрагменте, в державинской характеристике «Певца во стане
»:
Тынянов в романе о Пушкине дал конспективное описание отношений двух поэтов, не имеющее четкой опоры на факты лишь в одном фрагменте, в державинской характеристике «Певца во стане
»:
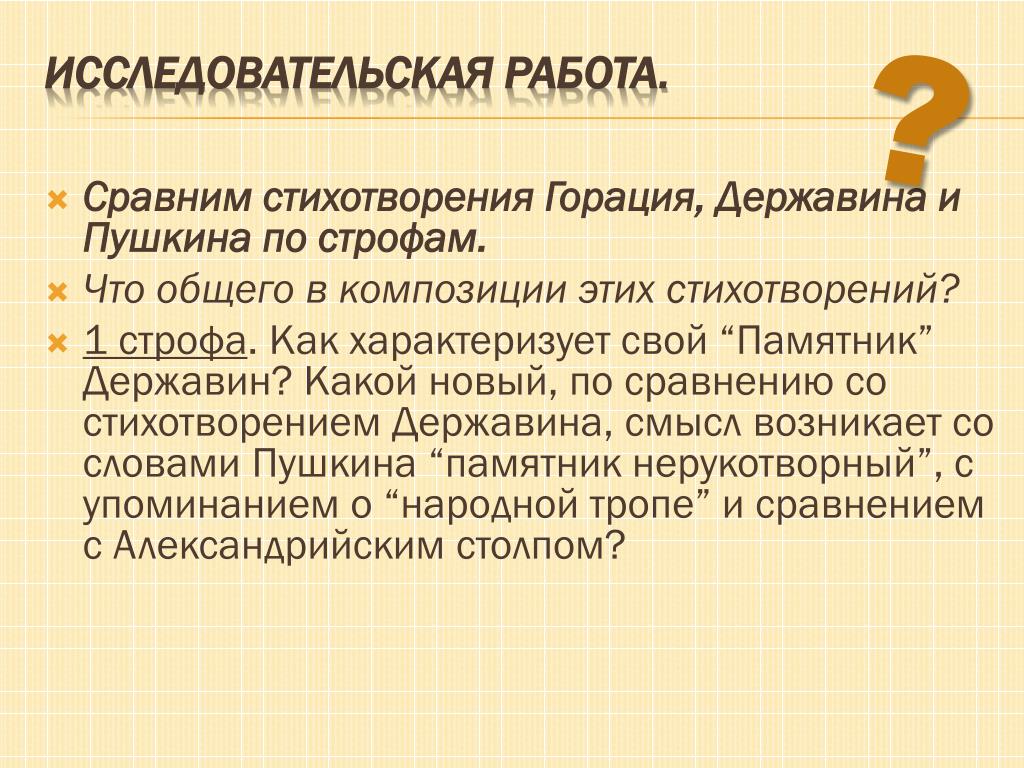 В ответ на восторженный отзыв Вас. Капниста о «Кубке воина за здоровье воинов» (т. е. о «Певце во стане»; адресант тогда еще не знал имени сочинителя) поэт отвечает крайне сдержанно:
В ответ на восторженный отзыв Вас. Капниста о «Кубке воина за здоровье воинов» (т. е. о «Певце во стане»; адресант тогда еще не знал имени сочинителя) поэт отвечает крайне сдержанно:
 Но молодое поколение вступало на поэтическое поприще, не слушая наставлений. Жуковский не внял совету Державина «петь вслед русскому Пиндару», писал элегии и баллады. Опубликовав «Певца во стане», он вступил в область батальной лирики, в которой Державин чувствовал себя мастером. «Ученик» опередил «учителя». Необходимость восстановить status quo, обозначить позиции «старших» и «младших» на русском Парнасе стала одной из причин создания «Гимна лиро-эпического на прогнание французов из Отечества».
Но молодое поколение вступало на поэтическое поприще, не слушая наставлений. Жуковский не внял совету Державина «петь вслед русскому Пиндару», писал элегии и баллады. Опубликовав «Певца во стане», он вступил в область батальной лирики, в которой Державин чувствовал себя мастером. «Ученик» опередил «учителя». Необходимость восстановить status quo, обозначить позиции «старших» и «младших» на русском Парнасе стала одной из причин создания «Гимна лиро-эпического на прогнание французов из Отечества».
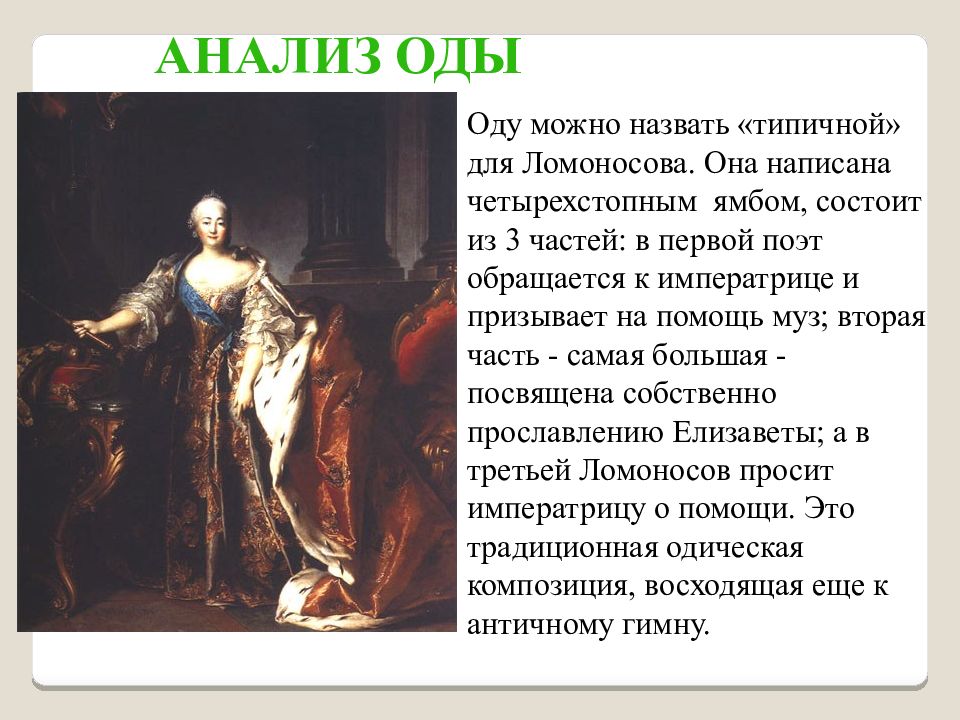 Так же противоречивы и суждения о поэтической традиции, повлиявшей на автора «Певца» (свод мнений см.: [Жуковский: I, 599]). Среди прочих возможных влияний была отмечена и одическая поэзия XVIII в. Петров, Ломоносов, Державин. На влиянии последнего мы остановимся.
Так же противоречивы и суждения о поэтической традиции, повлиявшей на автора «Певца» (свод мнений см.: [Жуковский: I, 599]). Среди прочих возможных влияний была отмечена и одическая поэзия XVIII в. Петров, Ломоносов, Державин. На влиянии последнего мы остановимся.
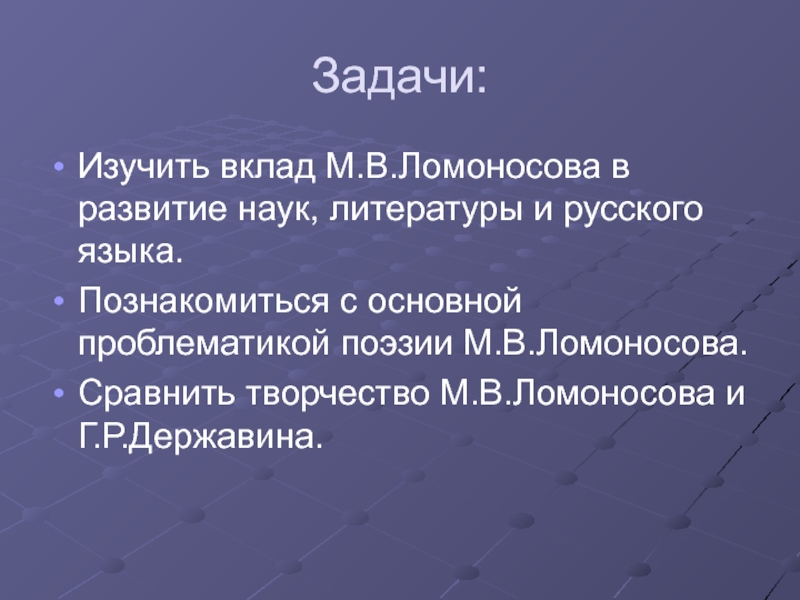 И, как мы можем предполагать, особенно заметной эта ориентация была для Державина, узнававшего «свои» приемы в поэтической манере Жуковского.
И, как мы можем предполагать, особенно заметной эта ориентация была для Державина, узнававшего «свои» приемы в поэтической манере Жуковского.
 Именно Державин по характеру своего дарования должен воспеть «правых брань с злодейскими ордами», струны же «певца» «незвучные». Образ певца у Жуковского построен на элегических формулах:
Именно Державин по характеру своего дарования должен воспеть «правых брань с злодейскими ордами», струны же «певца» «незвучные». Образ певца у Жуковского построен на элегических формулах:
 Как нам кажется, это влияние заметно и в «Гимне», но что особенно примечательно Державин пытался избежать его.
Как нам кажется, это влияние заметно и в «Гимне», но что особенно примечательно Державин пытался избежать его.
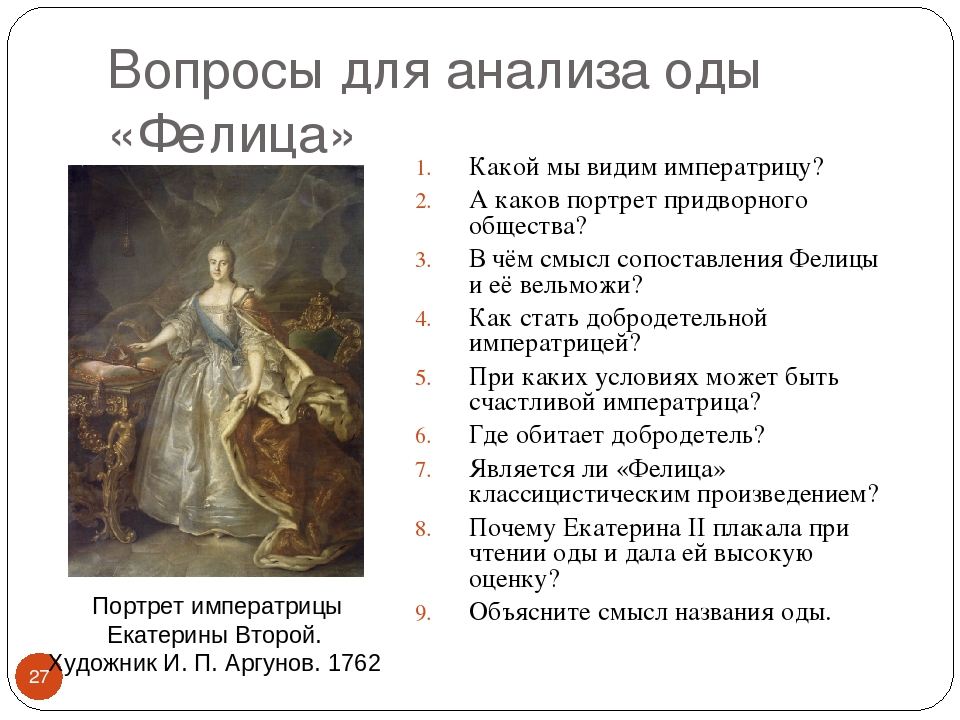 По нашему мнению, подчеркнутое расхождение Державина с Жуковским объясняется стремлением автора «Гимна» к эпичности (и как следствие к эпической сюжетности) в противовес песенной лирике «Певца во стане».
По нашему мнению, подчеркнутое расхождение Державина с Жуковским объясняется стремлением автора «Гимна» к эпичности (и как следствие к эпической сюжетности) в противовес песенной лирике «Певца во стане».
 Но в сознании современников «Певца» и русская старина оформлялась «под Оссиана», а чертами шотландского барда наделялся и мифический Боян. Так что образ Державина у Жуковского освещался как бы двойным светом, в нем сливались черты двух великих лиро-эпических певцов.
Но в сознании современников «Певца» и русская старина оформлялась «под Оссиана», а чертами шотландского барда наделялся и мифический Боян. Так что образ Державина у Жуковского освещался как бы двойным светом, в нем сливались черты двух великих лиро-эпических певцов.



 Это «Горе-богатырь» (в рукописи назван «романсом»), «Послание от Фортуны к Горю-богатырю» и «Северный Амур» (два последних известны в набросках). О них комментатор Державина пишет следующее:
Это «Горе-богатырь» (в рукописи назван «романсом»), «Послание от Фортуны к Горю-богатырю» и «Северный Амур» (два последних известны в набросках). О них комментатор Державина пишет следующее:
 Для Державина-классика, автора общепризнанных од на русские победы, создание «Гимна» было в своем роде необходимостью, официальной обязанностью. Высокий поэтический регистр не допускал излюбленных Державиным «низких» образов и просторечия. И эта линия уходит в новый для поэта жанр баллады. При этом державинская баллада приобретает определенный политический смысл, что мы покажем ниже.
Для Державина-классика, автора общепризнанных од на русские победы, создание «Гимна» было в своем роде необходимостью, официальной обязанностью. Высокий поэтический регистр не допускал излюбленных Державиным «низких» образов и просторечия. И эта линия уходит в новый для поэта жанр баллады. При этом державинская баллада приобретает определенный политический смысл, что мы покажем ниже.

 Это ставит вопрос об авторской трактовке жанровых границ баллады и романса.
Это ставит вопрос об авторской трактовке жанровых границ баллады и романса.
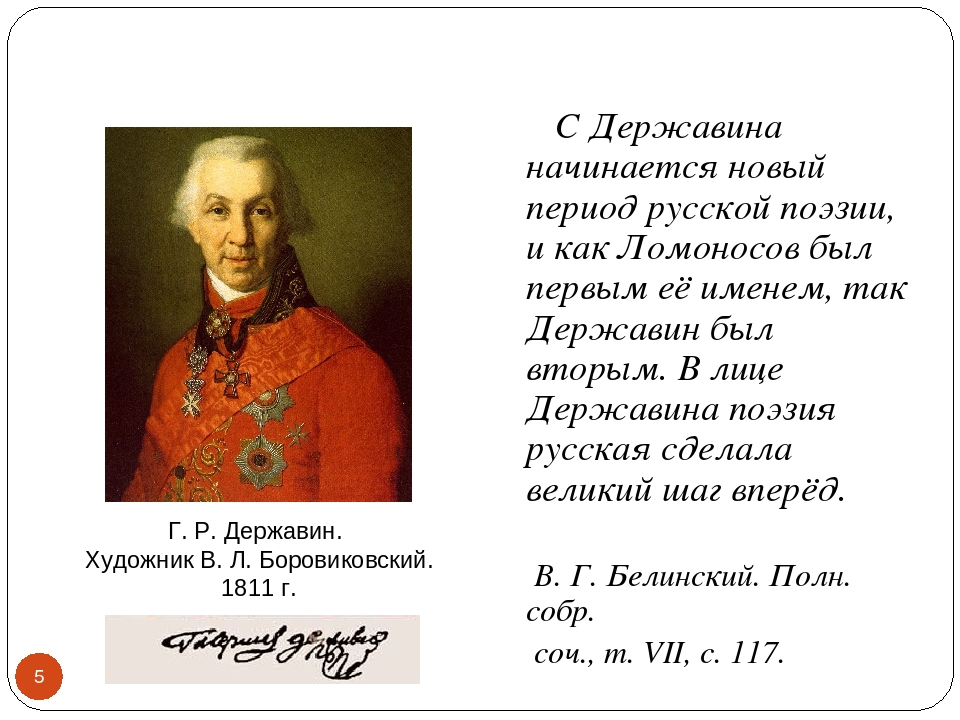
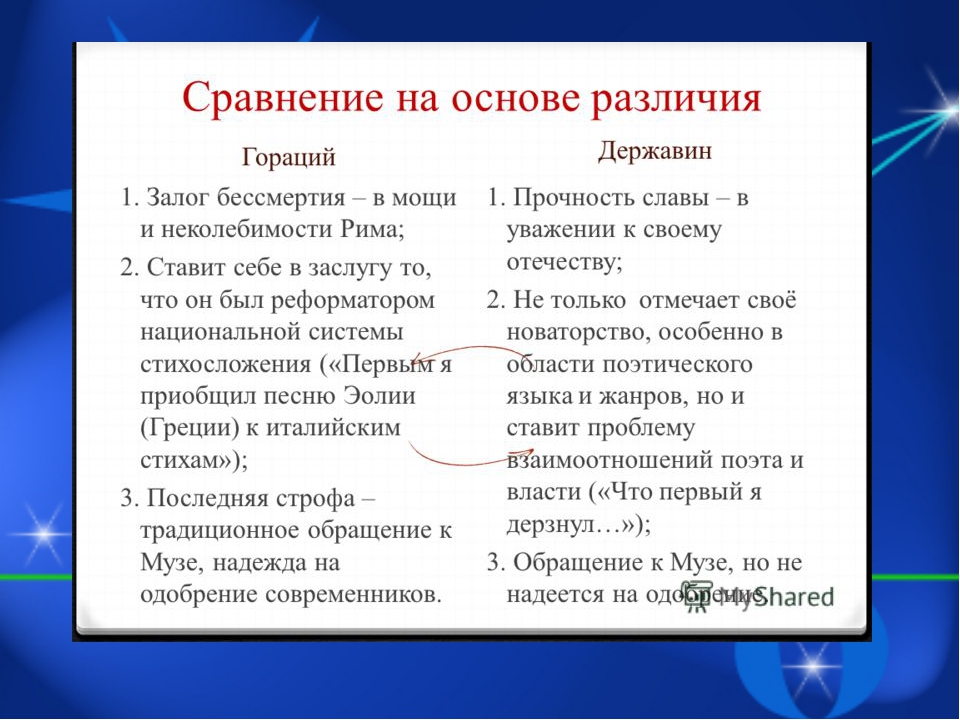 ) баллад Жуковского побуждала Державина оспорить его трактовку жанра. В представлении автора «Злогора» баллада подразумевает «народность» (прежде всего в сюжете и стиле), повествовательность и, вероятно, наличие «аллегории» (т.е., морали или скрытого смысла). Конечно, отличия от баллады в варианте Жуковского здесь очевидны. «Народность» стиля Державина обнажала комический потенциал жанра. Злогор с этой точки зрения представляется пародией на Громобоя, хотя такая авторская интенция вряд ли существовала (единственная пародия Державина на собственное стихотворение: «Каша златая
» пародирует «Пчелку»). Таким образом, произведения Державина в балладном и романсном жанрах вписываются в русло «антижуковской» полемики.
) баллад Жуковского побуждала Державина оспорить его трактовку жанра. В представлении автора «Злогора» баллада подразумевает «народность» (прежде всего в сюжете и стиле), повествовательность и, вероятно, наличие «аллегории» (т.е., морали или скрытого смысла). Конечно, отличия от баллады в варианте Жуковского здесь очевидны. «Народность» стиля Державина обнажала комический потенциал жанра. Злогор с этой точки зрения представляется пародией на Громобоя, хотя такая авторская интенция вряд ли существовала (единственная пародия Державина на собственное стихотворение: «Каша златая
» пародирует «Пчелку»). Таким образом, произведения Державина в балладном и романсном жанрах вписываются в русло «антижуковской» полемики.
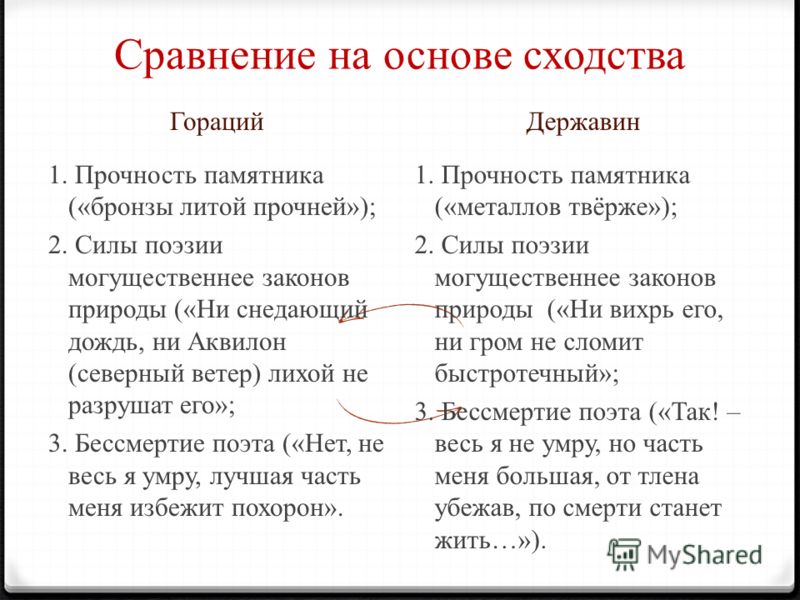 Очевидно, что Жуковский не мог знать многих из них («долбинские стихотворения» относятся преимущественно к 1814 г., а «Злогор» и «Царь-девица» были опубликованы позже, неоконченные опыты вообще не публиковались). Тем более необходима интерпретация такого сходства, которое требует дальнейшего исследования. Мы пока можем предположить, что поэтика Державина с точки зрения младших карамзинистов давала материал для обыгрывания и пародирования (прежде всего, в плане поэтической стилистики и грамматики вспомним здесь отзыв Пушкина о Державине). Поэтому шуточная, игровая, «домашняя» поэзия, в которой Жуковский позволял себе нарушать законы «гармонической точности», могла соответствовать вполне серьезной поэтической практике Державина. Более глубокое сопоставление позволит уточнить наши предположения.
Очевидно, что Жуковский не мог знать многих из них («долбинские стихотворения» относятся преимущественно к 1814 г., а «Злогор» и «Царь-девица» были опубликованы позже, неоконченные опыты вообще не публиковались). Тем более необходима интерпретация такого сходства, которое требует дальнейшего исследования. Мы пока можем предположить, что поэтика Державина с точки зрения младших карамзинистов давала материал для обыгрывания и пародирования (прежде всего, в плане поэтической стилистики и грамматики вспомним здесь отзыв Пушкина о Державине). Поэтому шуточная, игровая, «домашняя» поэзия, в которой Жуковский позволял себе нарушать законы «гармонической точности», могла соответствовать вполне серьезной поэтической практике Державина. Более глубокое сопоставление позволит уточнить наши предположения.
 Пытаясь вернуть свое первенство, «певец Фелицы» вступает в поэтический диалог с младшим поэтом и осваивает новые для себя формы творчества. Диалог поддерживает и Жуковский, признающий свое ученичество по отношению к Державину. Однако попытки автора «Злогора» и «Гимна лиро-эпического» сохранить свое положение первого поэта оказываются невостребованными, и вчерашние открытия в новой литературной ситуации представляются архаикой, а попытки новаторства пародией. Ход культурной истории не позволял Державину уйти общей судьбы «певцов былых сражений».
Пытаясь вернуть свое первенство, «певец Фелицы» вступает в поэтический диалог с младшим поэтом и осваивает новые для себя формы творчества. Диалог поддерживает и Жуковский, признающий свое ученичество по отношению к Державину. Однако попытки автора «Злогора» и «Гимна лиро-эпического» сохранить свое положение первого поэта оказываются невостребованными, и вчерашние открытия в новой литературной ситуации представляются архаикой, а попытки новаторства пародией. Ход культурной истории не позволял Державину уйти общей судьбы «певцов былых сражений».
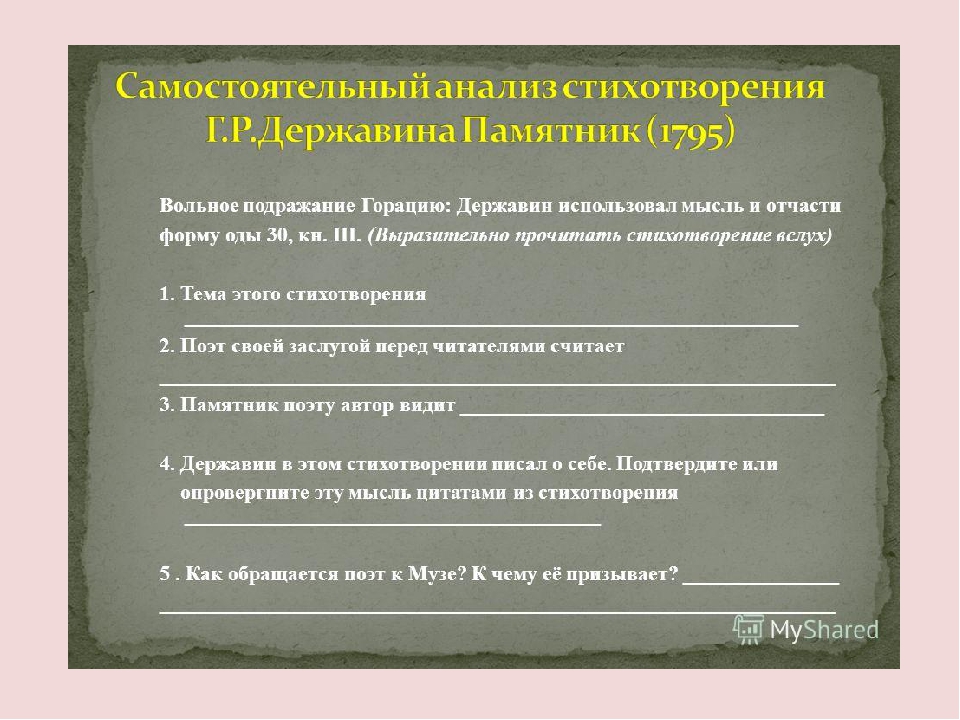
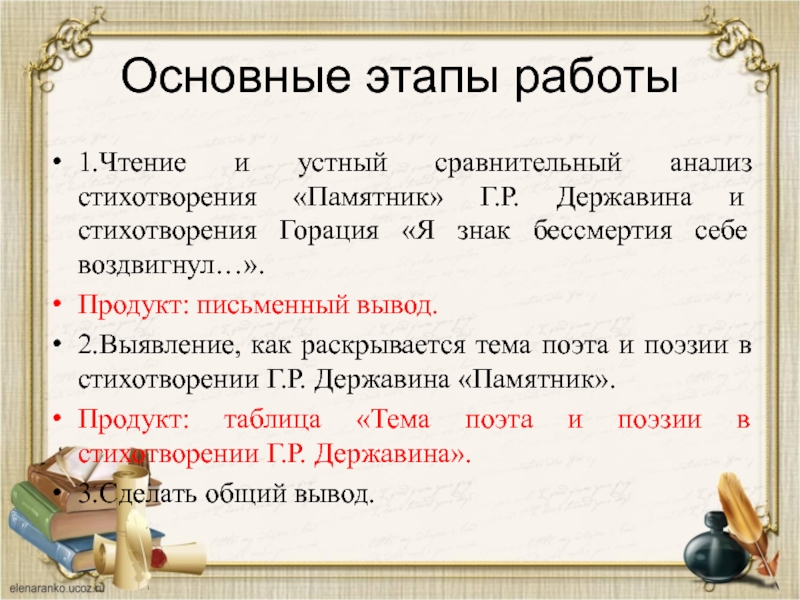 об этом: [Левин: 512]).
об этом: [Левин: 512]).
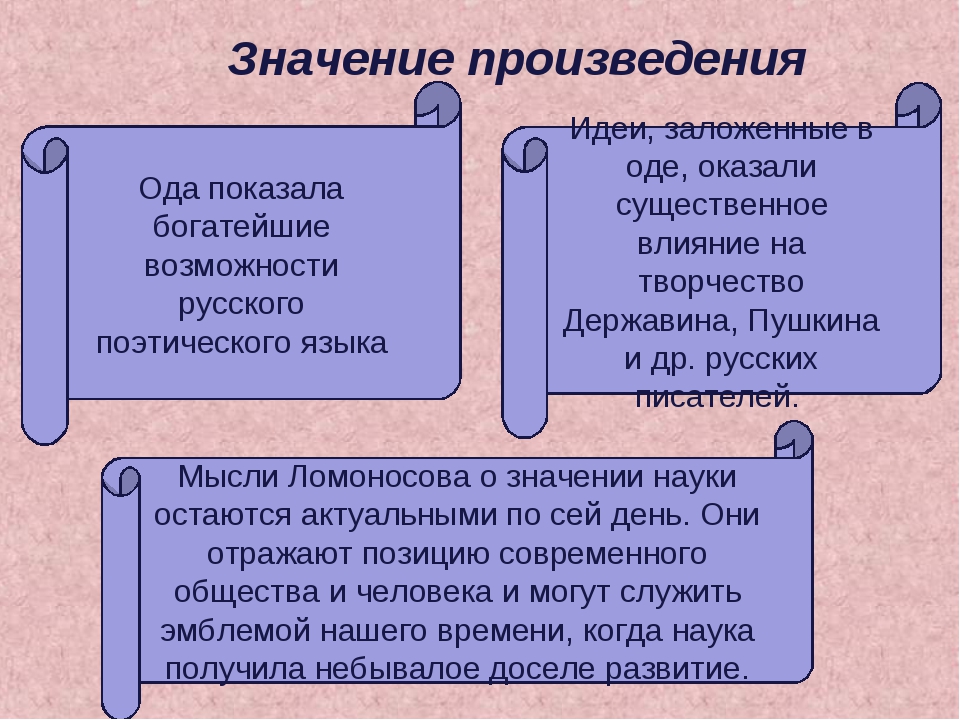 Романо-германская филология. 2002. № 6.
Романо-германская филология. 2002. № 6.
 Большая часть их испытала сильное воздействие знаменитой оды М.В.Ломоносова «На взятие Хотина» (1739). Они повторяют гиперболичность описаний военных действий, которые сравниваются то с извержением вулкана, то с морской бурей. В них обычно два героя: русское воинство, персонифицированное в образе богатыря Росса, и военачальник. Оба эти образа лишены конкретных жизненных черт и отличаются более или менее условным характером. Но, отдавая дань классицистической поэзии, Державин и в военно-патриотической лирике сумел сказать свое новое слово. Одним из ярких явлений в этой области было его стихотворение «Снигирь» (1800).
Большая часть их испытала сильное воздействие знаменитой оды М.В.Ломоносова «На взятие Хотина» (1739). Они повторяют гиперболичность описаний военных действий, которые сравниваются то с извержением вулкана, то с морской бурей. В них обычно два героя: русское воинство, персонифицированное в образе богатыря Росса, и военачальник. Оба эти образа лишены конкретных жизненных черт и отличаются более или менее условным характером. Но, отдавая дань классицистической поэзии, Державин и в военно-патриотической лирике сумел сказать свое новое слово. Одним из ярких явлений в этой области было его стихотворение «Снигирь» (1800).  – «Помилуй бог, как хорошо!» – произнес герой с живостью. Суворов был похоронен в Александро-Невской лавре в церкви Благовещения. Эпитафия, сочиненная Державиным, до сего времени сохранилась на могильной плите. Своей простотой и краткостью она резко выделяется среди других надгробных надписей, пространных и напыщенных, с длинным перечнем титулов и наград покойного.
– «Помилуй бог, как хорошо!» – произнес герой с живостью. Суворов был похоронен в Александро-Невской лавре в церкви Благовещения. Эпитафия, сочиненная Державиным, до сего времени сохранилась на могильной плите. Своей простотой и краткостью она резко выделяется среди других надгробных надписей, пространных и напыщенных, с длинным перечнем титулов и наград покойного. Вот он, Державин, вернулся домой под гнетущим впечатлением от кончины. Суворова. А веселый снегирь встречает его, как всегда, военным маршем. Но как не подходит этот марш к скорбному настроению поэта! И именно поэтому Державин начинает свое стихотворение мягким укором некстати распевшейся птичке:
Вот он, Державин, вернулся домой под гнетущим впечатлением от кончины. Суворова. А веселый снегирь встречает его, как всегда, военным маршем. Но как не подходит этот марш к скорбному настроению поэта! И именно поэтому Державин начинает свое стихотворение мягким укором некстати распевшейся птичке: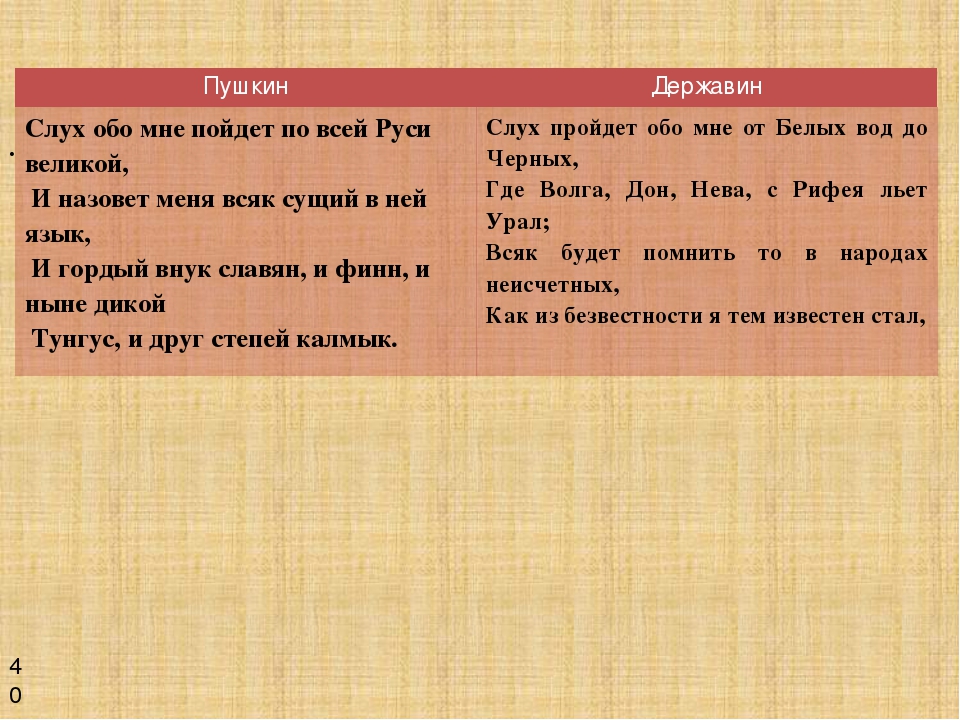 ..
..