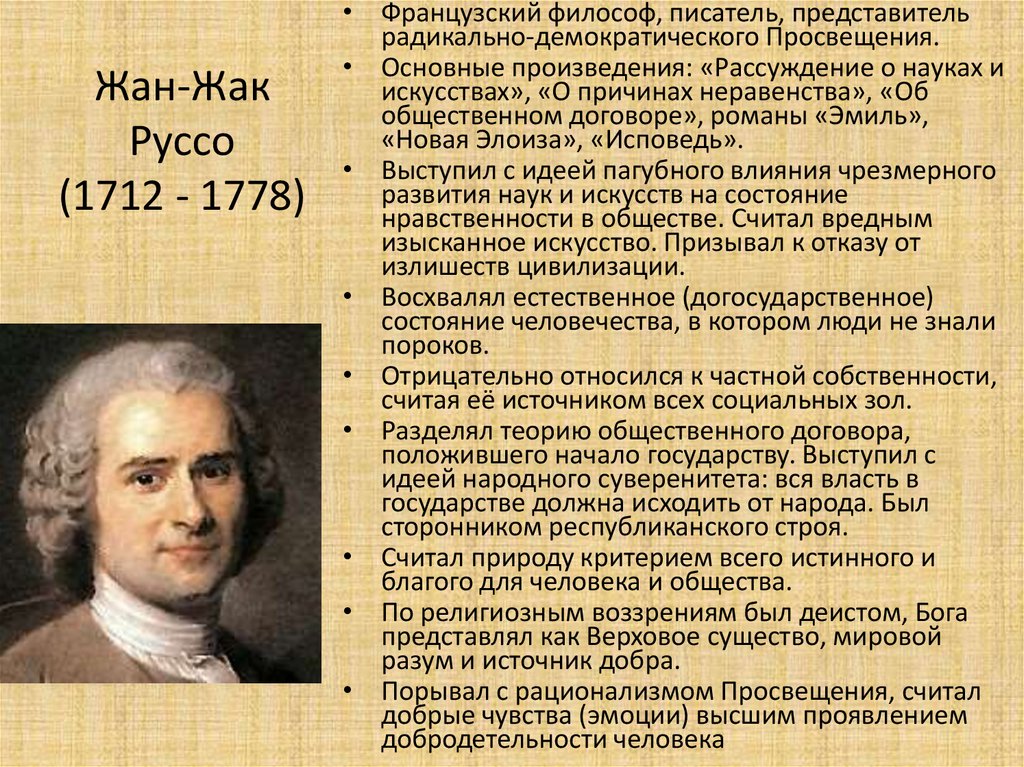45. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ РУССО. Шпаргалка по истории политических и правовых учений
45. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ РУССО
Жан-Жак Руссо (1712–1778) – один из ярких и оригинальных мыслителей во всей истории общественных и политических учений. Его социальные и политико-правовые взгляды изложены в таких произведениях, как: «Рассуждение по вопросу: способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов» (1750), «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1754), «О политической экономии» (1755), «Суждение о вечном мире», «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1762). Проблемы общества, государства и права освещаются в учении Руссо с позиций обоснования и защиты принципа и идей народного суверенитета. Распространенные в то время представления о естественном состоянии Руссо использует как гипотезу для изложения своих, во многом новых, взглядов на весь процесс становления и развития духовной, социальной и политико-правовой жизни человечества. В естественном состоянии, по Руссо, нет частной собственности, все свободны и равны. Неравенство здесь вначале лишь физическое, обусловленное природными различиями людей. Однако с появлением частной собственности и социального неравенства, противоречивших естественному равенству, начинается борьба между бедными и богатыми. Выход из таких условий, инспирированный «хитроумными» доводами богатых и вместе с тем обусловленный жизненными интересами всех, состоял в соглашении о создании государственной власти и законов, которым будут подчиняться все. Однако, потеряв свою естественную свободу, бедные не обрели свободы политической. Обосновываемая Руссо концепция общественного договора выражает в целом идеальные его представления о государстве и праве. Основная мысль Руссо состоит в том, что только установление государства, политических отношений и законов, соответствующих его концепции общественного договора, может оправдать – с точки зрения разума, справедливости и права – переход от естественного состояния в гражданское.
В естественном состоянии, по Руссо, нет частной собственности, все свободны и равны. Неравенство здесь вначале лишь физическое, обусловленное природными различиями людей. Однако с появлением частной собственности и социального неравенства, противоречивших естественному равенству, начинается борьба между бедными и богатыми. Выход из таких условий, инспирированный «хитроумными» доводами богатых и вместе с тем обусловленный жизненными интересами всех, состоял в соглашении о создании государственной власти и законов, которым будут подчиняться все. Однако, потеряв свою естественную свободу, бедные не обрели свободы политической. Обосновываемая Руссо концепция общественного договора выражает в целом идеальные его представления о государстве и праве. Основная мысль Руссо состоит в том, что только установление государства, политических отношений и законов, соответствующих его концепции общественного договора, может оправдать – с точки зрения разума, справедливости и права – переход от естественного состояния в гражданское.

Своим учением о законе как выражении общей воли и о законодательной власти как прерогативе неотчуждаемого народного суверенитета, своей концепцией общественного договора и принципов организации государства Руссо оказал огромное воздействие на последующее развитие государственно-правовой мысли и социально-политической практики. Его доктрина стала одним из основных идейных источников в процессе подготовки и проведения французской буржуазной революции, особенно на ее якобинском этапе.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
17. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ МАРСИЛИЯ ПАДУАНСКОГО
17. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ МАРСИЛИЯ ПАДУАНСКОГО
В XI–XIII вв. в Западной Европе происходил быстрый рост производительных сил. Закономерно стала складываться общественная группа, которую образовала по преимуществу зажиточная верхушка бюргерства: купцы и банкиры,
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ МАРСИЛИЯ ПАДУАНСКОГО
В XI–XIII вв. в Западной Европе происходил быстрый рост производительных сил. Закономерно стала складываться общественная группа, которую образовала по преимуществу зажиточная верхушка бюргерства: купцы и банкиры,
39. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ СПИНОЗЫ
39. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ СПИНОЗЫ Новый рационалистический подход к проблемам общества, государства и права получил свое дальнейшее развитие в творчестве великого голландского философа и политического мыслителя Баруха (Бенедикта) Спинозы (1632–1677). Его
41. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ ГОББСА
41. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ ГОББСА
Своеобразным было отношение к революции одного из наиболее выдающихся английских мыслителей Томаса Гоббса (1588–1679). В основу своей теории государства и права Т. Гоббс кладет определенное представление о природе индивида.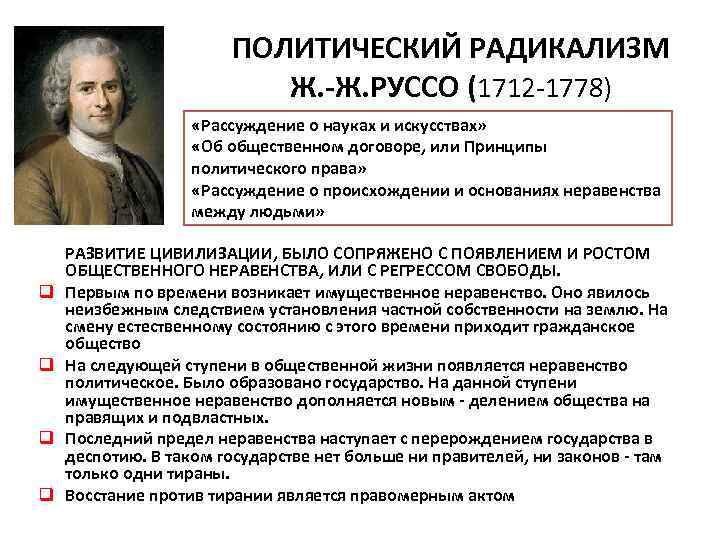 Он считает,
Он считает,
44. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ МОНТЕСКЬЕ
44. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ МОНТЕСКЬЕ Шарль Луи Монтескье (1689–1755) – один из ярких представителей французского Просвещения, выдающийся юрист и политический мыслитель. Наряду с юриспруденцией и политикой в поле его внимания и творчества находились проблемы философии,
52. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ А.Н. РАДИЩЕВА
52. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ А.Н. РАДИЩЕВА Александр Николаевич Радищев (1749–1802) родился в Саратовской губернии в дворянской семье, обладавшей большими земельными владениями. Получил хорошее домашнее образование, окончил Пажеский корпус в Петербурге и юридический76. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ Ф. НИЦШЕ
76. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ Ф. НИЦШЕ
Фридрих Вильгельм Ницше (1844–1900) – одна из значительных фигур в истории философской и политико-правовой мысли. Вопросы политики, государства и права освещаются в частности, в таких его работах, как «Греческое государство» «Воля к
Вопросы политики, государства и права освещаются в частности, в таких его работах, как «Греческое государство» «Воля к
§ 4. Политическое и правовое учение Аристотеля
§ 4. Политическое и правовое учение Аристотеля Разработку идеологии полисной землевладельческой знати продолжил великий древнегреческий философ Аристотель (384— 322 гг. до н.э.). Он родился в небольшой греческой колонии Стагире (отсюда второе имя философа, упоминаемое в
§ 4. Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого
§ 4. Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого Иосиф Волоцкий (1440—1515) входит в плеяду самых выдающихся деятелей и идеологов русской православной церкви за всю ее историю. Его активная деятельность пришлась на последнюю треть XV —начало XVI в., т.е. на время, когда шел процесс
§ 6.
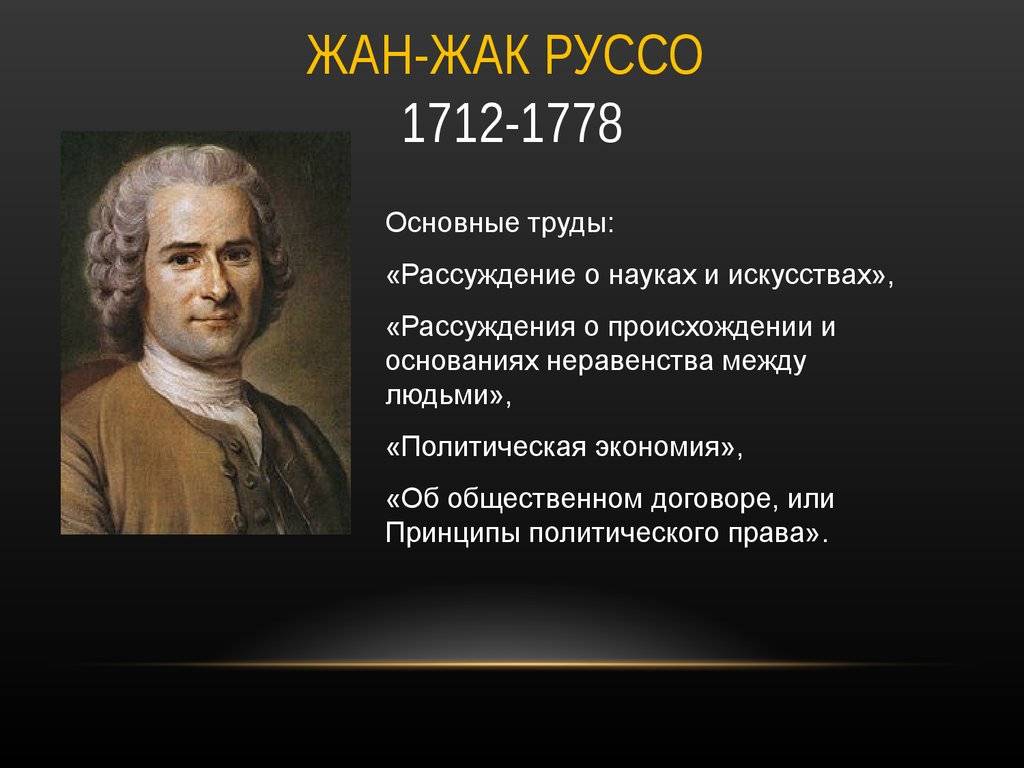 Политико-правовое учение Огюста Конта
Политико-правовое учение Огюста Конта§ 6. Политико-правовое учение Огюста Конта От либеральных концепций государства и права сильно отличается политико-правовая теория основателя позитивизма («положительной философии») Огюста Конта.Огюст Конт (1798—1857) родился и жил во Франции; он учился в лицее, затем в
§ 2. Политико-правовое учение марксизма
§ 2. Политико-правовое учение марксизма Марксизм сложился как самостоятельная доктрина во второй половине 40-х гг. XIX в. Маркс писал, что решающие пункты нового мировоззрения были впервые научно изложены в работе «Нищета философии» (опубликована Марксом в 1847 г.) и в§ 3. Политико-правовое учение и программа социальной демократии
§ 3. Политико-правовое учение и программа социальной демократии
Идеология социальной демократии сложилась из ряда идей и стремлений первой половины XIX в. Еще тогда зародилась идея государства, помогающего трудящимся осуществить глубокий общественный переворот. Для
Еще тогда зародилась идея государства, помогающего трудящимся осуществить глубокий общественный переворот. Для
§ 2. Политико-правовое учение Б. Н. Чичерина
§ 2. Политико-правовое учение Б. Н. Чичерина Видным деятелем либерального движения в России был профессор Московского университета Борис Николаевич Чичерин (1828— 1904). Его перу принадлежат труды по государственному праву, истории политических учений, теории государства и
Руссо — Департамент философии
(Рассел Б. История западной философии. Глава XIX)
…Он продолжает развивать взгляд, что сознание
при всех обстоятельствах является
непогрешимым руководством к правильному действию. «По милости Неба мы освободились наконец от этого
ужасающего нагро-мождения философии.
Мы можем быть людьми, не будучи учеными. Избавившись от необходимости тратить нашу жизнь на
изучение морали, мы с меньшими
затратами имеем более надежного руко-водителя в этом бесконечном лабиринте людских
мнений», — заклю-чает он свое
рассуждение. Наши естественные чувства, утверждав он, ведут нас к тому, чтобы служить общему
интересу, тогда как наш разум
побуждает к эгоизму. Мы поэтому должны следовать не разуму, а чувству, чтобы быть
добродетельными.
Наши естественные чувства, утверждав он, ведут нас к тому, чтобы служить общему
интересу, тогда как наш разум
побуждает к эгоизму. Мы поэтому должны следовать не разуму, а чувству, чтобы быть
добродетельными.
Естественная религия, как называет викарий свою доктрину, не нуждается в откровении. Если бы человек слушал только то, что Бог говорит его сердцу, то в мире существовала бы только одна религия Если бы Бог являл себя только определенным людям, то это могли бы быть известно только через людские словесные показания, которые подвержены ошибкам. Естественная религия обладает тем преимуществом, что она открывается непосредственно каждому. ч
Существует
любопытный отрывок относительно ада. Викарий не знает,
подвергаются ли нечестивцы вечным мукам, и говорит несколько высокомерно, что судьба нечестивцев не
особенно интересует его. Но в целом он
склоняется к мысли, что страдания ада не вечны. Однако возможно, он в этом уверен, что спасение
распространяется не только на членов
какой-либо одной церкви.
По-видимому, именно отвержение откровения и ада было в первую очередь тем, что глубоко потрясло французское правительство и го-родской совет Женевы.
Отвержение разума
в пользу сердца не было, по моему мнению, достижением. Действительно, никто не
думал о таком способе отвержения разума до
тех пор, пока разум выступал на стороне религиозной веры. Руссо и его
последователи, как это считал Вольтер, разум противопоставляли
религии, следовательно, долой разум! Кроме того, разум был неясен и
труден: дикарь, даже когда он был сыт, не мог понять
онтологического доказательства, и, однако, дикарь является хранилищем всей необходимой мудрости.
Дикарь Руссо, который не был дикарем,
известным антропологам, был хорошим мужем и добрым отцом; он был лишен жадности и имел религию
естественной добротц. Он был удобной личностью, но если бы он мог
следовать доводам доброго викария и вере в
Бога, то он должен был бы быть большим философом, чем можно было ожидать от его
простецкой наивности.
Кроме вымышленности характера „естественного человека» Руссо, существуют два возражения против того, чтобы обосновывать верования, как объективный факт, на эмоциях сердца. Одно из них состоит в том, что нет никакого основания полагать, что такие верования будут истинными. Другое заключается в том, что возникающие в результате верования будут личными, потому что сердце говорит разные вещи разным людям. Некоторых дикарей „естественный свет» убеждает в том, что их обязанность — есть людей, и даже дикари Вольтера.
640
которых голос
разума приводит к убеждению, что следует есть только иезуитов, не являются
вполне удовлетворительными. Буддистам свет природы не
открывает существования Бога, но вещает, что плохо есть мясо животных. Но
даже если сердце говорит одно и то же всем людям, оно не в
состоянии сделать очевидным существование чего-то, помимо наших
собственных эмоций. Однако как бы ревностно я или все человечество ни желали чего-то, как бы
это ни было необходимо для человеческого
счастья, нет основания полагать, что это нечто существует. Нет закона природы, гарантирующего,
что человечество должно быть счастливо. Каждый может видеть, что это
истинно относительно нашей жизни здесь, на
земле, но странная психическая особенность превращает наши большие страдания в
этой жизни в аргумент за лучшую
жизнь после смерти. Мы не пользуемся таким аргументом в какой-либо другой связи. Если бы вы
купили десять дюжин яиц у человека и
первая дюжина была бы вся порченая, то вы не заключили бы из этого, что оставшиеся
девять дюжин обладают превосходными качествами. Однако рассуждения, что „сердце»
даст утешение для наших страданий в
том мире, — такого же типа.
Нет закона природы, гарантирующего,
что человечество должно быть счастливо. Каждый может видеть, что это
истинно относительно нашей жизни здесь, на
земле, но странная психическая особенность превращает наши большие страдания в
этой жизни в аргумент за лучшую
жизнь после смерти. Мы не пользуемся таким аргументом в какой-либо другой связи. Если бы вы
купили десять дюжин яиц у человека и
первая дюжина была бы вся порченая, то вы не заключили бы из этого, что оставшиеся
девять дюжин обладают превосходными качествами. Однако рассуждения, что „сердце»
даст утешение для наших страданий в
том мире, — такого же типа.
Со своей стороны,
я предпочитаю онтологическое доказательство, космологическое доказательство и
остальной старый запас аргументов той
сентиментальной нелогичности, которая берет начало от Руссо. Старые
доказательства были по крайней мере честными; если они правильные, то они доказывали свою точку
зрения, если они неправильные, то для
любой критики доступно доказать это.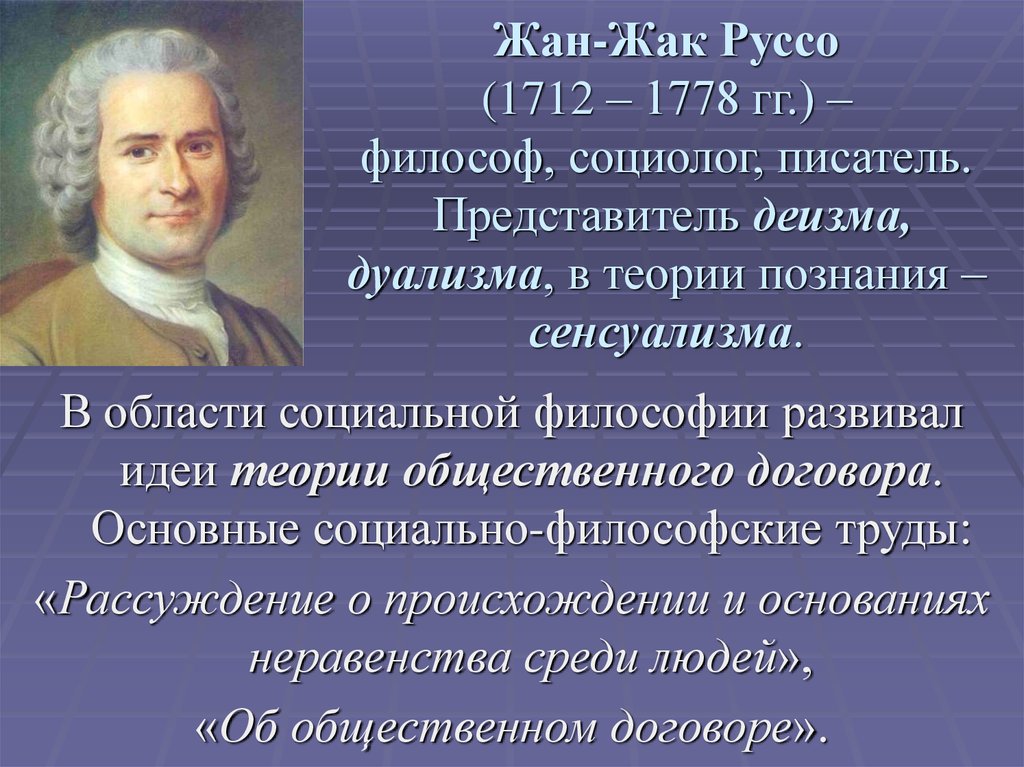 Но новая теология сердца отказывается от
доказательства; она не может быть отвергнута, потому что она не претендует
на доказательство своей точки зрения. В конечном счете единственным основанием
для ее принятия оказывается то, что
она позволяет нам предаваться приятным грезам. Это не заслуживающая уважения причина, и, если бы
я выбирал между Фомой Аквинским и
Руссо, я выбрал бы Фому Аквинского.
Но новая теология сердца отказывается от
доказательства; она не может быть отвергнута, потому что она не претендует
на доказательство своей точки зрения. В конечном счете единственным основанием
для ее принятия оказывается то, что
она позволяет нам предаваться приятным грезам. Это не заслуживающая уважения причина, и, если бы
я выбирал между Фомой Аквинским и
Руссо, я выбрал бы Фому Аквинского.
Политическая
теория Руссо изложена в его „Общественном дого-воре»,
опубликованном в 1762 году. Эта книга
очень отличается по своему характеру от большинства его
произведений. Она содержит мало сентиментальности и гораздо больше логических рассуждений. ( Его учение, хотя оно на словах превозносило
демократию, имело тенденцию к оправданию тоталитарного государства. Но
Женева и античность объединились, чтобы заставить его предпочитать город-государство большим империям, таким как
Франция и Англия. На
титульной странице он называет себя гражданином
Женевы, а
во введении говорит: „Как бы ни
было слабо влияние, которое может оказать мой
голос на общественные дела, для меня, рожденного гражданином свободного государства и члена суверенного народа,
Достаточно самого права голоса, уже возлагающего на меня обязанности вникать
в эти дела». Имеются часто повторяющиеся восторженные ссылки
на Спарту, как она изображена в „Жизни Ликурга» у Плутарха, Он
говорит, что демократия — наилучший образ правления в
маленьких государствах, аристократия — в средних, а монархия — в
больших. Но
следует это понимать так, что, по его мнению, маленькие государства
предпочтительнее, в частности, потому, что они делают Демократию более
практичной. Когда он говорит о демократии, то
Имеются часто повторяющиеся восторженные ссылки
на Спарту, как она изображена в „Жизни Ликурга» у Плутарха, Он
говорит, что демократия — наилучший образ правления в
маленьких государствах, аристократия — в средних, а монархия — в
больших. Но
следует это понимать так, что, по его мнению, маленькие государства
предпочтительнее, в частности, потому, что они делают Демократию более
практичной. Когда он говорит о демократии, то
641
понимает под этим, как понимали и греки, прямое участие каждого гражданина; представительное правительство он называет „выборной аристократией». Поскольку первое невозможно в большом государстве его восхваление демократии всегда подразумевает восхваление горо-да-государства. Эта любовь к городу-государству, по моему мнению недостаточно подчеркивается в большинстве изложений политической философии Руссо.
Хотя книга в целом
гораздо менее риторична, чем большинство сочинений Руссо, первая глава
начинается с фраз, насыщенных риторикой: „Человек рожден свободным, а
между тем везде он в оковах.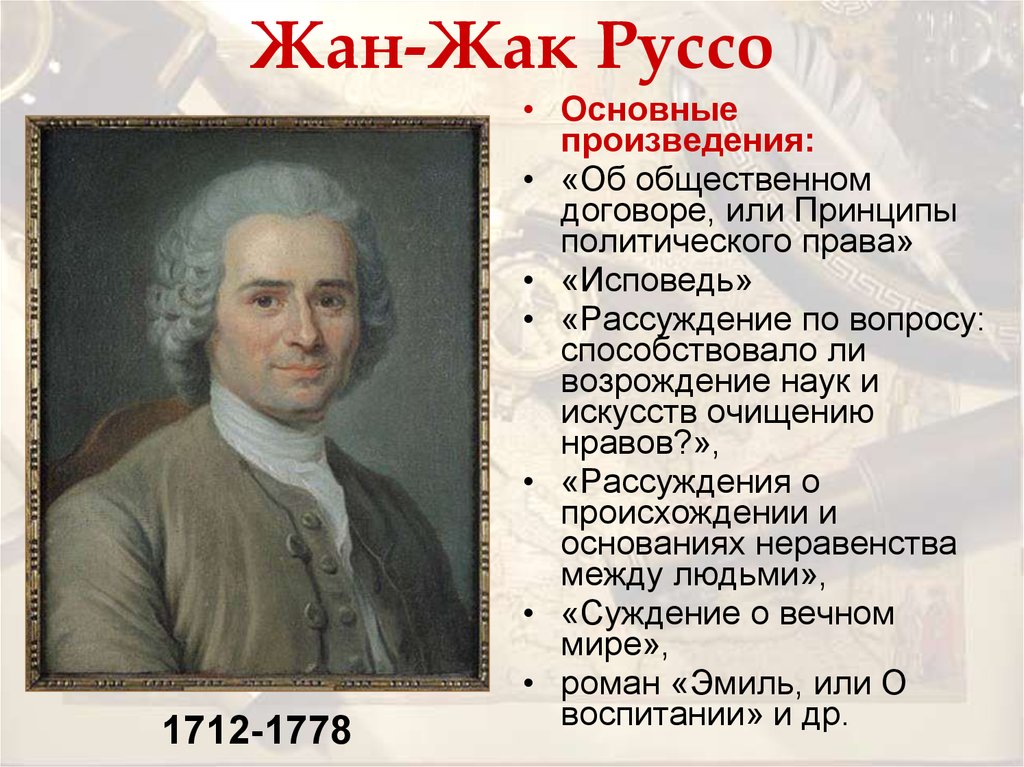 Иной считает
себя повелителем других, а сам не перестает быть рабом в еще большей степени, чем они». Свобода есть
номинальная цель мысли Руссо, но в действительности такой целью является
равенство, i которое он ценит
и которого он стремится добиться даже за счет )
свободы.
Иной считает
себя повелителем других, а сам не перестает быть рабом в еще большей степени, чем они». Свобода есть
номинальная цель мысли Руссо, но в действительности такой целью является
равенство, i которое он ценит
и которого он стремится добиться даже за счет )
свободы.
Его концепция
общественного договора кажется на первый взгляд аналогичной концепции Локка, но вскоре она
обнаруживает свою близость к концепции
Гоббса. При развитии из природного состояния наступает время, когда индивидуумы не могут
больше существовать в состоянии
первоначальной независимости. Тогда для самосохранения становится необходимым, чтобы они объединились и
сформировали общество. Но как я могу
отдать свою свободу не в ущерб собственным интересам? „Проблема состоит в
том, как найти такую форму ассоциации,
которая защищала бы и охраняла совокупной силой личность и имущество каждого участника и в которой каждый,
соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, только самому себе и
оставался бы таким же свободным, каким он
был раньше».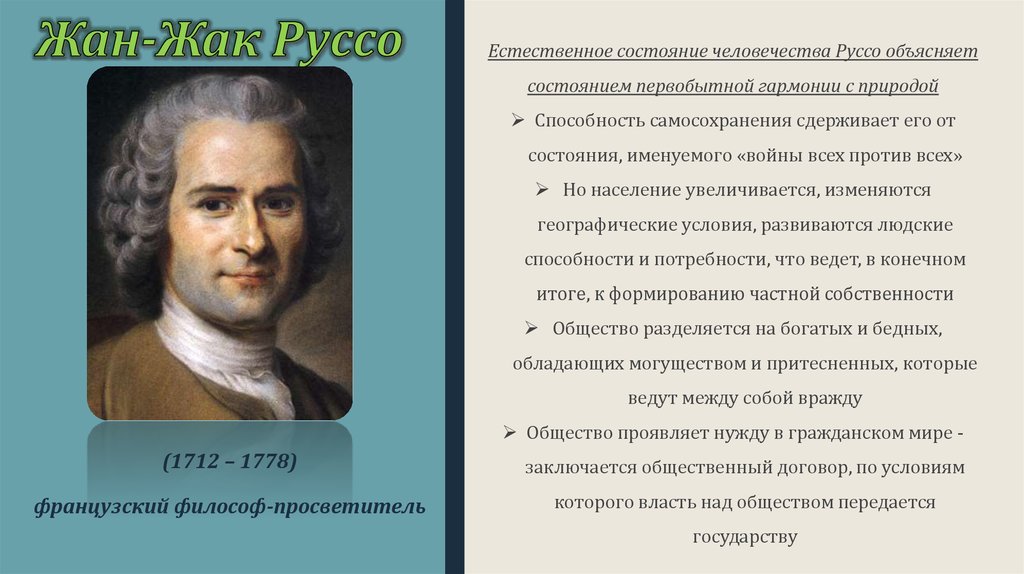 Вот основная проблема, которую разрешает общественный
договор.
Вот основная проблема, которую разрешает общественный
договор.
Договор состоит в „полном отчуждении каждого члена вместе со всеми своими правами в пользу всей общины. Так как, во-первых, раз каждый отдает всего себя целиком, то условие оказывается дина-ковым для всех; а раз условие одинаково для всех, ни у кого нет интереса делать его тягостным для других». Отчуждение должно быть без остатка: „Ибо если бы у отдельных личностей остались некоторые права, то, за отсутствием высшей власти, которая могла бы решать споры между ними и обществом, каждый, будучи в некоторых вопросах своим собственным судьей, скоро начал бы претендовать быть судьей во всех других вопросах. Таким образом, естественное состояние продолжало бы существовать и ассоциация по необходимости стала бы или тиранической, или тщетной».
Это заключает в
себе полную отмену свободы и полное отрицание учения о правах
человека. Правда, в последней главе эта теория несколько
смягчается. Там говорится, что хотя Общественный Договор дает государству
абсолютную власть над всеми его членами, тем не менее
человеческие существа имеют естественные права как люди’ „Суверен не
может налагать на подданных никаких оков, если это бесполезно
для общества; он не может даже хотеть этого».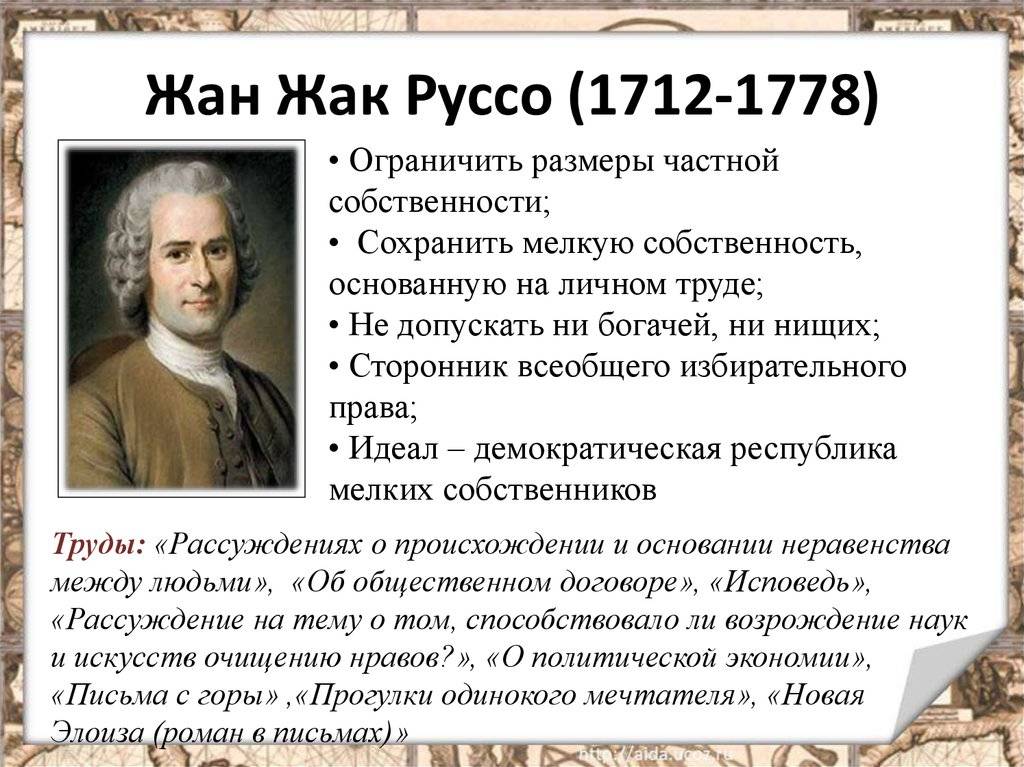 Ясно, что
‘коллективной тирании противопоставляется только очень слабое препятствие.
Ясно, что
‘коллективной тирании противопоставляется только очень слабое препятствие.
642
Следует заметить, что „верховная власть», по Руссо, означает не монарха или правительство, но общество в его коллективной законодательной правоспособности.
Общественный
Договор может быть изложен в следующих словах:’
Каждый из нас отдает свою
мощь под верховное руководство общей
волей, и мы вместе принимаем каждого
члена как нераздельную часть
целого». Этот акт
ассоциации создает нравственное и коллективное
тело, которое
называется „государством», когда оно пассивно, „вер
ховной властью» (или
сувереном), когда оно активно, и „силой» в
отношении к другим подобным ему
телам.
Концепция «общей воли», которая формулируется в вышеприведенных фразах „Договора», играет очень важную роль в системе Руссо. Я коротко остановлюсь на ней.
Доказывается, что
верховная власть не должна давать каких-либо гарантий своим
подданным, так как, поскольку она образуется из индивидуумов,
которые составляют ее, она не может иметь каких-либо интересов,
противоречащих им самим.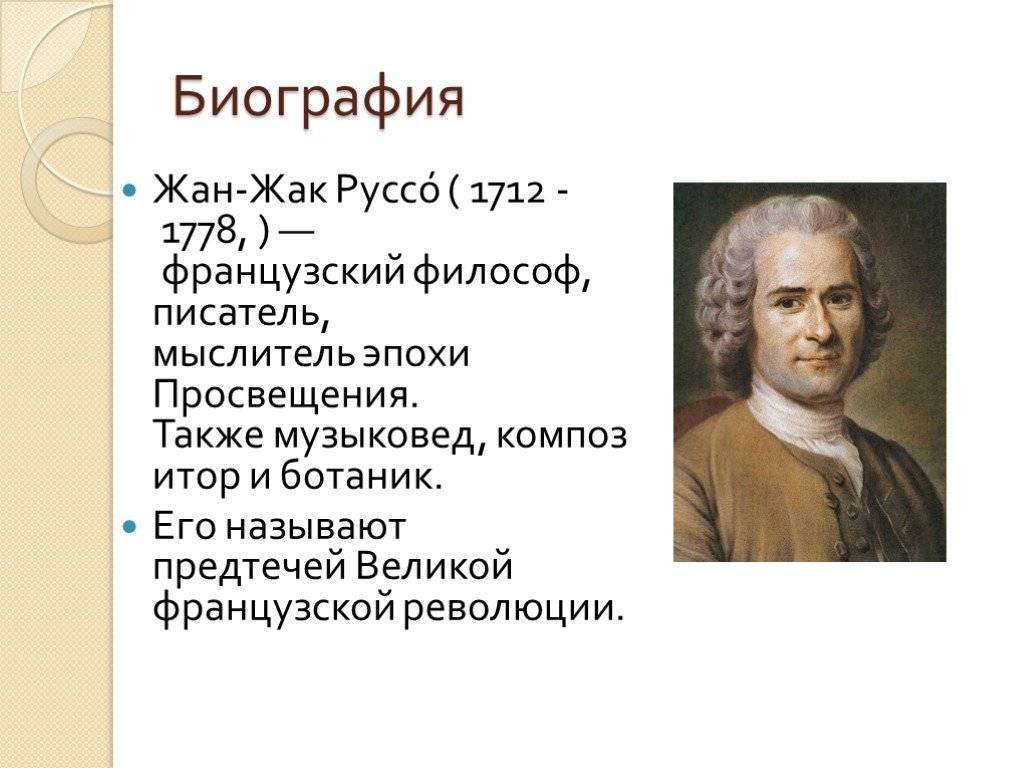 что он
существует». Это учение может ввести в заблуждение читателя, который не заметил
несколько специфического употребления терминов Руссо. Верховная
власть не есть правительство, относительно которого допускается, что
оно может быть тираническим. Верховная власть есть более или
менее метафизическая сущность, не полностью воплощаемая в
каком-либо из наблюдаемых органов государства. Ее непогрешимость,
следовательно, даже если она допускается, не имеет практических последствий, которые можно
предположить.
что он
существует». Это учение может ввести в заблуждение читателя, который не заметил
несколько специфического употребления терминов Руссо. Верховная
власть не есть правительство, относительно которого допускается, что
оно может быть тираническим. Верховная власть есть более или
менее метафизическая сущность, не полностью воплощаемая в
каком-либо из наблюдаемых органов государства. Ее непогрешимость,
следовательно, даже если она допускается, не имеет практических последствий, которые можно
предположить.
Воля верховной власти, которая всегда права, есть „всеобщая воля». Каждый гражданин, как гражданин, участвует во всеобщей воле, но он может также, в качестве индивидуума, обладать индивидуальной волей, которая приходит в столкновение со всеобщей волей. Общественный Договор предполагает, что всякий, кто отказывается подчиниться всеобщей воле, должен быть принужден сделать это. „Это означает лишь то, что его силой заставляют быть свободным».
Эта концепция
принуждения быть свободным очень метафизична.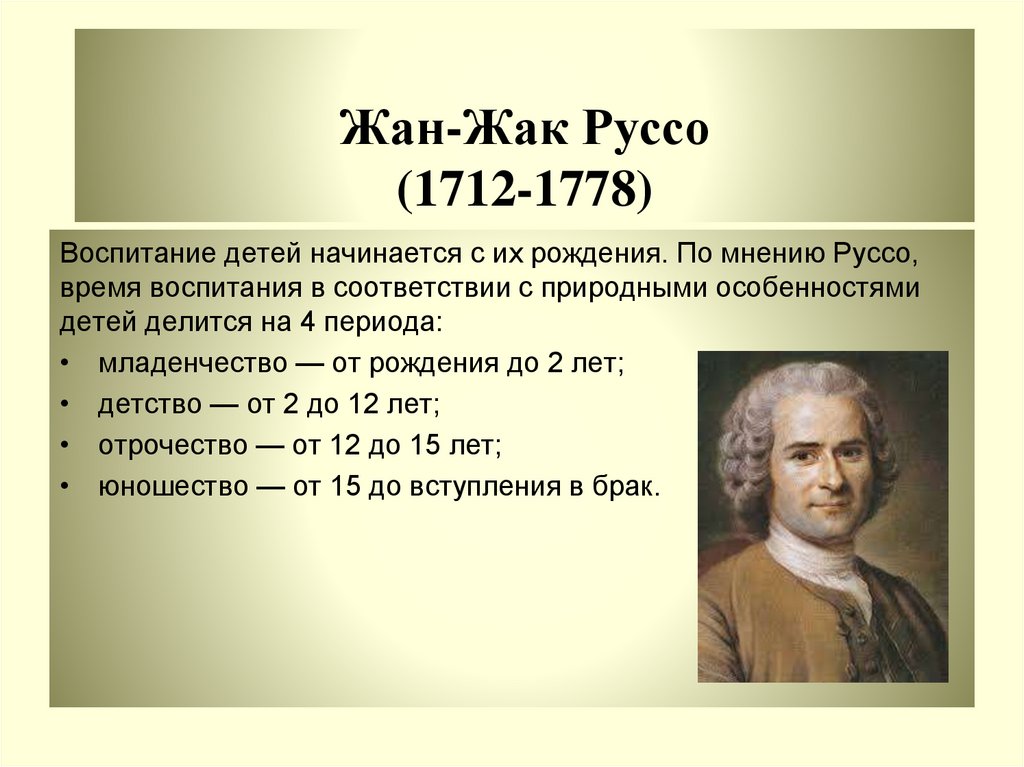 ова „свобода» и
определил его как право подчиняться полиции или Что-то в этом роде.
ова „свобода» и
определил его как право подчиняться полиции или Что-то в этом роде.
643
Руссо не питает
такого глубокого уважения к частной собственности, которое характерно для Локка и его
учеников. „Государство по отношению к своим
членам становится хозяином всего их имущества». Не верит он и в
разделение властей, которое так проповедовали Локк и Монтескье. В этом
отношении, однако, как и в некоторых других, его поздние подробные рассуждения
не вполне согласуются с его ранними общими
принципами. В главе I книги III он говорит, что
роль
верховной власти ограничивается выработкой законов и что исполнительная
часть, или правительство, есть посредствующий элемент между подданными и
верховной властью, для того чтобы обеспечить их взаимное
соответствие. Он продолжает: „Если суверен пожелает управлять
или если подданные откажут в повиновении, тогда вместо
порядка наступит беспорядок. .. и государство впадет, таким образом, в
деспотизм или анархию». В этом предложении, учитывая различия
в терминологии, кажется, что он согласен с Монтескье.
.. и государство впадет, таким образом, в
деспотизм или анархию». В этом предложении, учитывая различия
в терминологии, кажется, что он согласен с Монтескье.
Я перехожу теперь
к доктрине всеобщей воли, которая, с одной стороны, важна, а
с другой — — неясна. Всеобща? воля не идентична с волей большинства
или даже с волей всех граждан. Кажется, что ее надо
представлять как волю, принадлежащую государству как таковому. Если мы
принимаем взгляд Гоббса. что гражданское общество есть личность, то
мы должны предполагать, что оно наделено признаками личности,
включая волю. Но тогда мы сталкиваемся с тем, что трудно решить, в
чем же заключаются видимые проявления этой воли, и здесь
Руссо оставляет нас в неведении. Нам говорят, что | всеобщая воля
всегда права и всегда стремится к общественной выгоде. Но из этого не
следует, что, народное обсуждение также является правильным, так как часто
существует большая разница между волей всех и всеобщей
волей. В этом случае как мы можем знать, что такое всеобщая воля? В
той же главе имеется ответ следующего рода.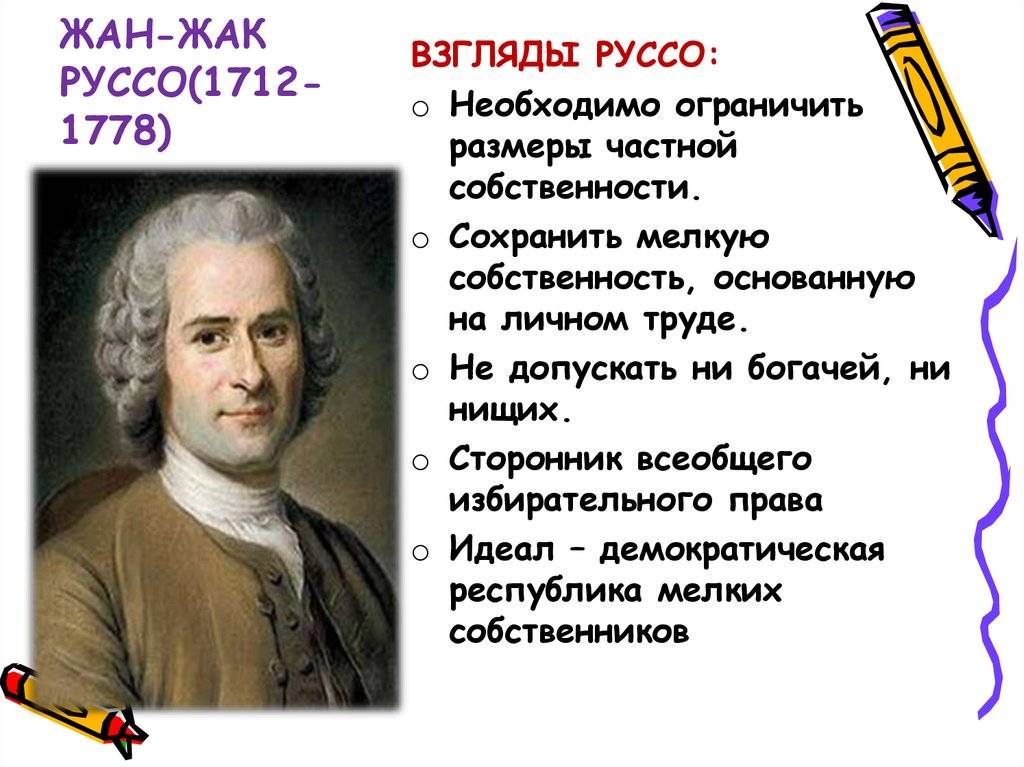 „Если бы в то время,
когда решение принимает достаточно сознательный народ, граждане не
имели никаких сношений между собой, то из большого числа
незначительных различий происходила бы всегда общая воля и решение было
бы всегда правильным».
„Если бы в то время,
когда решение принимает достаточно сознательный народ, граждане не
имели никаких сношений между собой, то из большого числа
незначительных различий происходила бы всегда общая воля и решение было
бы всегда правильным».
Эта концепция в представлении Руссо выглядит,
по-видимому, таким образом: политическое мнение каждого человека определяется
собственным интересом, но собственный интерес состоит из двух частей,
одна из которых специфична для индивидуума,
тогда как другая является общей для
всех членов общества. Если между гражданами нет возможности осуществления взаимовыгодной сделки
друг с другом, которая всегда случайна, их индивидуальные интересы,
будучи разнонаправленными, взаимоуничтожатся и останется результирующий интерес, который
будет представлять их общие интересы. Этот результирующий интерес
является всеобщей волей. Может быть, концепцию
Руссо можно проиллюстрировать на примере земного
тяготения. Каждая частица на Земле притягивает каждую
другую частицу во Вселенной.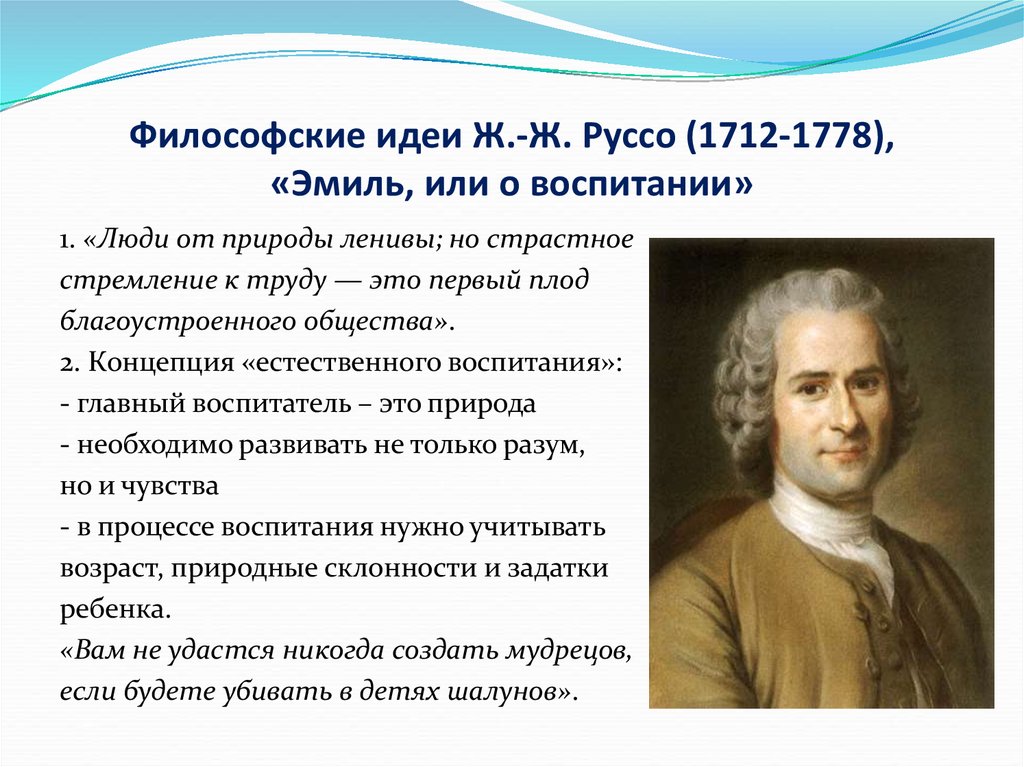 Воздух, находящийся над нами,
притягивает нас вверх, в то время как Земля, находящаяся
под нами, притягивает нас вниз. Но все эти „эгоистичные» притяжения
взаимоуничтожаются, поскольку они являются разнонаправленными, и то, что
остается, есть результирующее притяжение, направленное к центру Земли. Это образно можно представить
как действие Земли,
рассматриваемое как общество и как выражение всеобщей воли.
Воздух, находящийся над нами,
притягивает нас вверх, в то время как Земля, находящаяся
под нами, притягивает нас вниз. Но все эти „эгоистичные» притяжения
взаимоуничтожаются, поскольку они являются разнонаправленными, и то, что
остается, есть результирующее притяжение, направленное к центру Земли. Это образно можно представить
как действие Земли,
рассматриваемое как общество и как выражение всеобщей воли.
Сказать, что всеобщая воля всегда права, — лишь сказать, что, поскольку она представляет то, что обще индивидуальным интересам различных граждан, она должна представлять огромнейшее коллективное удовлетворение индивидуального интереса, возможного в обществе. Эта интерпретация смысла, который Руссо вкладывает в понятие „всеобщая воля», по-видимому, лучше соответствует словам Руссо, чем любая другая, которую я в состоянии придумать1.
По мнению
Руссо, на практике выражению „всеобщей воли» препятствует
существование соподчиненных ассоциаций в государстве.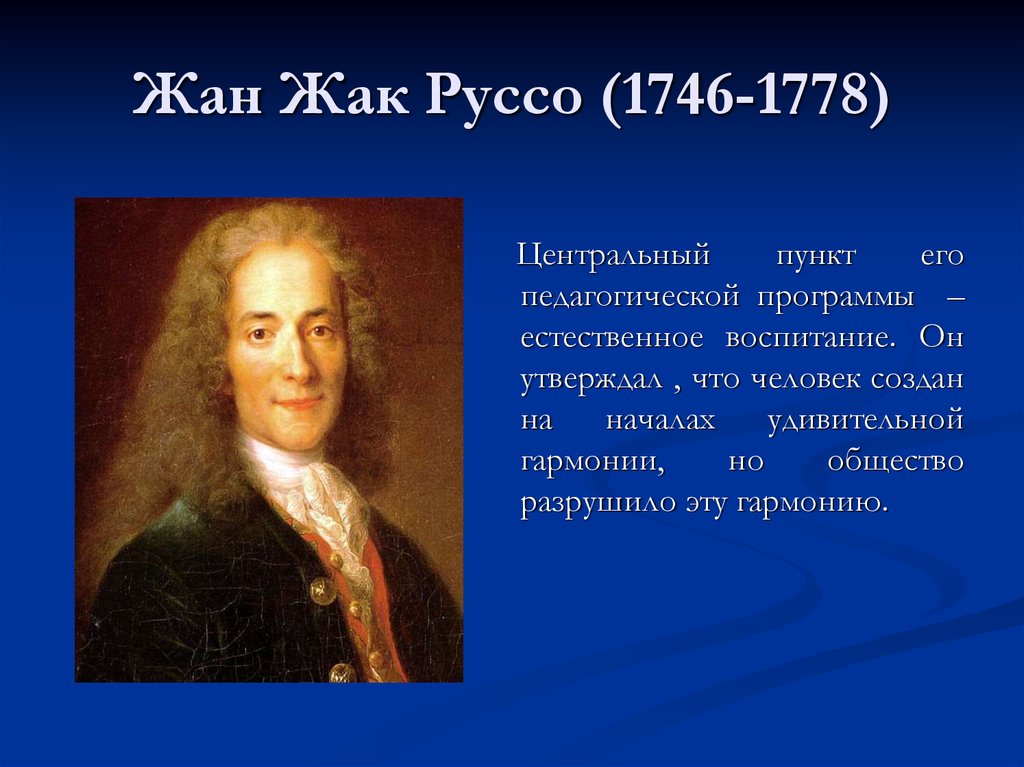 Каждая из них
будет иметь свои собственные общие воли, которые могут вступать в конфликт с
волей общества как целым. „Можно в таком случае
сказать, что голосующих уже не столько, сколько людей, а лишь столько,
сколько ассоциаций». Это приводит к важному следствию: „Чтобы получить
проявление общей воли, очень важно, следо- вательно, чтобы
в государстве не было отдельных обществ и чтобы каждый гражданин
решал только по своему усмотрению». В сноске Руссо подкрепляет свое мнение
авторитетом Макиавелли.
Каждая из них
будет иметь свои собственные общие воли, которые могут вступать в конфликт с
волей общества как целым. „Можно в таком случае
сказать, что голосующих уже не столько, сколько людей, а лишь столько,
сколько ассоциаций». Это приводит к важному следствию: „Чтобы получить
проявление общей воли, очень важно, следо- вательно, чтобы
в государстве не было отдельных обществ и чтобы каждый гражданин
решал только по своему усмотрению». В сноске Руссо подкрепляет свое мнение
авторитетом Макиавелли.
Рассмотрим, к чему такая система
приводила бы на практике. Государство
должно было бы запретить церковь, кроме государственной церкви, политические партии, профсоюзы и все
другие организации людей с близкими
экономическими интересами. Результатом, очевидно, является
корпоративное или тоталитарное государство, в котором отдельный гражданин
беспомощен. Руссо, кажется, понимает, что
может оказаться трудным запретить все ассоциации, и добавляет, хотя и с некоторым запозданием, что если должны существовать подчиненные ассоциации, то чем больше, тем
лучше, для того чтобы они могли
нейтрализовать одна другую.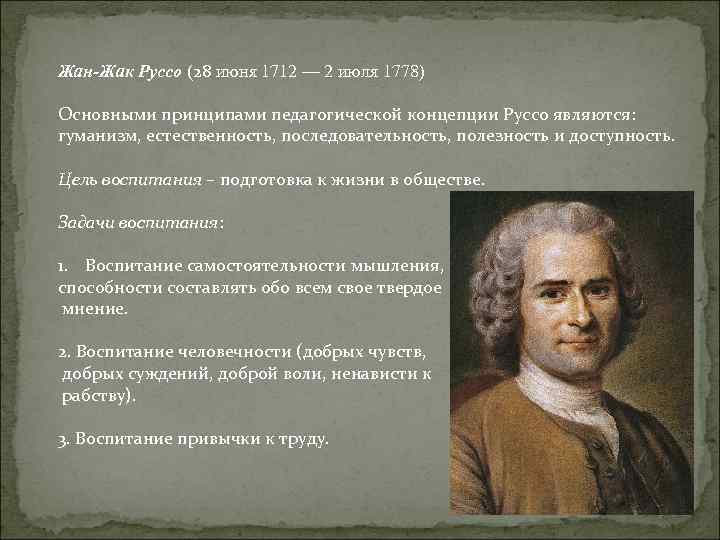
Когда в последней части книги он переходит к рассмотрению правительства, он понимает, что исполнительная власть неизбежно является ассоциацией, имеющей интерес и свою собственную всеобщую волю, которая легко может прийти в столкновение с всеобщей волей общества. Он говорит, что в то время как правительство большого государства должно быть сильнее, чем правительство малого, существует также большая необходимость в ограничении правительства посредством верховной власти. Член правительства имеет три воли: I свою личную волю, волю правительства и всеобщую волю. Эти три’ воли должны образовывать crescendo, но обычно в действительности они образуют diminuendo. „Все способствует тому, чтобы отнять и сцраведливость и разум у человека, воспитанного для того, чтобы Повелевать другими».
1 „Часто существует большое различие между волей всех и общей волей; последняя ‘
Имеет в виду только интересы общие, первая, составляющая лишь сумму воль отдельных
людей, — интересы частные; но отнимите от суммы этих самых воль крайности в
одну и другую сторону, взаимно друг друга уничтожающие, и остаток даст вам общую
волю».

Генерал будет | Определение, предшественники, дебаты и влияние
Жан-Жак Руссо
Смотреть все СМИ
- Ключевые люди:
- Жан-Жак Руссо
- Похожие темы:
- политическая философия будут
См. весь связанный контент →
общая воля , в политической теории коллективная воля, направленная на общее благо или общий интерес. Общая воля занимает центральное место в политической философии Жан-Жака Руссо и является важной концепцией современной республиканской мысли. Руссо отличал общую волю от частных и часто противоречивых воль отдельных лиц и групп. В Du Contrat social (1762; Общественный договор ), Руссо утверждал, что свобода и власть не противоречат друг другу, поскольку легитимные законы основаны на общей волеизъявлении граждан. Таким образом, подчиняясь закону, отдельный гражданин подчиняется только самому себе как члену политического сообщества.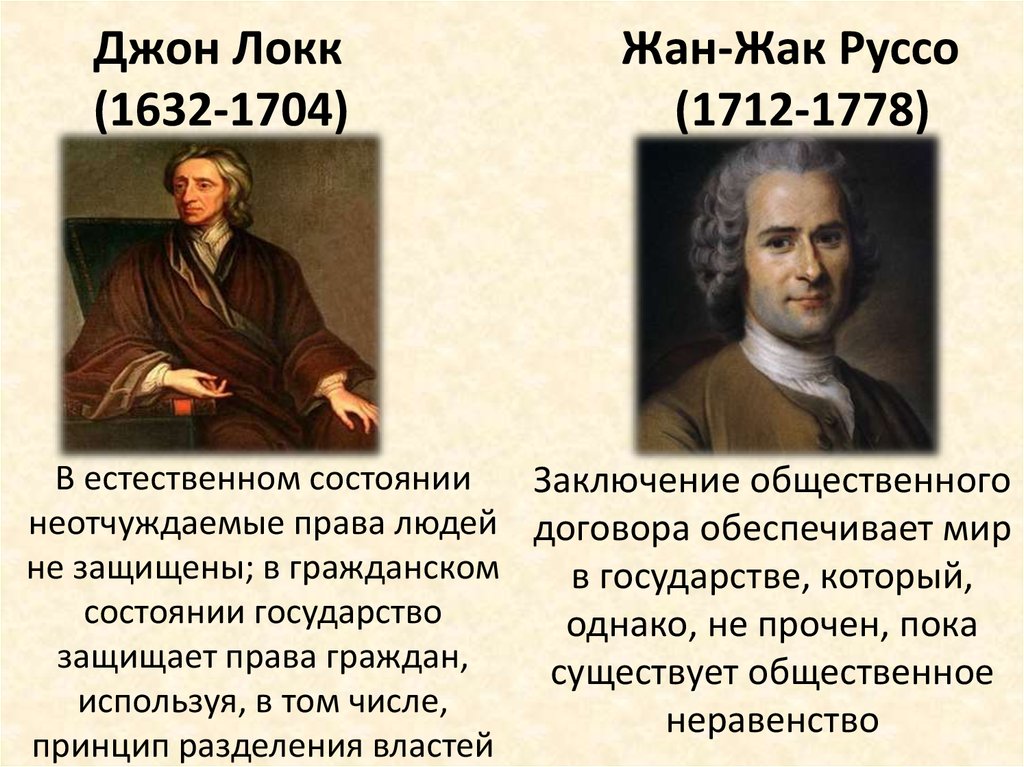
Понятие общей воли предшествует Руссо и уходит своими корнями в христианское богословие. Во второй половине XVII века Николя Мальбранш приписывал общую волю Богу. Бог, утверждал Мальбранш, в основном действует в мире через набор «общих законов», установленных при сотворении мира. Эти законы соответствуют общей воле Божией, в отличие от частных проявлений воли Божией: чудес и других случайных актов божественного вмешательства. Для Мальбранша именно потому, что воля Бога выражается в основном через общие законы, можно понять очевидное противоречие между волей Бога спасти все человечество и тем фактом, что большинство душ на самом деле не будут спасены. Собственное понимание Руссо всеобщей воли возникло из критики Дени Дидро, который трансформировал понимание всеобщей воли Мальбранша в светское понятие, но вторил Мальбраншу, определяя его в универсалистских терминах. В своей статье «Droit naturel» («Естественное право»), опубликованной в 1755 г.0023 Encyclopédie , Дидро утверждал, что мораль основана на общем желании человечества улучшить свое собственное счастье.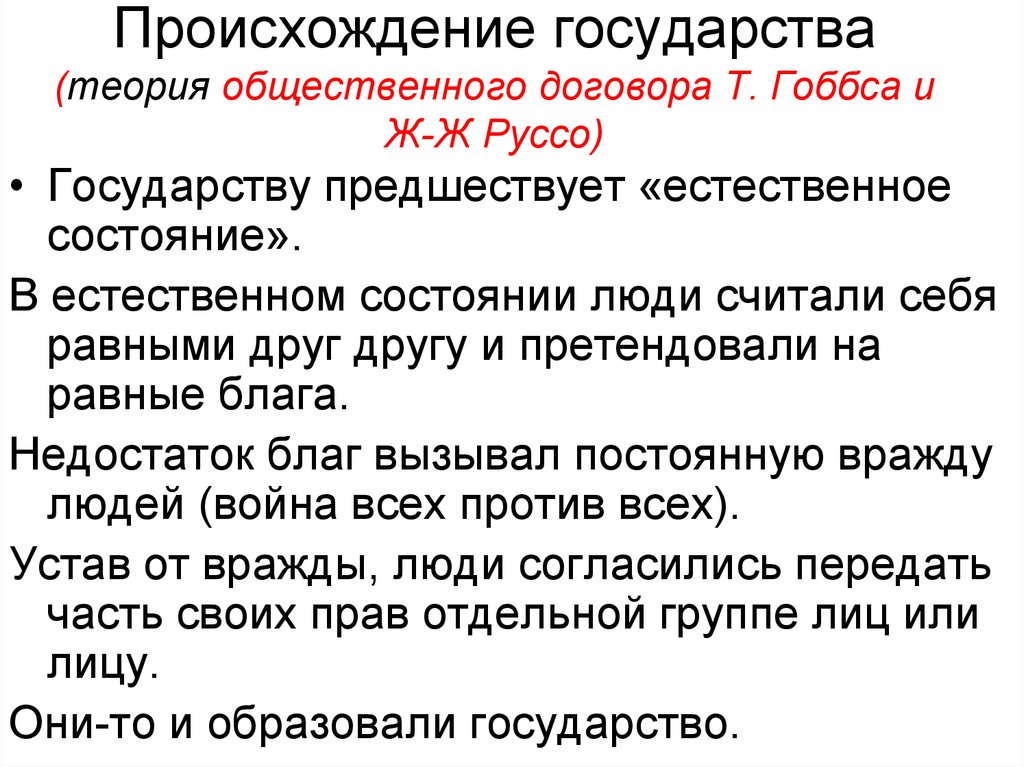 Люди могут получить доступ к этому нравственному идеалу, размышляя о своих интересах как представителей человеческого рода. Общая воля, считал Дидро, обязательно направлена на благо, поскольку ее цель — улучшение всех.
Люди могут получить доступ к этому нравственному идеалу, размышляя о своих интересах как представителей человеческого рода. Общая воля, считал Дидро, обязательно направлена на благо, поскольку ее цель — улучшение всех.
Подробнее по этой теме
конституция: Руссо и общая воля
Тогда как Гоббс создал своего унитарного государя через механизм индивидуальных и односторонних обещаний и тогда как Локк предотвратил чрезмерное…
Однако для Руссо всеобщая воля не есть абстрактный идеал. Наоборот, это воля, которой люди фактически обладают как граждане. Таким образом, концепция Руссо носит политический характер и отличается от более универсальной концепции всеобщей воли Дидро. Принимать участие в общей воле означает, по Руссо, размышлять и голосовать на основе своего чувства справедливости. Индивидуумы осознают свои интересы как граждан, по Руссо, а тем самым и интересы республики в целом, не путем бурных дискуссий, а, наоборот, следуя своей личной совести в «молчании страстей».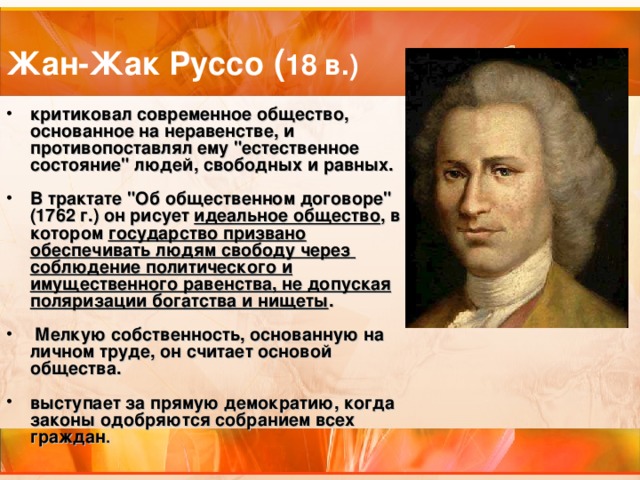 В этом смысле народное собрание не столько обсуждает, сколько раскрывает общую волю народа. Руссо утверждал, что общая воля внутренне верна, но в некоторых работах (главным образом в его Discours sur les Sciences et les arts (1750; Рассуждения о науках и искусствах ) рационалистическое возвышение разума над чувствами. Это спровоцировало научные споры о рациональном и аффективном измерениях общей воли. С одной стороны, общая воля отражает разумный интерес как отдельного человека (как гражданина), так и народа в целом. С другой стороны, общая воля не является чисто рациональной, поскольку она возникает из привязанности и даже любви к своему политическому сообществу.
В этом смысле народное собрание не столько обсуждает, сколько раскрывает общую волю народа. Руссо утверждал, что общая воля внутренне верна, но в некоторых работах (главным образом в его Discours sur les Sciences et les arts (1750; Рассуждения о науках и искусствах ) рационалистическое возвышение разума над чувствами. Это спровоцировало научные споры о рациональном и аффективном измерениях общей воли. С одной стороны, общая воля отражает разумный интерес как отдельного человека (как гражданина), так и народа в целом. С другой стороны, общая воля не является чисто рациональной, поскольку она возникает из привязанности и даже любви к своему политическому сообществу.
Руссо полагал, что все люди способны встать на моральную точку зрения, стремясь к общему благу, и что если бы они это сделали, то пришли бы к единодушному решению. Таким образом, в идеальном государстве законы выражают общую волю. Хотя граждане могут ошибаться и быть обманутыми, согласно Руссо, они будут стремиться к справедливости до тех пор, пока будут преследовать интересы людей, а не следовать своим интересам как личности или как члены различных групп.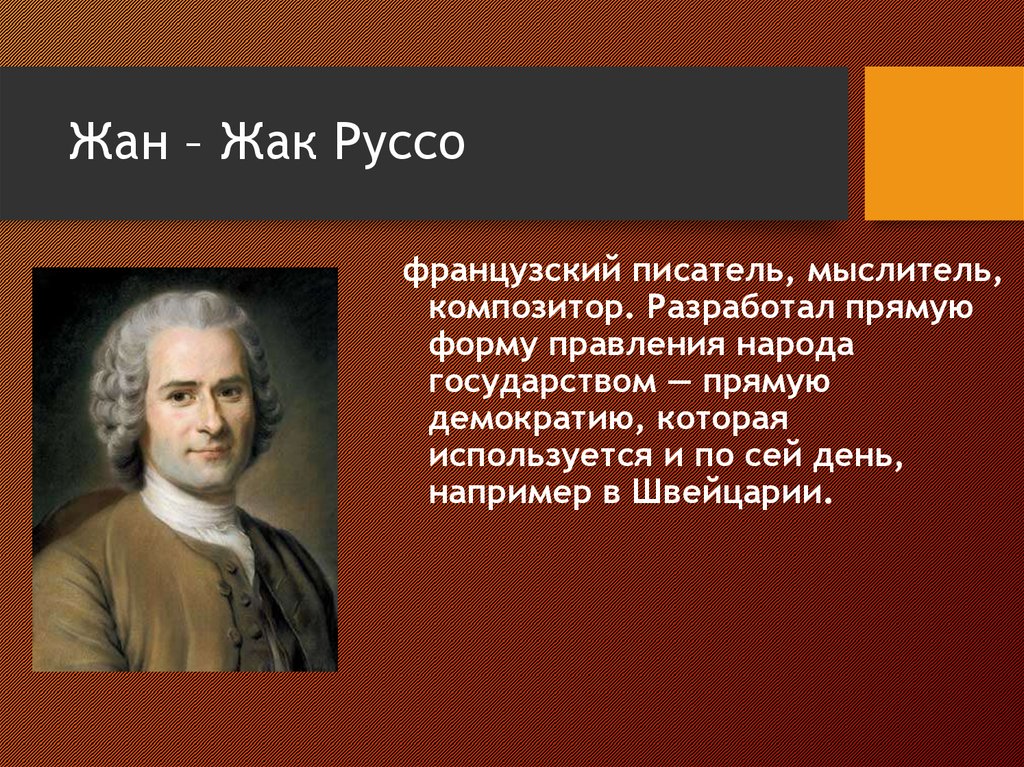 С этой точки зрения человек, нарушающий закон, действует не только против установленного правительства, но и против высших интересов этого человека как члена политического сообщества. В известном отрывке Общественный договор , Руссо утверждал, что требование от такого индивидуума соблюдать закон есть не что иное, как «принуждение его к свободе». На этом основании критики, в том числе Бенджамин Констант и Джейкоб Талмон, обвинили Руссо в том, что он является авторитарным мыслителем и, во втором случае, праотцом тоталитарной политики. Однако обвинительный акт Талмона был в значительной степени дискредитирован.
С этой точки зрения человек, нарушающий закон, действует не только против установленного правительства, но и против высших интересов этого человека как члена политического сообщества. В известном отрывке Общественный договор , Руссо утверждал, что требование от такого индивидуума соблюдать закон есть не что иное, как «принуждение его к свободе». На этом основании критики, в том числе Бенджамин Констант и Джейкоб Талмон, обвинили Руссо в том, что он является авторитарным мыслителем и, во втором случае, праотцом тоталитарной политики. Однако обвинительный акт Талмона был в значительной степени дискредитирован.
Хотя ученые расходятся во мнениях относительно значения вышеупомянутого отрывка, существует широкое согласие в том, что Руссо заботился о сохранении гражданской свободы и автономии, а не о предоставлении правительству свободы действий. На самом деле понятие всеобщей воли подразумевает и запрет на деспотизм. Для Руссо правительство легитимно только постольку, поскольку оно подчинено народному суверенитету или, другими словами, следует общей воле народа.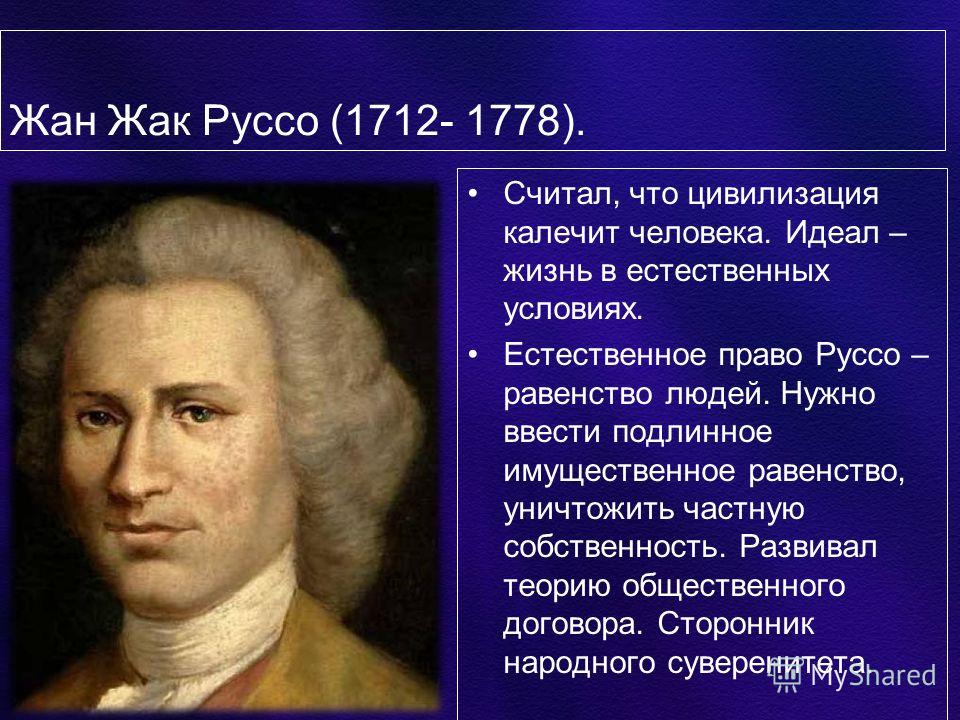 Правительство теряет всякую легитимность в тот момент, когда оно ставит себя выше закона, преследуя собственные интересы как отдельный политический орган.
Правительство теряет всякую легитимность в тот момент, когда оно ставит себя выше закона, преследуя собственные интересы как отдельный политический орган.
Концепция всеобщей воли оказала глубокое и продолжительное влияние на современную республиканскую мысль, особенно на французскую традицию. Декларация о правах человека и гражданина от 1789 года (статья 6), основополагающий документ действующей французской Конституции, определяет право как выражение всеобщей воли.
Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас
Андре Мунро
Жан-Жак Руссо (1712–1778) Обзор и анализ общественного договора
Резюме
Руссо начинает Общественный договор с
самые известные слова, которые он когда-либо написал: «Люди рождаются свободными, но везде
в цепях». С этого провокационного начала Руссо продолжает:
описать множество способов, которыми «цепи» гражданского общества
подавляют естественное неотъемлемое право человека на физическую свободу. Он утверждает
что гражданское общество ничего не делает для обеспечения равенства и
индивидуальная свобода, обещанная человеку, когда он вступил в
это общество. Для Руссо единственной легитимной политической властью
есть авторитет, с которым согласны все люди, согласившиеся
такому правительству, заключив общественный договор ради
их взаимного сохранения.
Он утверждает
что гражданское общество ничего не делает для обеспечения равенства и
индивидуальная свобода, обещанная человеку, когда он вступил в
это общество. Для Руссо единственной легитимной политической властью
есть авторитет, с которым согласны все люди, согласившиеся
такому правительству, заключив общественный договор ради
их взаимного сохранения.
Руссо описывает идеальную форму этого общественного договора
а также объясняет его философские основы. К Руссо,
коллективное объединение всех людей, которые с их согласия входят
в гражданское общество называется государем , а
этого суверена можно рассматривать, по крайней мере метафорически, как
личность с единой волей. Этот принцип важен,
поскольку, хотя реальные люди могут, естественно, придерживаться разных мнений
и хочет в соответствии с их индивидуальными обстоятельствами, суверен
в целом выражает вообще будет всех
люди. Руссо определяет эту общую волю как коллективную потребность.
всего, чтобы обеспечить общее благо всех.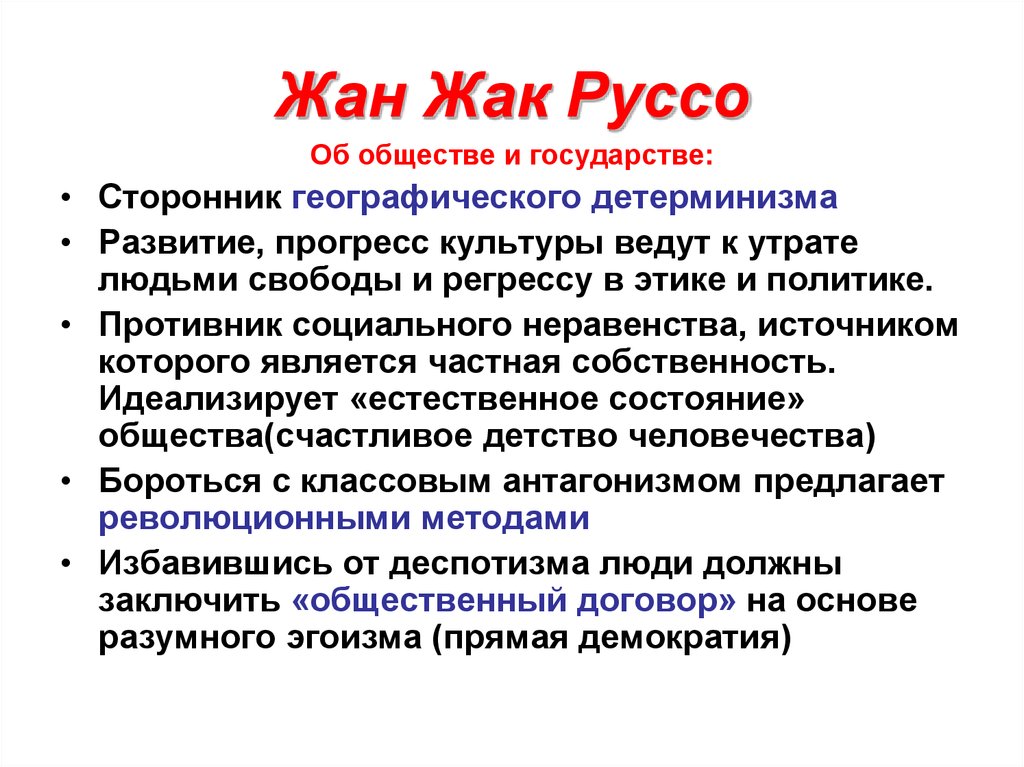
Для Руссо важнейшей функцией генерала воля состоит в том, чтобы сообщать о создании законов государства. Эти законы, хотя кодифицирован беспристрастным, негражданином «законодателем», должен в их сущность выражает общую волю. Соответственно, хотя все законы должны защищать права на равенство между гражданами и отдельными свободы, Руссо утверждает, что их особенности могут быть сделаны в соответствии с местные обстоятельства. Хотя законы обязаны своим существованием общему воля суверена или коллектива всех людей, некоторая форма правительства необходимо для осуществления исполнительной функции обеспечение соблюдения законов и надзор за повседневным функционированием государства.
Руссо пишет, что это правительство может принять разные
формах, включая монархию, аристократию и демократию.
размерам и особенностям государства, и что все эти
формы имеют различные достоинства и недостатки. Он утверждает, что монархия
всегда самый прочный, особенно подходит для жаркого климата,
и может быть необходимо во всех государствах во время кризиса. Он утверждает
что аристократия, или правление немногих, наиболее устойчива, однако, и
в большинстве штатов является предпочтительной формой.
Он утверждает
что аристократия, или правление немногих, наиболее устойчива, однако, и
в большинстве штатов является предпочтительной формой.
Руссо признает, что государь и правительство будут
часто имеют натянутые отношения, поскольку правительство иногда
может идти против общей воли народа. Руссо утверждает
что для сохранения осознания общей воли государь должен
созывать регулярные периодические собрания для определения общего
будет, и в этот момент обязательно, чтобы отдельные граждане голосовали, а не
в соответствии со своими личными интересами, но в соответствии со своими представлениями
общей воли всех людей в данный момент. Таким образом, в
здоровое состояние, практически все голоса собрания должны приближаться к единогласию,
поскольку все люди признают свои общие интересы. Более того,
Руссо, крайне важно, чтобы все люди осуществляли свои
суверенитета, посещая такие собрания, ибо всякий раз, когда люди останавливаются
сделать это, или избрать для этого представителей, их
суверенитет потерян.