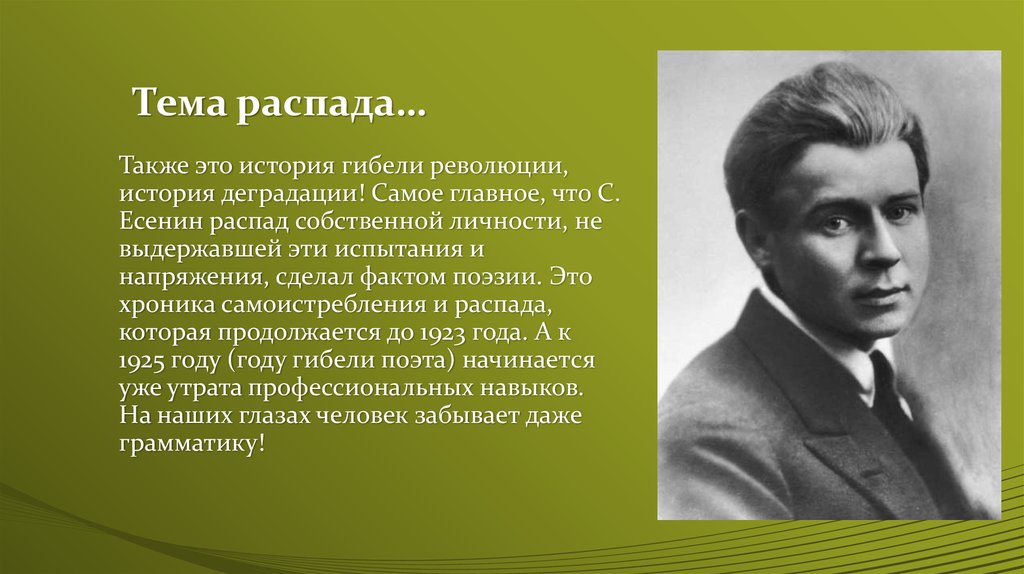Читать онлайн «Стихотворения. Поэмы. Повести. Рассказы», Сергей Есенин – Литрес
Сергей Есенин
В седьмом или восьмом году, на Капри, Стефан Жеромский рассказал мне и болгарскому писателю Петко Тодорову историю о мальчике, жмудине или мазуре, крестьянине, который каким-то случаем попал в Краков и заплутался в нем. Он долго кружился по улицам города и все не мог выбраться на простор поля, привычный ему. А когда наконец почувствовал, что город не хочет выпустить его, встал на колени, помолился и прыгнул с моста в Вислу, надеясь, что уж река вынесет его на желанный простор. Утонуть ему не дали, он помер оттого, что разбился.
Незатейливый рассказ этот напоминал мне смерть Сергея Есенина. Впервые я увидел Есенина в Петербурге в 1914 году, где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком 15—17 лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь, мы, трое, шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду. Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне; она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.
Было лето, душная ночь, мы, трое, шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду. Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне; она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.
Такие чистенькие мальчики – жильцы тихих городов, Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хорах, а в самой лучшей позиции – детьми небогатых купцов, сторонников «древлего благочестия».
Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял ночью, на Симеоновском, и видел, как он, сквозь зубы, плюет на черный бархат реки, стиснутой гранитом.
Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А.Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце.
Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков.
– Тоже поэт, – сказал о нем Есенин, тихо и с хрипотой.
Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: «Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы».
Но я не люблю, не понимаю пляски от разума, и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню – было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно и она, полуодетая, бегает, чтоб согреться, выскользнуть из холода.
У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости.
Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая ко груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка.
Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом, являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Тут нет ничего предвзятого, придуманного вот сейчас; нет, я говорю о впечатлении того тяжелого дня, когда, глядя на эту женщину, я думал: как может она почувствовать смысл таких вздохов поэта:
Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать!
Что могут сказать ей такие горестные его усмешки:
Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе, —
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.
Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на нее, морщился. Может быть, именно в эти минуты у него сложились в строку стиха слова сострадания:
Излюбили тебя, измызгали…
И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит. Несколько раз он встряхнул головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха.
Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули в нем и жестоко и жалостно отчаянные слова:
Что ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?
…Дорогая, я плачу,
Прости… прости…
Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши.
Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!
Что ты? Смерть?
Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренно, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:
Я хочу видеть этого человека!
И великолепно был передан страх:
Где он? Где? Неужель его нет?
Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна.
Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный:
Вы с ума сошли?
Громко и гневно, затем тише, но еще горячей:
Вы с ума сошли?
И наконец совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:
Вы с ума сошли?
Кто сказал вам, что мы уничтожены?
Неописуемо хорошо спросил он:
Неужели под душой так же падаешь, как под ношею?
И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, прощально:
Дорогие мои…
Хорошие…
Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он – думаю – и не нуждался в них.
Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он – думаю – и не нуждался в них.
Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.
– Если вы не устали…
– Я не устаю от стихов, – сказал он и недоверчиво спросил: – А вам нравится о собаке?
Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.
– Да, я очень люблю всякое зверье, – молвил Есенин задумчиво и тихо, а на мой вопрос, знает ли он «Рай животных» Клоделя, не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки:
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег, —
на его глазах тоже сверкнули слезы.
После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей»[1], любви ко всему живому в мире и милосердия, которое – более всего иного – заслужено человеком. И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта.
И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта.
А он как-то тревожно заскучал. Приласкав Дункан, как, вероятно, он ласкал рязанских девиц, похлопав ее по спине, он предложил поехать:
– Куда-нибудь в шум, – сказал он.
Решили: вечером ехать в Луна-парк.
Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин.
– Очень хороши рошен, – растроганно говорила она. – Такой – ух! Не бывает…
Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал:
– Не смей целовать чужих!
Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими.
Безобразное великолепие Луна-парка оживило Есенина, он, посмеиваясь, бегал от одной диковины к другой, смотрел, как развлекаются почтенные немцы, стараясь попасть мячом в рот уродливой картонной маски, как упрямо они влезают по качающейся под ногами лестнице и тяжело падают на площадке, которая волнообразно вздымается. Было неисчислимо много столь же незатейливых развлечений, было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно бы назвать «музыкой для толстых».
Было неисчислимо много столь же незатейливых развлечений, было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно бы назвать «музыкой для толстых».
– Настроили – много, а ведь ничего особенного не придумали, – сказал Есенин и сейчас же прибавил: – Я не хаю.
Затем, наскоро, заговорил, что глагол «хаять» лучше, чем «порицать».
– Короткие слова всегда лучше многосложных, – сказал он.
Торопливость, с которой Есенин осматривал увеселения, была подозрительна и внушала мысль: человек хочет все видеть для того, чтобы поскорей забыть. Остановясь перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пестрое, он спросил меня неожиданно и тоже торопливо:
– Вы думаете, мои стихи – нужны? И вообще искусство, то есть поэзия – нужна?
Вопрос был уместен как нельзя больше, – Луна-парк забавно живет и без Шиллера.
Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предложив:
– Пойдемте вино пить.
На огромной террасе ресторана, густо усаженной веселыми людьми, он снова заскучал, стал рассеянным, капризным. Вино ему не понравилось:
Вино ему не понравилось:
– Кислое и пахнет жженым пером. Спросите красного, французского.
Но и красное он пил неохотно, как бы по обязанности. Минуты три сосредоточенно смотрел вдаль; там, высоко в воздухе, на фоне черных туч, шла женщина по канату, натянутому через пруд. Ее освещали бенгальским огнем, над нею и как будто вслед ей летели ракеты, угасая в тучах и отражаясь в воде пруда. Это было почти красиво, но Есенин пробромотал:
– Все хотят как страшнее. Впрочем, я люблю цирк. А – вы?
Он не вызывал впечатления человека забалованного, рисующегося, нет, казалось, что он попал в это сомнительно веселое место по обязанности или из «приличия», как неверующие посещают церковь. Пришел и нетерпеливо ждет, скоро ли кончится служба, ничем не задевающая его души, служба чужому богу.
Максим Горький
Автобиография
Я родился в 1895 году 21 сентября в селе Константинове Кузьминской волости, Рязанской губ. и Рязанского уез. Отец мой крестьянин Александр Никитич Есенин, мать Татьяна Федоровна.
Детство провел у деда и бабки по матери в другой части села, которое наз. Матово.
Первые мои воспоминания относятся к тому времени, когда мне было три-четыре года.
Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий монастырь, который от нас верстах в 40. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, бог счастье даст».
Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе, светлом госте из града неведомого.
Нянька – старуха приживальщица, которая ухаживала за мной, рассказывала мне сказки, все те сказки, которые слушают и знают все крестьянские дети.
Дедушка пел мне песни старые, такие тягучие, заунывные. По субботам и воскресным дням он рассказывал мне Библию и священную историю.
Уличная моя жизнь была непохожа на домашнюю. Сверстники мои были ребята озорные. С ними я лазил вместе по чужим огородам. Убегал дня на 2—3 в луга и питался вместе с пастухами рыбой, которую мы ловили в маленьких озерах, сначала замутив воду руками, или выводками утят.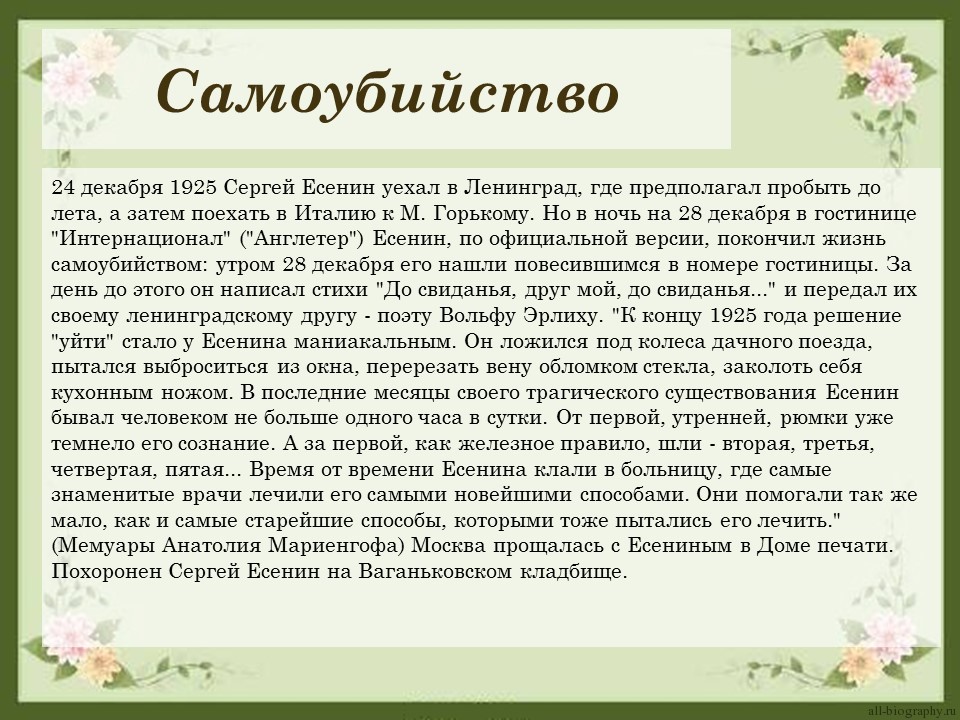
После, когда я возвращался, мне частенько влетало.
В семье у нас был припадочный дядя, кроме бабки, деда и моей няньки.
Он меня очень любил, и мы часто ездили с ним на Оку поить лошадей. Ночью луна при тихой погоде стоит стоймя в воде. Когда лошади пили, мне казалось, что они вот-вот выпьют луну, и радовался, когда она вместе с кругами отплывала от их ртов. Когда мне сравнялось 12 лет, меня отдали учиться из сельской земской школы в учительскую школу. Родные хотели, чтоб из меня вышел сельский учитель. Надежды их простирались до института, к счастью моему, в который я не попал.
Стихи писать начал лет с 9, читать выучили в 5.
Влияние на мое творчество в самом начале имели деревенские частушки. Период учебы не оставил на мне никаких следов, кроме крепкого знания церковнославянского языка. Это все, что я вынес.
Остальным занимался сам под руководством некоего Клеменова. Он познакомил меня с новой литературой и объяснил, почему нужно кое в чем бояться классиков. Из поэтов мне больше всего нравился Лермонтов и Кольцов. Позднее я перешел к Пушкину.
Из поэтов мне больше всего нравился Лермонтов и Кольцов. Позднее я перешел к Пушкину.
1913 г. я поступил вольнослушателем в Университет Шанявского. Пробыв там 1,5 года, должен был уехать обратно по материальным обстоятельствам в деревню.
В это время у меня была написана книга стихов «Радуница». Я послал из них некоторые в петербургские журналы и, не получая ответа, поехал туда сам. Приехал, отыскал Городецкого. Он встретил меня весьма радушно. Тогда на его квартире собирались почти все поэты. Обо мне заговорили, и меня начали печатать чуть ли не нарасхват.
Печатался я: «Русская мысль», «Жизнь для всех», «Ежемесячный журнал» Миролюбова, «Северные записки» и т. д. Это было весной 1915 г. А осенью этого же года Клюев мне прислал телеграмму в деревню и просил меня приехать к нему.
Он отыскал мне издателя М.В. Аверьянова, и через несколько месяцев вышла моя первая книга «Радуница». Вышла она в ноябре 1915 г. с пометкой 1916 г.
В первую пору моего пребывания в Петербурге мне часто приходилось встречаться с Блоком, с Ивановым-Разумником. Позднее с Андреем Белым.
Позднее с Андреем Белым.
Первый период революции встретил сочувственно, но больше стихийно, чем сознательно.
1917 году произошла моя первая женитьба на З.Н. Райх.
1918 году я с ней расстался, и после этого началась моя скитальческая жизнь. как и всех россиян за период 1918—21 гг. За эти годы я был в Туркестане, на Кавказе, в Персии, в Крыму, в Бессарабии, в Оренбургских степях, на Мурманском побережье, в Архангельске и Соловках.
1921 г. я женился на А. Дункан и уехал в Америку, предварительно исколесив всю Европу, кроме Испании.
После заграницы я смотрел на страну свою и события по-другому.
Наше едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится цивилизация. Но я очень не люблю Америки. Америка это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества. Если сегодня держат курс на Америку, то я готов тогда предпочесть наше серое небо и наш пейзаж: изба, немного вросла в землю, прясло, из прясла торчит огромная жердь, вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошаденка. Это не то что небоскребы, которые дали пока что только Рокфеллера и Маккормика, но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и др.
Это не то что небоскребы, которые дали пока что только Рокфеллера и Маккормика, но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и др.
Прежде всего я люблю выявление органического. Искусство для меня не затейливость узоров, а самое необходимое слово того языка, которым я хочу себя выразить.
Поэтому основанное в 1919 году течение имажинизм, с одной стороны – мной, а с другой – Шершеневичем, хоть и повернуло формально русскую поэзию по другому руслу восприятия, но зато не дало никому еще права претендовать на талант. Сейчас я отрицаю всякие школы. Считаю, что поэт и не может держаться определенной какой-нибудь школы. Это его связывает по рукам и ногам. Только свободный художник может принести свободное слово.
Вот и все то, короткое, схематичное, что касается моей биографии. Здесь не все сказано. Но я думаю, мне пока еще рано подводить какие-либо итоги себе. Жизнь моя и мое творчество еще впереди.
20 июня 1924
Лирика
* * *
Вот уж вечер.Роса
Блестит на крапиве.
Я стою у дороги,
Прислонившись к иве.
От луны свет большой
Прямо на нашу крышу.
Где-то песнь соловья
Вдалеке я слышу.
Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечки.
И вдали за рекой,
Видно, за опушкой,
Сонный сторож стучит
Мертвой колотушкой.
1910
* * *
Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.
1910
Калики
Проходили калики деревнями,
Выпивали под окнами квасу,
У церквей пред затворами древними
Поклонялись Пречистому Спасу.
Пробиралися странники по полю,
Пели стих о сладчайшем Исусе.
Мимо клячи с поклажею топали,
Подпевали горластые гуси.
Ковыляли убогие по стаду,
Говорили страдальные речи:
«Все единому служим мы Господу,
Возлагая вериги на плечи».
Вынимали калики поспешливо
Для коров сбереженные крохи.
И кричали пастушки насмешливо:
«Девки, в пляску. Идут скоморохи».
1910
* * *
Поет зима – аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.
А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.
Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным
И злится все сильней.
И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мерзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнца ясная
Красавица весна.
1910
* * *
Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется – на душе светло.
Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие под соседний стог.
Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду нет.
Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.
И пускай со звонами плачут глухари.
Есть тоска веселая в алостях зари.
1910
* * *
Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.
Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой вы, луга и дубравы, —
Я одурманен весной.
Радугой тайные вести
Светятся в душу мою.
Думаю я о невесте,
Только о ней лишь пою.
Сыпь ты, черемуха, снегом,
Пойте вы, птахи, в лесу.
По полю зыбистым бегом
Пеной я цвет разнесу.
1910
Подражание песне
Ты поила коня из горстей в поводу,
Отражаясь, березы ломались в пруду.
Я смотрел из окошка на синий платок,
Кудри черные змейно трепал ветерок.
Мне хотелось в мерцании пенистых струй
С алых губ твоих с болью сорвать поцелуй.
Но с лукавой улыбкой, брызнув на меня,
Унеслася ты вскачь, удилами звеня.
В пряже солнечных дней время выткало нить…
Мимо окон тебя понесли хоронить.
И под плач панихид, под кадильный канон
Все мне чудился тихий раскованный звон.
1910
* * *
Дымом половодье
Зализало ил.
Желтые поводья
Месяц уронил.
Еду на баркасе.
Тычусь в берега.
Церквами у прясел
Рыжие стога.
Заунывным карком
В тишину болот
Черная глухарка
К всенощной зовет.
Роща синим мраком
Кроет голытьбу…
Помолюсь украдкой
За твою судьбу.
1910
* * *
Хороша была Танюша, краше не было в селе,
Красной рюшкою по белу сарафан на подоле.
У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру.
Месяц в облачном тумане водит с тучами игру.
Вышел парень, поклонился кучерявой головой:
«Ты прощай ли, моя радость, я женюся на другой».
Побледнела, словно саван, схолодела, как роса.
Душегубкою-змеею развилась ее коса.
«Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу,
Я пришла тебе сказаться: за другого выхожу».
Не заутренние звоны, а венчальный переклик,
Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик.
Не кукушки загрустили – плачет Танина родня,
На виске у Тани рана от лихого кистеня.
Алым венчиком кровинки запеклися на челе,
Хороша была Танюша, краше не было в селе.
1911
* * *
Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.
Выходи встречать к околице, красотка, жениха.
Васильками сердце светится, горит в нем бирюза.
Я играю на тальяночке про синие глаза.
То не зори в струях озера свой выткали узор,
Твой платок, шитьем украшенный,
мелькнул за косогор.
Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.
Пусть послушает красавица прибаски жениха.
1912
* * *
Матушка в купальницу по лесу ходила,
Босая с подтыками по росе бродила.
Травы ворожбиные ноги ей кололи,
Плакала родимая в купырях от боли.
Не дознамо печени судорга схватила,
Охнула кормилица, тут и породила.
Родился я с песнями в травном одеяле.
Зори меня вешние в радугу свивали.
Вырос я до зрелости, внук купальской ночи,
Сутемень колдовная счастье мне пророчит.
Только не по совести счастье наготове,
Выбираю удалью и глаза и брови.
Как снежинка белая, в просини я таю
Да к судьбе-разлучнице след свой заметаю.
1912
Читать бесплатно книгу «Стихотворения. Поэмы. Повести. Рассказы» Сергея Есенина полностью онлайн — MyBook
В седьмом или восьмом году, на Капри, Стефан Жеромский рассказал мне и болгарскому писателю Петко Тодорову историю о мальчике, жмудине или мазуре, крестьянине, который каким-то случаем попал в Краков и заплутался в нем. Он долго кружился по улицам города и все не мог выбраться на простор поля, привычный ему. А когда наконец почувствовал, что город не хочет выпустить его, встал на колени, помолился и прыгнул с моста в Вислу, надеясь, что уж река вынесет его на желанный простор. Утонуть ему не дали, он помер оттого, что разбился.
Незатейливый рассказ этот напоминал мне смерть Сергея Есенина. Впервые я увидел Есенина в Петербурге в 1914 году, где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком 15—17 лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь, мы, трое, шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду. Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне; она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.
Было лето, душная ночь, мы, трое, шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду. Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне; она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.
Такие чистенькие мальчики – жильцы тихих городов, Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хорах, а в самой лучшей позиции – детьми небогатых купцов, сторонников «древлего благочестия».
Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял ночью, на Симеоновском, и видел, как он, сквозь зубы, плюет на черный бархат реки, стиснутой гранитом.
Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А.Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то вдруг неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он – человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее – серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит – что именно забыто им?
Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то вдруг неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он – человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее – серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит – что именно забыто им?
Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков.
– Тоже поэт, – сказал о нем Есенин, тихо и с хрипотой.
Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: «Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы».
Но я не люблю, не понимаю пляски от разума, и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню – было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно и она, полуодетая, бегает, чтоб согреться, выскользнуть из холода.
У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости.
Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая ко груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка.
Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом, являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Тут нет ничего предвзятого, придуманного вот сейчас; нет, я говорю о впечатлении того тяжелого дня, когда, глядя на эту женщину, я думал: как может она почувствовать смысл таких вздохов поэта:
Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать!
Что могут сказать ей такие горестные его усмешки:
Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе, —
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.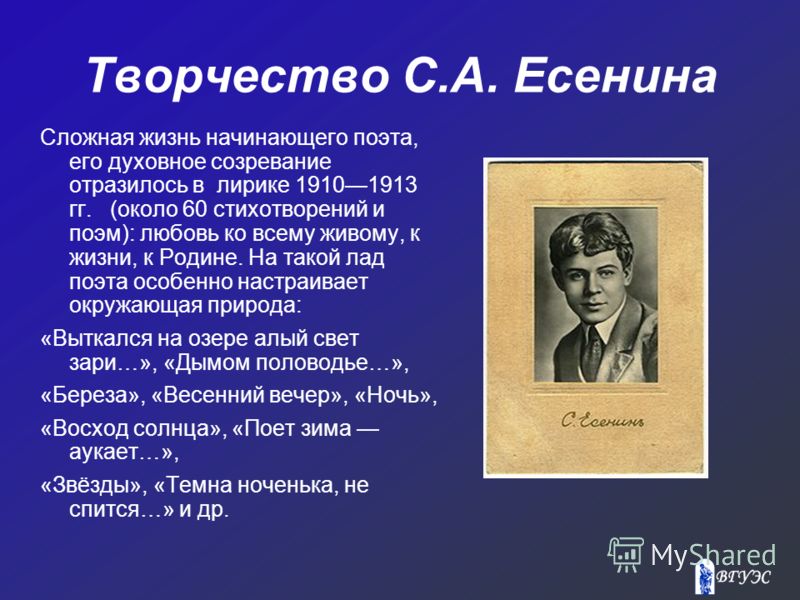
Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на нее, морщился. Может быть, именно в эти минуты у него сложились в строку стиха слова сострадания:
Излюбили тебя, измызгали…
И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит. Несколько раз он встряхнул головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха.
Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули в нем и жестоко и жалостно отчаянные слова:
Что ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?
…Дорогая, я плачу,
Прости… прости…
Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.
Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.
Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!
Что ты? Смерть?
Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренно, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:
Я хочу видеть этого человека!
И великолепно был передан страх:
Где он? Где? Неужель его нет?
Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно – под ноги себе, другое – далеко, третье – в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще все: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, катающийся корпус, тоской горящие глаза – все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час.
Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно – под ноги себе, другое – далеко, третье – в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще все: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, катающийся корпус, тоской горящие глаза – все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час.
Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный:
Вы с ума сошли?
Громко и гневно, затем тише, но еще горячей:
Вы с ума сошли?
И наконец совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:
Вы с ума сошли?
Кто сказал вам, что мы уничтожены?
Неописуемо хорошо спросил он:
Неужели под душой так же падаешь, как под ношею?
И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, прощально:
Дорогие мои…
Хорошие…
Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось.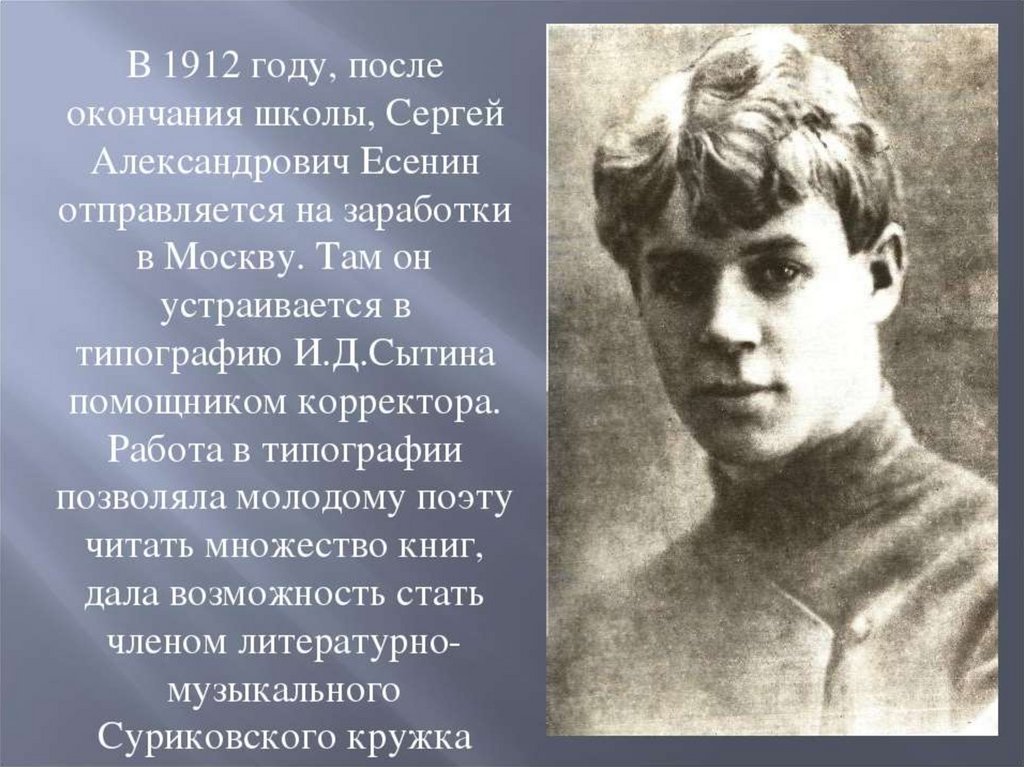 Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он – думаю – и не нуждался в них.
Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он – думаю – и не нуждался в них.
Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.
– Если вы не устали…
– Я не устаю от стихов, – сказал он и недоверчиво спросил: – А вам нравится о собаке?
Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.
– Да, я очень люблю всякое зверье, – молвил Есенин задумчиво и тихо, а на мой вопрос, знает ли он «Рай животных» Клоделя, не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки:
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег, —
на его глазах тоже сверкнули слезы.
После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей»[1], любви ко всему живому в мире и милосердия, которое – более всего иного – заслужено человеком. И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта.
И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта.
А он как-то тревожно заскучал. Приласкав Дункан, как, вероятно, он ласкал рязанских девиц, похлопав ее по спине, он предложил поехать:
– Куда-нибудь в шум, – сказал он.
Решили: вечером ехать в Луна-парк.
Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин.
– Очень хороши рошен, – растроганно говорила она. – Такой – ух! Не бывает…
Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал:
– Не смей целовать чужих!
Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими.
Безобразное великолепие Луна-парка оживило Есенина, он, посмеиваясь, бегал от одной диковины к другой, смотрел, как развлекаются почтенные немцы, стараясь попасть мячом в рот уродливой картонной маски, как упрямо они влезают по качающейся под ногами лестнице и тяжело падают на площадке, которая волнообразно вздымается. Было неисчислимо много столь же незатейливых развлечений, было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно бы назвать «музыкой для толстых».
Было неисчислимо много столь же незатейливых развлечений, было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно бы назвать «музыкой для толстых».
– Настроили – много, а ведь ничего особенного не придумали, – сказал Есенин и сейчас же прибавил: – Я не хаю.
Затем, наскоро, заговорил, что глагол «хаять» лучше, чем «порицать».
– Короткие слова всегда лучше многосложных, – сказал он.
Торопливость, с которой Есенин осматривал увеселения, была подозрительна и внушала мысль: человек хочет все видеть для того, чтобы поскорей забыть. Остановясь перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пестрое, он спросил меня неожиданно и тоже торопливо:
– Вы думаете, мои стихи – нужны? И вообще искусство, то есть поэзия – нужна?
Вопрос был уместен как нельзя больше, – Луна-парк забавно живет и без Шиллера.
Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предложив:
– Пойдемте вино пить.
На огромной террасе ресторана, густо усаженной веселыми людьми, он снова заскучал, стал рассеянным, капризным. Вино ему не понравилось:
Вино ему не понравилось:
– Кислое и пахнет жженым пером. Спросите красного, французского.
Но и красное он пил неохотно, как бы по обязанности. Минуты три сосредоточенно смотрел вдаль; там, высоко в воздухе, на фоне черных туч, шла женщина по канату, натянутому через пруд. Ее освещали бенгальским огнем, над нею и как будто вслед ей летели ракеты, угасая в тучах и отражаясь в воде пруда. Это было почти красиво, но Есенин пробромотал:
– Все хотят как страшнее. Впрочем, я люблю цирк. А – вы?
Он не вызывал впечатления человека забалованного, рисующегося, нет, казалось, что он попал в это сомнительно веселое место по обязанности или из «приличия», как неверующие посещают церковь. Пришел и нетерпеливо ждет, скоро ли кончится служба, ничем не задевающая его души, служба чужому богу.
Максим Горький
Сергей Есенин. Русские стихи в переводах
Есенин родился в крестьянской семье и вырос в религиозно строгом доме своего деда, старообрядца. Юношей он уехал в Москву и учился в Народном университете имени А. Л. Шанянского с 1912 по 1915 год, работая корректором. Есенин был едва ли не самым русским поэтом всех времен, ибо ничья другая поэзия так не складывалась из шелеста берез, из мягкого стука дождевых капель по соломенным избам, из ржания лошадей в туманных утренние луга, от звона колокольчиков на коровьих шеях, от колыхания ромашек и васильков, от пения на окраинах деревень. Стихи Есенина не столько написаны пером, сколько вдохнуты русской природой. Его стихи, рожденные в фольклоре, постепенно сами превращались в фольклор.
Юношей он уехал в Москву и учился в Народном университете имени А. Л. Шанянского с 1912 по 1915 год, работая корректором. Есенин был едва ли не самым русским поэтом всех времен, ибо ничья другая поэзия так не складывалась из шелеста берез, из мягкого стука дождевых капель по соломенным избам, из ржания лошадей в туманных утренние луга, от звона колокольчиков на коровьих шеях, от колыхания ромашек и васильков, от пения на окраинах деревень. Стихи Есенина не столько написаны пером, сколько вдохнуты русской природой. Его стихи, рожденные в фольклоре, постепенно сами превращались в фольклор.
Первые стихи Есенина были напечатаны в журналах в 1914 году. Еще совсем деревенским мальчишкой из Рязанской губернии, когда он в 1915 году приехал в петербургский мир литературных салонов, он писал потом, что «как будто рязанская кобыла плеснул свою мочу на выхолощенную снобистскую элиту». Он не превратился в салонного поэта; после ночи кутежа он притворялся, что ловит кузнечиков с
полей своего крестьянского детства шелковой шапкой, снятой с его золотой головы. Есенин называл себя «последним поэтом деревни» и видел себя жеребенком, обезумевшим от огнедышащего паровоза индустриализации. Он превозносил революцию, но, не понимая подчас, «куда ведут нас эти роковые события», развлекался пьянством и хулиганством.
Есенин называл себя «последним поэтом деревни» и видел себя жеребенком, обезумевшим от огнедышащего паровоза индустриализации. Он превозносил революцию, но, не понимая подчас, «куда ведут нас эти роковые события», развлекался пьянством и хулиганством.
Корни народности его поэзии были так глубоки, что оставались с ним на протяжении всех его странствий за границей. Не случайно он ощущал себя неотъемлемой частью русской природы — «Тихо, как в свою очередь / Деревья сбрасывают листья, я сбрасываю эти строки», — и что природа была одним из воплощений его собственного «я», что он был то покрытым льдом кленом, то рыжей луной. Чувство Есенина к родной земле переросло в чувство к бескрайней звездной вселенной, которую он тоже сделал человеческой и домашней: «Слезы [собачьи], как золотые звезды, / На снег стекали».
Вместе с Николаем Клюевым, Вадимом Шершеневичем и Анатолием Мариенгофом Есенин был одним из лидеров имажинизма, отдававшего приоритет форме и подчеркивавшего образность как основу поэзии. Есенин искал дружбы с Владимиром Маяковским и в то же время вел с ним полемику в стихотворной форме. Это были совершенно разные поэты. Ни один другой поэт не делал таких откровенных признаний, которые делали его уязвимым, хотя иногда они скрывались за буйным поведением. Все чувства и мысли Есенина, даже его поиски и метания, пульсировали в нем открыто, как голубые жилки под кожей, нежно прозрачной, чтобы быть несуществующей. Никогда не риторический поэт, он проявил высочайшее личное мужество в «Черном человеке» и многих других стихотворениях, когда хлопнул по столу истории собственное дымящееся, содрогающееся в конвульсиях сердце — настоящее, живое сердце, так непохожее на сердца играющих. -карточные колоды, которые ловкие поэтические карточные акулы превосходят пиковым тузом.
Есенин искал дружбы с Владимиром Маяковским и в то же время вел с ним полемику в стихотворной форме. Это были совершенно разные поэты. Ни один другой поэт не делал таких откровенных признаний, которые делали его уязвимым, хотя иногда они скрывались за буйным поведением. Все чувства и мысли Есенина, даже его поиски и метания, пульсировали в нем открыто, как голубые жилки под кожей, нежно прозрачной, чтобы быть несуществующей. Никогда не риторический поэт, он проявил высочайшее личное мужество в «Черном человеке» и многих других стихотворениях, когда хлопнул по столу истории собственное дымящееся, содрогающееся в конвульсиях сердце — настоящее, живое сердце, так непохожее на сердца играющих. -карточные колоды, которые ловкие поэтические карточные акулы превосходят пиковым тузом.
Злополучный брак Есенина с Айседорой Дункан усугубил его личную трагедию. Он пытался найти спасение в водке и заслужил репутацию хулигана. Написав свое последнее стихотворение собственной кровью, Есенин повесился в номере гостиницы «Англетер» в Ленинграде. Ходили слухи, что он действительно был убит.
Ходили слухи, что он действительно был убит.
За исповедальную честность стихов его любили соотечественники. Действительно, можно с уверенностью сказать, что ни одно другое произведение поэта никогда не пользовалось такой подлинно всеобщей популярностью. Его читали и читают буквально все: крестьяне, рабочие, самая искушенная интеллигенция. Секрет его популярности прост: необыкновенная откровенность как в восхвалении России, так и в собственных откровениях. Его могила вечно усыпана цветами, оставленными восхищенными читателями — таксистами, рабочими, студентами и простыми русскими бабушками.
Параллельные жизни, объединенные смертью
Максим Горький рассказывает услышанную им историю о польском крестьянине, которого случай занес в город Краков
, где он совершенно потерял ориентацию. Он часами бродил по улицам, но так и не смог найти дорогу на открытые пространства за городом, где он чувствовал бы себя в своей стихии. Наконец, отчаявшись, выпустит ли город его из своих когтей, он упал на колени, помолился и прыгнул с моста в Вислу в надежде, что река вынесет его на свободу. Он… умер от ран.
Он… умер от ран.
Горький вспомнил эту историю, когда услышал известие о гибели Сергея Есенина от его рук в петербургской гостинице унылым декабрьским днем 1925 года. Видимо, у поэта высохло перо. Он перерезал себе вену, окунул перо в кровь и оставил свою эпитафию в этих лучезарно красивых строках:
Прощай, мой милый друг, прощай!
В моем сердце ты останешься,
И когда мы расстанемся, Я могу предсказать
Что мы снова когда-нибудь встретимся.
Прощай, не обниматься и не плакать,
Не хмуриться и не грустить –
В смерти нет ничего нового,
И продолжать жить не ново.
Есенин изо всех сил старался примириться со страной, охваченной революцией. Он тепло приветствовал революцию, восторженно писал о своей гордости за то, что он «большевик», и даже однажды заявил, что он «более левый, чем большевики».
Но на самом деле он чувствовал себя оторванным от близко знакомой России и не мог пустить свои корни в страну, перевернутую одним из самых катастрофических эпизодов истории.
Родившись в крестьянской семье в далекой Рязани, в сердце сельской России, он всегда чувствовал себя чужаком в шумном мегаполисе. Поток революции только усугубил его трудности. Подобно сыну польского крестьянина, потерявшему ориентацию в оживленном Кракове, Есенин не мог найти пути к уверенности и гармонии, которых он так отчаянно жаждал. Пейзаж вокруг разбил ему сердце, и он решил навсегда закрыть глаза.
Читайте также: Два поэта, крещенные огнем величайшей войны в истории
И какой способ попрощаться! Вот человек, всего 30 лет, прощался с жизнью с самыми нежными, самыми нежными строками стихов на устах. Он ушел, «не хлопнув дверями, но тихо закрыв их рукой, из которой текла кровь», как памятно написал в своем некрологе Лев Троцкий. В сердце поэта была невыразимая боль, ибо как ни старался он сделать революцию своей, снова и снова терпел неудачу. Есенин решил, что лучше не пытаться:
Ну что же, друзья мои, ну-ну…..
Я видел вас, и я видел
землю….
И твой траурный трепет
Приму как последнюю ласку.
Бескрайняя русская деревня с ее многоцветьем, запахами и настроениями запечатлелась в сознании Есенина. Он начал писать стихи в школе, хотя первые публикации он опубликовал в 19 лет в Москве, где некоторое время учился в университете, прежде чем устроиться на второстепенную работу, чтобы прокормить себя. Он переехал в Санкт-Петербург, тогда столицу России, в 1915, где великий Александр Блок заинтересовался его поэзией и помог ему найти свое место в литературных кругах города. Вскоре он приобрел бешеную популярность, и петербургские литературные салоны с готовностью распахнули перед ним свои двери.
«Город принял его, — сухо писал Горький — сам большой поклонник есенинского творчества — Ромену Роллану, — с наслаждением гурмана запасается клубникой на зиму. На него обрушился шквал похвал, чрезмерных и часто неискренних». Невзрачному молодому человеку 20 лет Есенину было трудно приспособиться к резко изменившимся обстоятельствам. Все чаще по вечерам и до поздней ночи он скакал от одного городского водопоя к другому в шумной компании друзей, нередко устраивая пьяные дебоши и оказываясь по ту сторону закона.
Все чаще по вечерам и до поздней ночи он скакал от одного городского водопоя к другому в шумной компании друзей, нередко устраивая пьяные дебоши и оказываясь по ту сторону закона.
Грубые хоры московских кабаков стали вытеснять его яркую, размашистую лирику. Он теперь часто надевал на свои стихи нарочитую маску пошлости, стараясь заглушить нежность и легкость прикосновения, так естественно приходившие к нему. Для всех, кто знал его хорошо, он был пойман в безумном стремлении к прочности и уравновешенности, и чем больше его поиски терпели неудачу, тем больше было его страдание.
И все же Есенин оставался высшим лириком. Он также был типичным русским 9.0026 поэт. Пожалуй, ни в творчестве ни одного другого поэта ни до него, ни после красота русской природы не нашла более правдивого, более музыкального звучания. Рассмотрим этот яркий образ осени, который он легко воплощает в жизнь:
В зарослях залива, у склонов холмов стоит мягкая осень…
Рыжая кобыла встряхивает гривой.
По сей день популярность поэзии Есенина преодолевает все социальные и региональные барьеры в России, его стихи чаще поют, чем читают:
Ни сожалений, ни плача, ни боли никогда не будет
Коснись моего сердца, как цветы касаются дерева –
Увядая осенью, я никогда не буду
Будь молодым человеком, каким я был раньше.
Не забьешься ты, сердце, как прежде, а затрепещешь,
Ощущение озноба, которого еще не знал.
Босиком больше не соблазнишься
Через березовую рощу бродить…
Мы смертны, мы рождены, чтобы погибнуть,
Медные листья падают беззвучно.
Когда-то оно расцвело, чтобы его лелеяли –
Благословенно, возвращаясь в безмолвную землю.
В мир песни этого неподражаемого лирика бурно ворвалась революция. Быть может, как говорил Троцкий, «(з)лирическая весна могла развернуться до конца только в условиях, когда жизнь была стройной, счастливой, исполненной песен, период, когда господствовала по-хозяйски не грубая борьба, а дружба, любовь и нежность». ». Увы! не в тот мир вступил Есенин, и тоской проникнуты такие строки, как эти, из стихотворения, посвященного его матери:
». Увы! не в тот мир вступил Есенин, и тоской проникнуты такие строки, как эти, из стихотворения, посвященного его матери:
Я вернусь, мама, когда наш сад
Белый от весны раскинет свои ветви.
Но на этот раз, мама, не буди меня на рассвете,
Так, как ты делала это много лет назад.
Не буди старые ожидания;
Не буди все, что не сбылось –
Я терпел потери и много усталости,
Да, и довольно рано их тоже терпел.
§
Владимир Маяковский (19 июля 1893 – 14 апреля 1930)
Владимир Маяковский был убит Есениным самоубийством. Он огорчился, но у него также было что сказать.
Нет, Есенин, это я не насмешливо пишу,
в горле не смех, а скорбь стынет.
Вижу — твоя разрезанная рука сводя с ума,
качает твои кости, как мешок.
Прекрати, брось! Разве это не абсурд,
позволить щекам вспыхнуть мертвенным оттенком?
Вы, кто мог сделать такие удивительные вещи словами
, которые не мог сделать никто другой на земле?
Стихотворение завершается остроумной вариацией последних двух строк последнего стихотворения Есенина:
Наша планета плохо приспособлена для радости.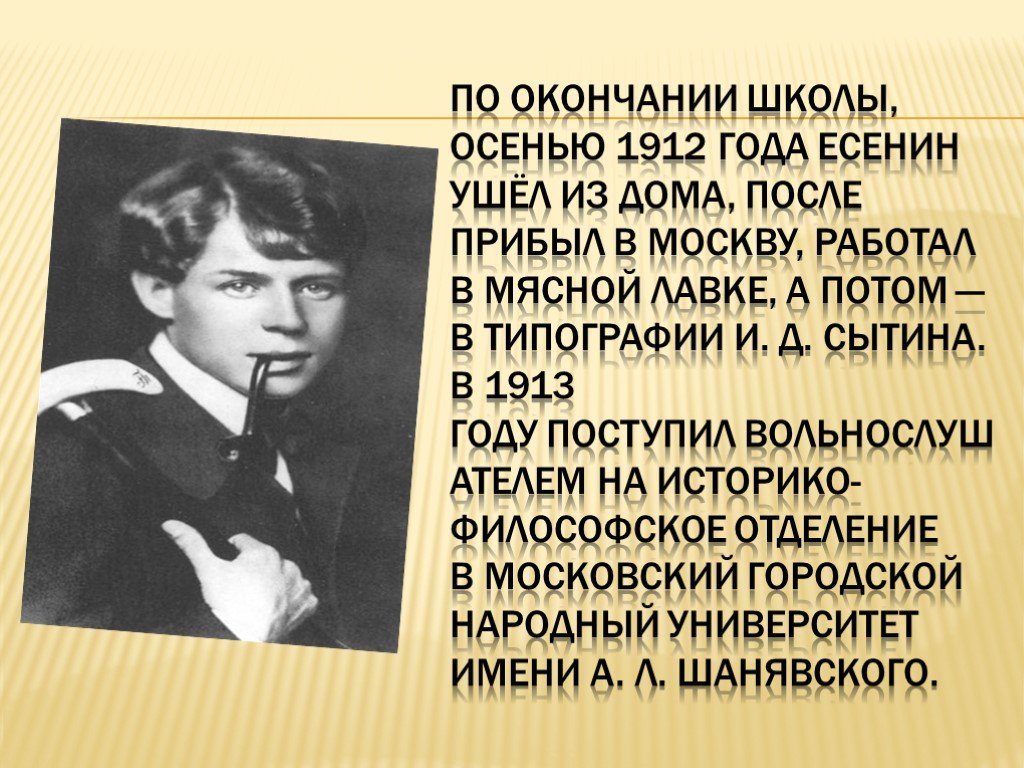
Нужно урвать радость от всего, что есть.
В этой жизни не так уж трудно умереть,
Жизнь слепить гораздо труднее.
Маяковский, должно быть, поверил каждому сказанному здесь слову. В отличие от аполитичного по сути Есенина, он был буревестником революции. С подросткового возраста он был политическим активистом, распространял пропагандистские листовки и помогал тайно вывозить женщин-политиков из тюрьмы. Полиция арестовывала его несколько раз, и в возрасте 16 лет он был приговорен к своему первому тюремному заключению. Именно в тюрьме он порезал зубы своему поэту. После освобождения он два года посещал Московскую художественную школу, прежде чем присоединиться к группе русских футуристов, лидером которой вскоре стал. Манифест футуристов с ярким названием Пощечина общественному вкусу , вышла в основном из-под пера Маяковского.
Читайте также: Поэзия Второй мировой войны: песни с другой стороны человечества
Его поэзия становилась все более вызывающей и декламационной по тону, и он неустанно экспериментировал со сложными строфами и структурами строф, а также свободно использовал уличный жаргон и сленг. (Все это делает его чрезвычайно трудным для перевода.) Все поэтические условности были разрушены, цель состояла в том, чтобы «депоэтизировать» или лишить поэзию привилегий. Маяковский принял революцию с распростертыми объятиями, быстро став ее самым широко признанным рупором и протянув руку к массовой грамотности и пропагандистским кампаниям, в которых сыграли свою ловкость кисти художника и его монументальная творческая энергия.
(Все это делает его чрезвычайно трудным для перевода.) Все поэтические условности были разрушены, цель состояла в том, чтобы «депоэтизировать» или лишить поэзию привилегий. Маяковский принял революцию с распростертыми объятиями, быстро став ее самым широко признанным рупором и протянув руку к массовой грамотности и пропагандистским кампаниям, в которых сыграли свою ловкость кисти художника и его монументальная творческая энергия.
Однако в душе он оставался лириком непревзойденного мастерства. Его владение рифмовкой было феноменальным, и он мог превращать даже откровенно «прозаические» темы в ритмичные стихи, как, например, в своей дань памяти Ленину после его смерти:
Если суммировать:
какой лучший,
какой худший день –
Вот он,
лучший,
25*,
первый день.
Bayonets
clashing,
flashing out
lightning,
Sailors playing
with bombs
like balls,
Smolny rocking
with the crash
of боевые,
Пулеметчики лихие
вниз
его залы.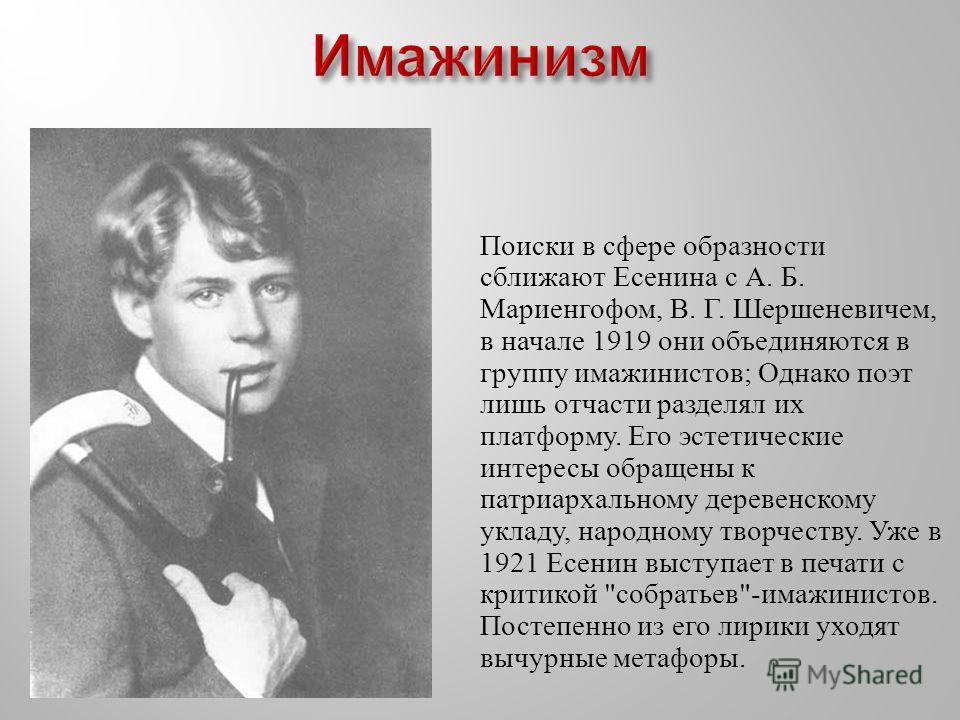
(*25 th : 25 октября по старому григорианскому календарю, соответствует 7 ноября по юлианскому календарю или дате Революции).
Стихотворение 1915 года Облако в штанах Захватывает дух вихрем ослепительных образов, каждый из которых превосходит предыдущий, и бешеным темпом:
Твоя мысль,
Фантазируя на размокший мозг,
Словно обрюзгший холуй на засаленном диване валяется, —
С кровавыми лохмотьями сердца снова посмеюсь.
Пока я не буду доволен, я буду безжалостным и раздражающим.
Нет во мне дедовской нежности,
Нет в душе моей седины!
Сотрясая мир своим голосом и ухмылкой,
Я прохожу мимо тебя – красавчик,
Двадцатидвухлетний.
Ирония давалась Маяковскому легко, и во времена, сотрясаемые гражданской войной, голодом и террором, ирония стала его защитой от горечи и пафоса:
All Night,
Помешивая спокойствие потолка,
Dancers Stampede
к мотиву стона. не так ли,
не так ли,
Маркита,
почему ты меня не любишь….
Но почему
Маркита должна любить меня?!
У меня нет лишних франков
.
И Маркита
(минимум!)
за сто франков
ее куда угодно привезут… в конце 1920-х гг. к регламентации и государственному контролю. Когда революция была в упадке, ирония стала мощным оружием, с помощью которого Маяковский противостоял нарастающим волнам отчаяния и деморализации.
Он высмеивал бюрократию, порожденную НЭПом, бичевал неэффективность и волокиту, и язвительно писал о бездумном следовании изъеденным молью правилам и условностям. Он писал сатирические пьесы и насмехался над низкопоклонниками и двусмысленниками, толпившимися в рядах художников и писателей:
По совести,
Мне ничего не нужно
кроме
свежевыстиранной рубашки.
Когда я появляюсь
до C. C.C.*
C.C.*
из грядущих
Яркие годы,
по дороге моей Большевик -карты,
113191319131331131131.
банды шкурников
поэтов и жуликов,
все сто томов
моих
коммунистических книг.
( ЦКК: Центральная контрольная комиссия партии)
Его колкости били достаточно часто, и это не располагало Маяковского к официозу. Конец 1920-х был также временем, когда партийная организация переворачивалась с ног на голову, а сталинская гегемония над государством и партией утончалась.
Бюрократия неуклонно окостенела вокруг всех органов государства, и революционер в Маяковском чувствовал себя все более беспокойным. В течение достаточно долгого времени он сопротивлялся втягиванию в ВАПП — Всесоюзную ассоциацию пролетарских писателей, которая стала единственным арбитром художественной и культурной политики в Советском Союзе, раздавая милости и вводя запреты, направленные на поддержку социалистического реализма. ‘.
‘.
Чрезвычайно популярные публичные чтения стихов Маяковского стали восприниматься властями холодно, а его сатирические пьесы вызывали почти враждебные критические оценки. Он чувствовал себя все более изолированным.
Когда Маяковский наконец согласился вступить в ВАПП в январе 1930 года, он был наказанным, грустным человеком. В известном стихотворении он почувствовал себя обязанным изменить даже последние несколько строк («Я хочу, чтобы меня понимала моя страна,/ но если меня не поймут –/ что тогда?/ Я пройду через родную землю». / в сторону,/ как ливень/ косой дождь») к бесплодному гимну государству («Вот так,/ так оно и идет…/ Мы достигли/ высшей ступени,/ поднимаясь с рабочие нары:/ в Союзе /республик/ понимание стиха/ ныне превыше/ довоенной нормы…»).
Вероятно, дух Октября, по его мнению, исчерпал себя, несмотря на то, что привилегии и моральные двусмысленности распространялись повсюду. Возможно, слишком уставший, чтобы продолжать, 14 апреля 1930 года, за три месяца до своего тридцать седьмого дня рождения, Маяковский покончил с собой в своей московской квартире.