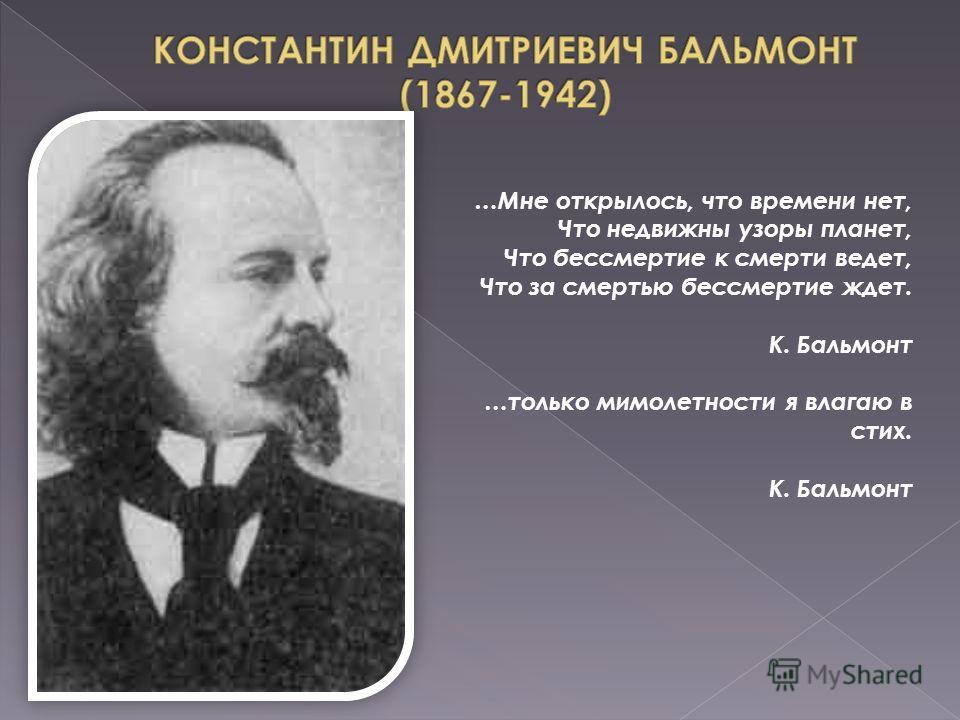«Долгий мой путь по чешской словесности» (Бальмонт и чешские писатели). Публикация Л. Лаптевой
Константин Дмитриевич Бальмонт провел два последних десятилетия своей жизни в эмиграции. Он тосковал по родине, терпел материальные лишения и трудности с публикацией своих произведений, но творческий дух его не угас. Как и в прежние годы, он занимался стихотворным переводом, но – в отличие от тех времен – обратился к славянским литературам: чешской, сербской, польской. Его интерес к творчеству славянских поэтов, особенно чешских, объясняется, на наш взгляд, рядом причин.
Во-первых, Чехословакия являлась одним из крупнейших центров послереволюционной русской эмиграции, и прежде всего покинувшей Россию интеллигенции. Здесь существовали Русский свободный университет и другие научные и общественные русские эмигрантские организации, обладавшие значительными издательскими возможностями. Чехословацкое правительство проявило себя особенно отзывчивым к русской эмиграции и оказывало ей существенную помощь. Прага притягивала к себе и тех русских эмигрантов, которые осели в других странах, в том Числе и К. Бальмонта.
Прага притягивала к себе и тех русских эмигрантов, которые осели в других странах, в том Числе и К. Бальмонта.
Во-вторых, следует учитывать приверженность поэта к идее «славянской взаимности», на которой целесообразно остановиться подробнее. Адепты этой идеи считали возможным объединение славян в той или иной форме (культурной, политической и т. п.). Сама идея зародилась еще в конце XVIII – начале XIX века в среде угнетенных зарубежных славян в период их национального возрождения, когда они, не надеясь на освобождение своими силами, уповали на объединение всех славянских народов под эгидой одного из них, чаще всего русского (хотя были и другие варианты). Разумеется, в России идея «славянской взаимности» приобрела иные черты. Русское славянофильство, базировавшееся на детально разработанном философском фундаменте, в дальнейшем в разной мере влияло на все проявления стремлений к «славянской взаимности» как в России, так и за ее рубежами. Славянофильская концепция строилась на том, что все славяне отличаются не только языковым и этническим родством, но и неким общим психическим складом – «славянской душой», противопоставляющей их германо-романскому миру. Исконной религией славян является, по мнению теоретиков славянофильства, православие. Из этих положений вытекал вывод о принципиальной враждебности германо-романского мира славянскому и неизбежности постоянной борьбы между ними. Славянофилы не считали поляков истинными членами славянской семьи за их приверженность католицизму, квалифицируя ее как «измену».Но в таком виде концепцию «славянской взаимности» принимали далеко не все приверженцы объединения славян даже в России. Зарубежные же славянские народы склонялись главным образом к пропаганде культурной (литературной) взаимности, оставляя в стороне национальную и религиозную конфронтацию с германо-романским миром. Не разделял крайностей славянофильства и Бальмонт. Он вовсе не противопоставлял славян немцам, а, напротив, считал тех и других двумя равными и великими народами, от которых прежде всего зависит судьба европейской цивилизации. В неопубликованных письмах Бальмонта немецкому литератору А. Элиасбергу есть много свидетельств того, как активно произведения русскою поэта переводились на немецкий язык, как увлеченно сам Бальмонт занимался переводами с немецкого, как высоко ценил немецкую литературу1.
Исконной религией славян является, по мнению теоретиков славянофильства, православие. Из этих положений вытекал вывод о принципиальной враждебности германо-романского мира славянскому и неизбежности постоянной борьбы между ними. Славянофилы не считали поляков истинными членами славянской семьи за их приверженность католицизму, квалифицируя ее как «измену».Но в таком виде концепцию «славянской взаимности» принимали далеко не все приверженцы объединения славян даже в России. Зарубежные же славянские народы склонялись главным образом к пропаганде культурной (литературной) взаимности, оставляя в стороне национальную и религиозную конфронтацию с германо-романским миром. Не разделял крайностей славянофильства и Бальмонт. Он вовсе не противопоставлял славян немцам, а, напротив, считал тех и других двумя равными и великими народами, от которых прежде всего зависит судьба европейской цивилизации. В неопубликованных письмах Бальмонта немецкому литератору А. Элиасбергу есть много свидетельств того, как активно произведения русскою поэта переводились на немецкий язык, как увлеченно сам Бальмонт занимался переводами с немецкого, как высоко ценил немецкую литературу1.
Хорошо известно дружеское отношение Бальмонта к полякам и польской литературе. Он находился в тесном контакте с писателем С. Пшибышевским, переводил драмы Ю. Словацкого и произведения других польских писателей, публиковал статьи о творчестве польских литераторов и т. д. Словом, Бальмонт не противопоставлял ни славянство германству, ни православие католицизму. «Славянская взаимность» носила в представлениях поэта культурно-филологический характер.Наконец, говоря о причинах обращения Бальмонта к славянским литературам, нельзя сбрасывать со счетов и невзгод эмигрантской жизни, толкавших поэта на Поиски возможностей публикации в тех сферах, к которым он раньше не обращался.К сторонникам «славянской взаимности» относились и чешские литераторы – адресаты публикуемых здесь писем Бальмонта. Всего этих писем 29. Из них только три направлены чешскому писателю и переводчику Ганушу Елинеку (1878 – 1944), основная же масса адресована Яну Роките и охватывает период с марта 1926. по декабрь 1931 года. Письма хранятся в архиве Чехословацкой Академии наук2. К ним приложены переводы на русский язык шести стихотворений Яна Рокиты, три очерка Бальмонта о чешских поэтах, а также два его оригинальных стихотворения. В настоящую подборку вошли не публиковавшиеся до сих пор 10 писем к Роките и один очерк о нем.
Письма хранятся в архиве Чехословацкой Академии наук2. К ним приложены переводы на русский язык шести стихотворений Яна Рокиты, три очерка Бальмонта о чешских поэтах, а также два его оригинальных стихотворения. В настоящую подборку вошли не публиковавшиеся до сих пор 10 писем к Роките и один очерк о нем.
Ян Рокита – литературный псевдоним Адольфа Черного (Adolf Cerny; 1864 – 1952), публициста, этнографа, поэта. Он писал об истории славянских: литератур, политических и экономических отношениях, культуре и этнографии славянских народов, уделяя особое внимание лужицким сербам, полякам, сербам и хорватам. В 1898 году Черный начал издавать литературно-исторический журнал «Словански пржеглед», единственный в своем роде печатный орган, целиком посвященный славянской проблематике3. Именно в этом журнале и пропагандировалась идея «славянской взаимности»»на основе правдивого познания славян». Поэтическое наследие Яна Рокиты составляют целых 20 книг, но несмотря на это он не внес большого вклада в литературу. Современники считали его одним из эпигонов Я. Врхлицкого4. Однако в письмах Бальмонта содержатся высокие оценки поэтических и идейных достоинств произведений Рокиты, некоторые его творения вызывают даже восхищение русского поэта.
Современники считали его одним из эпигонов Я. Врхлицкого4. Однако в письмах Бальмонта содержатся высокие оценки поэтических и идейных достоинств произведений Рокиты, некоторые его творения вызывают даже восхищение русского поэта.
Главным содержанием писем Бальмонта к Роките является интерес к чешской поэзии, особенно к творчеству чешского поэта, переводчика, новатора стихотворной формы Ярослава Врхлицкого, которого Бальмонт не знал лично, но считал «звездой первой величины». Книга выполненных Бальмонтом переводов из Врхлицкого вышла в Праге в 1928 году. Переводил Бальмонт и других чешских поэтов; тексты публиковались в основном в русских эмигрантских газетах. В письмах к Я. Роките чаще всего речь идет, конечно, о переводах именно его произведений. Бальмонт переводил его лирику, исторические поэмы, а также написал очерк «Кроткий и смелый. Ян Рокита», опубликованный в русском эмигрантском издании «Россия и славянство» в 1929 году.
Вторым чешским поэтом, которым интересовался Бальмонт, был Антонин Сова. В газете «Последние новости» русский поэт поместил перевод стихотворения Совы «Каждому вёсны светят» и написал очерк о его творчестве под названием «Поэт музыки и чувства». Еще одним очерком Бальмонт отметил чешского поэта Рудольфа Медека, а в 1931 году создал целую антологию чешской поэзии на русском языке под названием «Душа Чехии. Чешские поэты в очерках и переводах». 28 февраля 1931 года пражская газета «Народни освета» оповестила читателей о выходе в свет этой книги и перечислила названия ее глав. О дальнейшей судьбе этого труда Бальмонта у нас сведений нет.
В газете «Последние новости» русский поэт поместил перевод стихотворения Совы «Каждому вёсны светят» и написал очерк о его творчестве под названием «Поэт музыки и чувства». Еще одним очерком Бальмонт отметил чешского поэта Рудольфа Медека, а в 1931 году создал целую антологию чешской поэзии на русском языке под названием «Душа Чехии. Чешские поэты в очерках и переводах». 28 февраля 1931 года пражская газета «Народни освета» оповестила читателей о выходе в свет этой книги и перечислила названия ее глав. О дальнейшей судьбе этого труда Бальмонта у нас сведений нет.
Интерес Бальмонта к чешской литературе, естественно, вызывал в нем желание побывать в Праге, но на поездку не было средств. Все же в 1927 году она состоялась, о чем свидетельствуют публикуемые здесь письма поэта к Г. Елинеку, хранящиеся в Литературном архиве Памятника национальной письменности (ЛАПНП) 5. Пребывание в Праге еще больше сблизило Бальмонта с чешскими литераторами, и он с новой энергией продолжал работать над переводами произведений чешских писателей. Труды Бальмонта о чешской литературе и его переводы чешской поэзии были высоко оценены в Чехословакии. 21 января 1930 года он был избран иностранным членом Чешской Академии наук и искусств.
Труды Бальмонта о чешской литературе и его переводы чешской поэзии были высоко оценены в Чехословакии. 21 января 1930 года он был избран иностранным членом Чешской Академии наук и искусств.
В настоящей подборке публикуются также два письма Бальмонта к В. А Францеву (1867 – 1942)- крупному русскому ученому-слависту, который до первой мировой войны был профессором Варшавского университета по кафедре славянской филологии. В 1914 году Варшавский университет эвакуировался в Ростов-на-Дону, но в обстановке гражданской войны научная и педагогическая деятельность представлялась Францеву невозможной, и в 1922 году он уехал в Прагу. Являясь специалистом по проблемам чешского национального возрождения и чешско-русских культурных связей, великолепно владея чешским языком, Францев имел давние контакты с чешскими учеными и литературными кругами, часто подолгу живал в Праге, занимаясь научными разысканиями. Поэтому, прибыв в Чехословакию, он сразу получил место профессора Пражского университета – подобный успех стал уделом лишь единичных русских профессоров-эмигрантов. Вместе с тем Францев принимал активное участие в работе русских научных эмигрантских организаций, а некоторые из них и возглавлял. Пользуясь своим прочным материальным и общественным положением, ученый оказывал разнообразную помощь русской эмиграции. Поэтому и Бальмонт, не будучи лично знаком с Францевым, обратился к нему за консультацией и с просьбой о содействии в деле публикации некоторых своих произведений. Два публикуемых письма Бальмонта Францеву хранятся также в ЛАПНП6.
Вместе с тем Францев принимал активное участие в работе русских научных эмигрантских организаций, а некоторые из них и возглавлял. Пользуясь своим прочным материальным и общественным положением, ученый оказывал разнообразную помощь русской эмиграции. Поэтому и Бальмонт, не будучи лично знаком с Францевым, обратился к нему за консультацией и с просьбой о содействии в деле публикации некоторых своих произведений. Два публикуемых письма Бальмонта Францеву хранятся также в ЛАПНП6.
Таким образом, интерес Бальмонта к чешской литературе был достаточно широким и разносторонним. Публикуемые письма свидетельствуют о том, что поэт в эмиграции продолжал интенсивно работать, издавая как собственные произведения, так и переводы, для выполнения которых он изучил новые для него языки, в частности чешский.
Письма К. Бальмонта публикуются с ксерокопий, любезно предоставленных мне сотрудниками чешских архивов, за что выражаю им сердечную благодарность.
Все материалы представлены в настоящей публикации по современной орфографии. Другие особенности писем сохранены. В их числе необычное употребление прописных букв и знаков препинания.
Другие особенности писем сохранены. В их числе необычное употребление прописных букв и знаков препинания.
К. БАЛЬМОНТ – Я. РОКИТЕ
1
Париж, 1926, 1 июня
Дорогой Поэт,
Я лишь позавчера получил три Ваши прелестные книги стихов, и благодарю Вас как за них, так и за надписи на них. Я напишу Вам о них подробно, когда, не торопясь, прочту их целиком и перечту. А пока мне хочется сказать Вам, что вчера, все последнее утро мая я читал Ваши стихи, и две песни, тонкие, как радуги паутинок и как шелест травы на холме, совсем меня пленили, и я их перевел как умел: «Sen» и «Odpusteni» 7. Вот они обе в русском лике.
Жаль, что я потерял «Vam ruku stisknu jen» 8, – но по-Русски это не так целомудренно-нежно, как по-Чешски, если передать дословно.
Благодарю и за журнал9. Как было бы хорошо, если бы в нем кто-нибудь поместил страницу о моей книге «Мое – Ей: Россия» 10.
До скорых новых строк.
Мы живем здесь трудной жизнью. Одно есть утешение, это что «Sestra Bolest povznasi me k nebi» 11.
Одно есть утешение, это что «Sestra Bolest povznasi me k nebi» 11.
Преданный Вам
К. Бальмонт.
2
Lacanau – Ocean,
Gironde,
Villa Midzou
1926, 7 августа
Искренно чтимый и дорогой Поэт,
Лишь неделя, как я вырвался, наконец, из душного, шумного Парижа, и живу так, как хочет мое сердце. Вокруг лесного местечка, где я поселился, день и ночь шумит Океан, шумит – и не нарушая тишины. Я слышу пение петухов, чириканье пташек, около меня сосновая рощица, и в ней поселился лесной жаворонок. Он звенит иногда, и я считаю, что это сама Судьба послала его мне. Он – genius loci12. Моя душа поет.
Я перечел сейчас Ваше ласковое письмо от 19-го июня. У меня нет, к сожалению, никакой Антологии Чешской поэзии, кроме маленькой книжки Сэльвера «Modern Czech Poetry» 13 (Чешские и Английские тексты). Мне очень хочется иметь книги тех поэтов, о которых Вы пишете, а также меня очень интересуют Маха, Сова, Безруч, Theer, Toman14. Если бы Вы могли похлопотать, чтобы я получил несколько книг этих поэтов и названных Вами, я был бы глубоко благодарен Вам. Я мечтаю о радости переводить еще Врхлицкого (еще недостаточно оцененный гений) и многих-многих чешских поэтов. Я уже перевел несколько вещей Бжезины15, Совы, Безруча, Тэера. Я читаю каждый день по-Чешски. Сейчас я наслаждаюсь Вашей прелестной, как лесная тишь и водный цветок, «Lesnf Pohadka» 16. Люблю в Вас эту любовь к тишине, которая близка мне. Всего лучшего Вам. Вы мне дороги.
Если бы Вы могли похлопотать, чтобы я получил несколько книг этих поэтов и названных Вами, я был бы глубоко благодарен Вам. Я мечтаю о радости переводить еще Врхлицкого (еще недостаточно оцененный гений) и многих-многих чешских поэтов. Я уже перевел несколько вещей Бжезины15, Совы, Безруча, Тэера. Я читаю каждый день по-Чешски. Сейчас я наслаждаюсь Вашей прелестной, как лесная тишь и водный цветок, «Lesnf Pohadka» 16. Люблю в Вас эту любовь к тишине, которая близка мне. Всего лучшего Вам. Вы мне дороги.
Ваш К. Бальмонт.
P. S. Не откажите передать письмо г. Пелишеку## И. Пелишек (J. Pelisek) – сотрудник журнала «Словански пржеглед», переводчик прозы и поэзии со славянских языков. Опубликовал в указанном журнале за 1925 год в чешском переводе стихи Бальмонта из сб. «Мое – Ей.
- Содержание писем К. Бальмонта А. Элиасбергу разобрано в статье: Л. П. Лаптева, Неизвестные письма Константина Бальмонта в архивах Чехословакии. – «Русская литература», 1990, N 3.
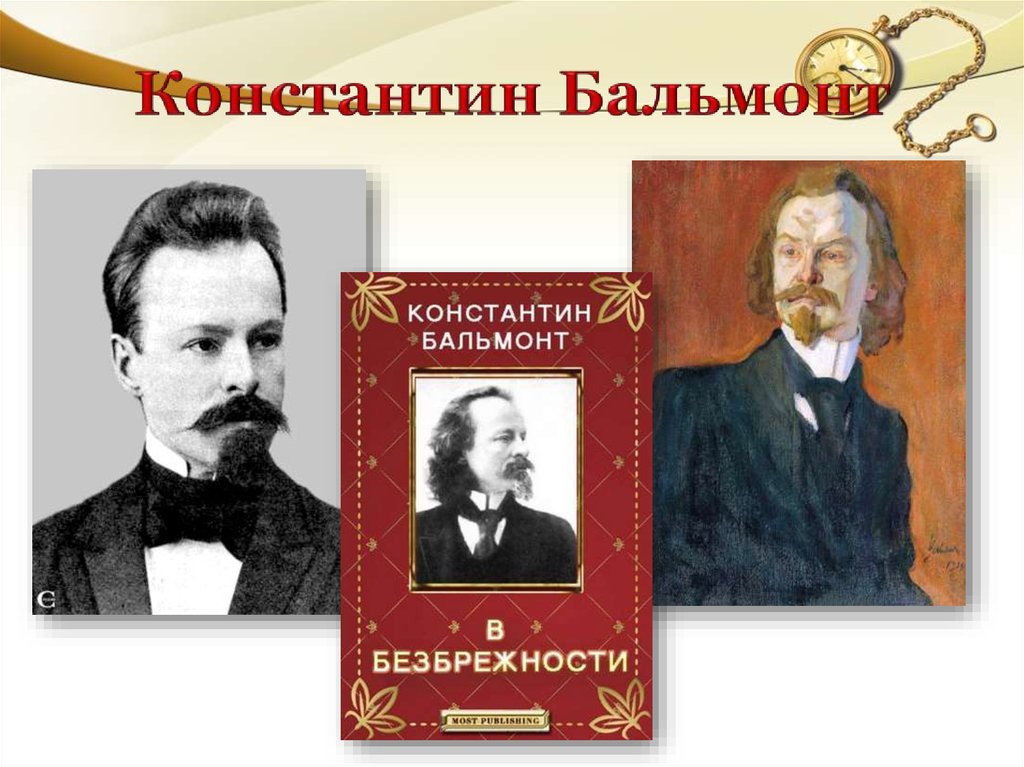 [↩]
[↩] - Ustfedni Archiv Ceskoslovenske Akademie ved (fond – Rokita, korespondence).[↩]
- «Slovansky Prehled» выходит до настоящего времени, но с 1989 года его направление изменилось, теперь в нем обсуждаются проблемы Центральной и Восточной Европы вообще, а не только славянских стран.[↩]
- Я. Врхлицкий (J. Vrchlicky; 1853 – 1912) – литературный псевдоним Эмиля Фрида.[↩]
- LAPNP, Pozustalost H. Jeh’nka, Korespondence.[↩]
- LAPNP, Pozustalost V. A. Franceva, Korespondence.[↩]
- Последнюю публикацию русского текста стихотворений «Сон» и «Отпущение» см. в статье: Л. П. Лаптева, Неизвестные письма Константина Бальмонта в архивах Чехословакии». – «Русская литература», 1990, N 3, с. 174.[↩]
- «Лишь руку Вам пожму».[↩]
- Очевидно, один из номеров журнала «Slovansky Prehled».[↩]
- Сборник стихов К. Бальмонта, помеченный 1923 годом (издан в Париже в 1924 году).[↩]
- »Сестра Боль вознесет меня к небу». [↩]
- Добрый дух этих мест (лат.
 ).[↩]
).[↩] - О П. Сэльвере К. Бальмонт упоминает также в своем очерке «Праздник сердца (Ярослав Врхлицкий)». – См.: К. Бальмонт, Избранное, М., 1983, с. 604. Бальмонт указывает, что «знаком с ним заочно» и что этот литератор перевел «превосходно» на английский язык несколько стихов как Бальмонта, так и других русских поэтов.[↩]
- К. Маха (K. H. Macha; 1810 – 1836) – революционный романтик, классик чешской поэзии; А Сова (A. Sova; 1864 – 1928)- чешский поэт-лирик; П. Безруч (P. Bezruc – псевдоним В. Влашека; 1867 – 1958) – поэт, выразитель чаяний народа Чешской Силезии; О. Тэр (O. Theer – в русской транскрипции: Тэер, Теер; 1880 – 1917) – чешский поэт, театральный и литературный критик; К. Томан (K. Toman- псевдоним А. Бернашека; 1877 – 1946) – чешский поэт-лирик.[↩]
- О. Бжезина (O. Brezina; 1868 – 1929)- чешский поэт-символист.[↩]
- Речь идет о книге стихов Я. Рокиты «Лесная сказка», опубликованной впервые в 1911 году.[↩]
Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.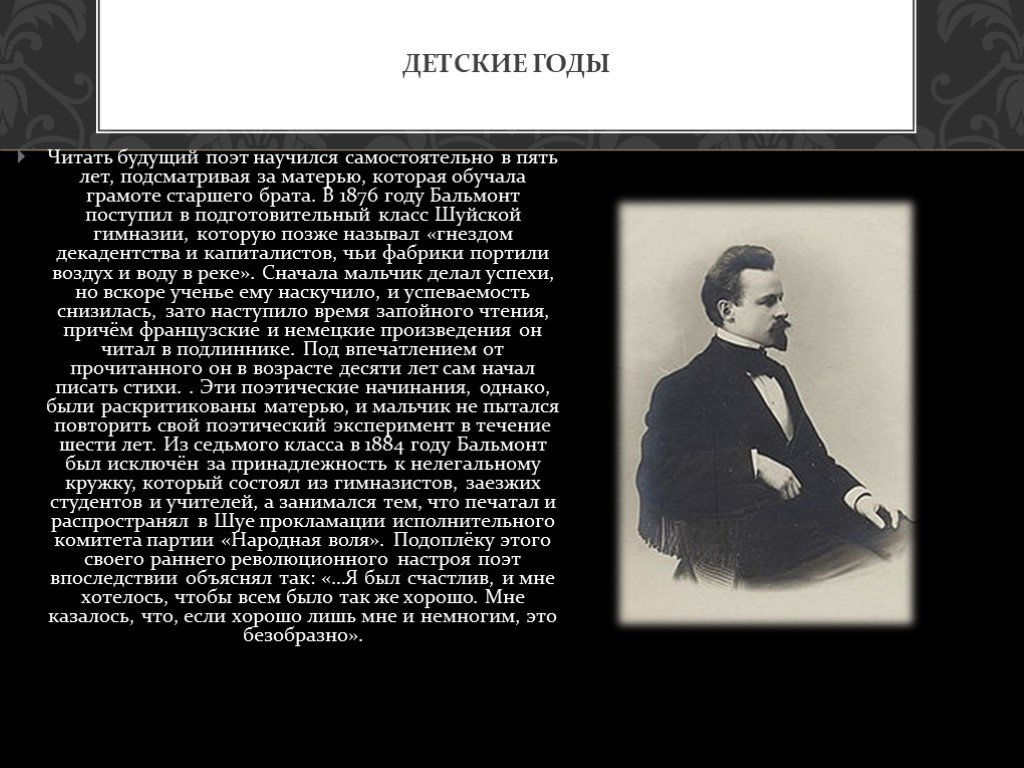
Уже подписаны? Авторизуйтесь для доступа к полному тексту.
Персональный сайт — Константин Бальмонт
«Будем как солнце, оно – молодое,
В этом завет красоты!» К.Бальмонт
Конец 19 века и начало 20 века ознаменовался появлением в русской литературе новых поэтических звезд, среди которых ярко светила звезда поэта серебряного века Константина Дмитриевича Бальмонта. Он родился 15 июня 1867 года в селе Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии. Отец его — небогатый помещик, земский деятель, страстный любитель охоты. Разносторонне одаренная мать привила сыну любовь к литературе, музыке, истории.
Первые десять лет жизни мальчик провел в тиши родного дома.
Судьба мне даровала в детстве
Счастливых ясных десять лет
И долю в солнечном наследстве
Внушив: «Гори!» – и свет пропет.
«Моими лучшими учителями в поэзии были – усадьба, сад, ручьи, болотные озерки, шелест листвы, бабочки, птицы, зори… Из всех стихов в мире я больше всего люблю «Горные вершины» Лермонтова (не Гете – Лермонтова)». И свое отношение к поэту выразил так.
И свое отношение к поэту выразил так.
Нет, не зато тебя я полюбил,
Что поэт и полновластный гений,
Но за тоску, за этот страстный пыл
Ни с кем не разделяемых мучений…
В пробах поэтического пера у юного сочинителя явно чувствовалось влияние кумиров: Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Никитина, Некрасова. Мать, как строгий критик, была не в восторге от стихов сына, но не охладила тягу его к сочинительству.
В 1876 году Костя, поступил в Шуйскую классическую гимназию. Трудно сказать, откуда у гимназиста, воспитанного в деревенской тиши на классической литературе, возник дух бунтарства. За участие в революционном кружке и распространение нелегальной литературы его исключили из гимназии, но благодаря усилиям матери восстановили в другой гимназии, Владимирской. По ее окончании юноша поступил на юридический факультет Московского университета. Мятежный характер и здесь дал о себе знать. За участие в студенческих беспорядках, отсидев в Бутырках три дня, под надзор полиции был выслан в Шую.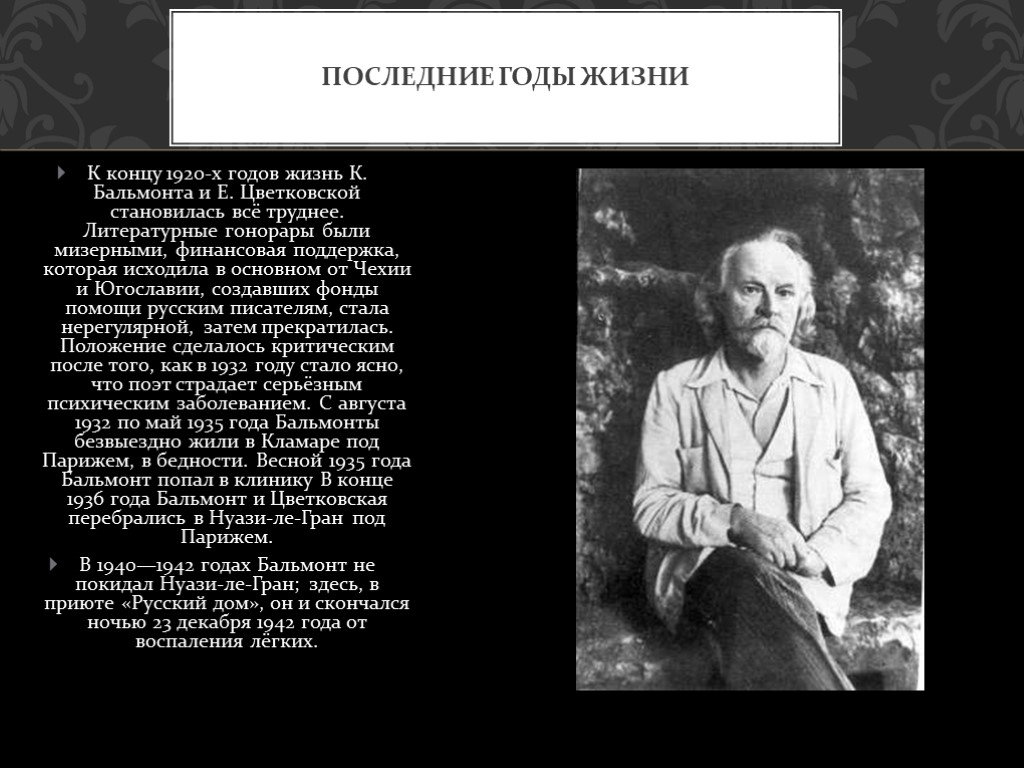
По истечении срока вновь приступил к занятиям в университете, но 1889 году добровольно оставил учебу и занялся самообразованием. Оно было настолько успешным, что получал заказы на статьи из Московского университета по истории скандинавской и итальянской литературы, выступал с публичными лекциями, а также занимался переводам и зарубежных авторов, в том числе и английского поэта Шелли. Правда, они оказались слишком вольными, и Корней Чуковский назвал Бальмонта – «Шельмонтом». Тем не менее, слава как переводчика и знатока русского поэтического слова перешагнула границы Российской империи, и Бальмонта пригласили в Оксфорд читать лекции по русской поэзии.
В 1885 году состоялся поэтический дебют Бальмонта в журнале «Живописное обозрение». Вскоре поэт познакомился с Иваном Буниным и В.Г.Короленко, который признал в нем настоящего литератора. Потом подружился с Максимом Горьким.
В 1889 году двадцатидвухлетний Константин женился на дочери Шуйского фабриканта Ларисе Михайловне Гарелиной, и вместе отправились в свадебное путешествие по югу России и Кавказу.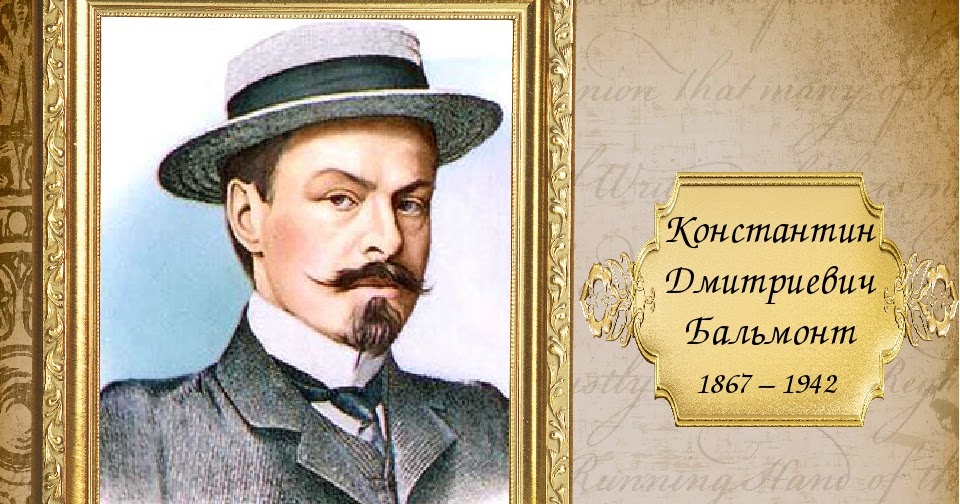 Экстравагантная и капризная жена принесла супругу боль и страдания.
Экстравагантная и капризная жена принесла супругу боль и страдания.
Мы говорим на разных языках
Я свет весны, а ты усталый холод.
Я златоцвет, который вечно молод,
А ты песок на мертвых берегах
Раздора в семье не остановило даже рождение сына Николая. 13 марта 1890 года, доведенный до отчаяния молодой муж, выбросился из окна третьего этажа, травмировав позвоночник. В этом же году, несмотря на болезнь, Бальмонт на свои деньги издал сборник из 21 стихотворений и 70 поэтических переводов, но, не удовлетворившись, сжег весь тираж.
Осенью 1894 года молодой литератор встретился с Валерием Брюсовым – первой звездой символизма. Удивленный широтой знаний 27-летнего знакомого, маститый поэт признался: «Многое, очень многое мне стало понятно, мне открылось через Бальмонта… Я был одним до встречи с Бальмонтом и стал другим после знакомства с ним». Их добрые отношения будут продолжаться многие годы, но закончатся охлаждением.
Марина Цветаева в 1925 году в статье «Герой труда» сопоставила поэтов: «Бальмонт, Брюсов царствовали тогда оба… Два полюса творчества.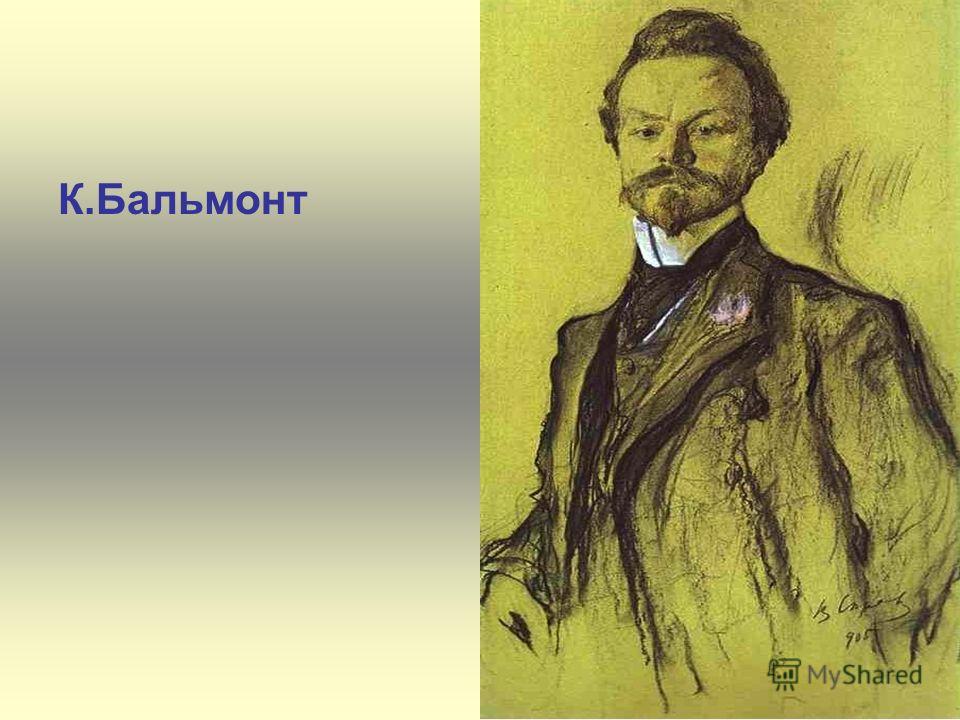 Творец — ребенок (Бальмонт) и творец – рабочий (Брюсов). Ничего от рабочего — Бальмонта, ничего от ребенка — Брюсова… Творчество ребенка – случайность, непроизвольность, «как рука пойдет». Творчество рабочего – отсутствие случайностей… Процесс работы (Бальмонта) скрыт в игре. Процесс превращен в упоение… Труд – благословение (Бальмонт) и труд – проклятие (Брюсов)».
Творец — ребенок (Бальмонт) и творец – рабочий (Брюсов). Ничего от рабочего — Бальмонта, ничего от ребенка — Брюсова… Творчество ребенка – случайность, непроизвольность, «как рука пойдет». Творчество рабочего – отсутствие случайностей… Процесс работы (Бальмонта) скрыт в игре. Процесс превращен в упоение… Труд – благословение (Бальмонт) и труд – проклятие (Брюсов)».
Это подтверждает и Н.А.Теффи: «Бальмонт истинный вдохновенный поэт, а Брюсов стихи свои высиживает, вымучивает. Бальмонт творит. Брюсов работает».
Бальмонт работал как бы на ходу, легко, играючи.
Рождается внезапная строка,
За ней встает немедленно другая,
Мелькает третья ей издалека,
Четвертая смеется, набегая.
И пятая, и после, и потом,
Откуда столько, я и сам не знаю,
Но я не размышляю над стихом
И, право, никогда не сочиняю.
Из впечатлений от посещения Скандинавии сложился сборник «Под северным небом». Следом вышел сборник другого содержания — «Безбрежность», выдержавший четыре издания, и минорная «Тишина».
Бальмонт очаровал читателей и был признан новой звездой символизма, но с «надсоновским» уклоном к декадансу. Популярность новоявленного символиста росла. Его называли «королем поэтов» и «поэтом хрустальных созвучий. «В течение десятилетия Бальмонт царил над русской поэзией», — отозвался о нем Валерий Брюсов.
В записной книжке 3 сентября 1899 года Бальмонт подвел итог минувшему творчеству. «В предшествующих своих книжках – «Под северным небом», «В безбрежности» и «Тишина» – я показал, что можно сделать с русским стихом поэт, любящий музыку. В них есть ритм и перезвоны благополучий, найденные впервые. Но этого недостаточно. Это только часть творчества. Пусть же возникнет новое. В воздухе есть скрытые течения, которые пересоздают душу».
Иным предстает поэт в начале ХХ века.
Я – внезапный излом,
Я – играющий гром,
Я – прозрачный ручей.
Я – для всех и ничей.
О Бальмонте писал Горький, Блок, Брюсов, Городецкий, Белый. Отклики давались самые разные и подчас противоположные. Это не смущало автора, и он шел своим путем, как в поэзии, так и мировоззрении.
Это не смущало автора, и он шел своим путем, как в поэзии, так и мировоззрении.
4 марта 1901 года у Казанского собора в Петербурге произошло столкновение студентов с казаками. Е.А.Андреева-Бальмонт вспоминала, что в 1905 году он «…все дни проводил на улице, строил баррикады, произносил речи, влезая на тумбы… На университетском дворе полиция стащила его с тумбы и хотела арестовать, но студенты отбили…он страстно увлекся революционным движением». В результате столкновения несколько демонстрантов погибли. Бальмонт откликнулся на это стихотворением «Маленький султан», которое прочитал на благотворительном вечере в Петербургской Думе. Присутствующие узнали в «султане» Николая ΙΙ.
То было в Турции, где совесть – вещь пустая.
Там царствует кулак, нагайка, ятаган,
Два – три нуля, четыре негодяя
И глупый маленький султан.
Несмотря на запрет стихотворения, его распространяли в списках, заучивали наизусть. В квартире поэта был произведен обыск, после чего последовал запрет на проживание в столицах, университетских городах в течение трех лет.
Бальмонт был мастером эзоповского стиля эпиграммы. Одна из них на российского монарха.
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждет.
Кто начал царствовать Ходынкой,
Тот кончит – встав на эшафот.
Не политика была главным стержнем жизни Бальмонта, а творчество. Его стихией стало Солнце, Свет, Огонь. Радужный мажор засверкал в сборнике «Горящие зданья» 1900, «Будем как Солнце» 1903, «Только любовь» 1903, «Литургия красоты» 1905 год. Стихотворение «Будем как Солнце» – программа жизни поэта.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И синий кругозор.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть море…
Александр Блок, скупой на похвалу, об этой книге отозвался так: «Книга единственная в своем роде по безмерному богатству». Правда, И.Анненскому, В.Брюсову, М.Горькому и другим литераторам пафос поэта показался чрезмерным, а Зинаида Гиппиус саркастически заметила: «не будем как солнце».
Вслед за «Солнцем» в конце 1903 года вышла книга – «Только любовь», в 1905 году «Литургия красоты».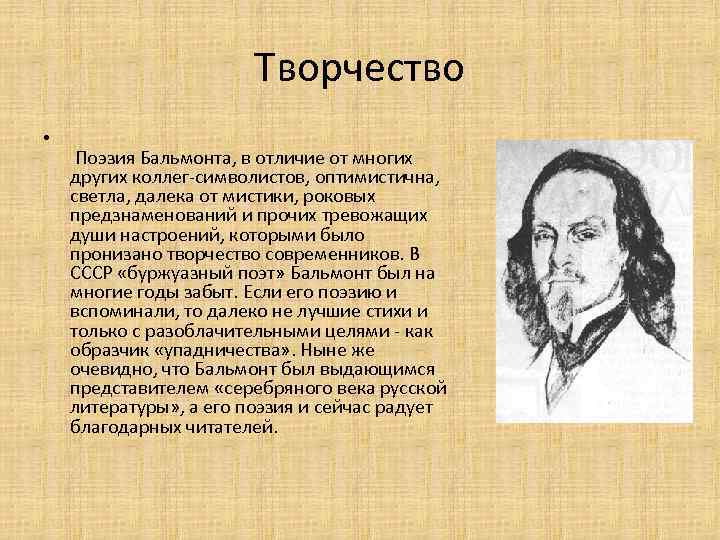 В одном из стихотворений сборника автор сожалеет и надеется, что:
В одном из стихотворений сборника автор сожалеет и надеется, что:
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть.
Свет луны они забыли, потеряли Млечный Путь…
Чтоб к Стихиям людям бледным показал я светлый путь,
Чтобы вновь стихом победным в царство Солнца всех вернуть.
Всю свою жизнь поэт Солнца боролся с тьмой, видя в борьбе упоение.
Пусть будет завтра и мрак и холод,
Сегодня сердце отдам лучу
Я буду счастлив! Я буду молод!
Я буду дерзок! Я так хочу!
Мятежная душа поэта хотела пожара, но не испепеляющего, а очищающего.
Я хочу горящих зданий,
Я хочу кричащих бурь!…
Пусть же вспыхнет море зноя,
Пусть бы в сердце дрогнет тьма.
Из записной книжки 1904 года. «Я живу слишком быстрой жизнью и не знаю никого, кто бы так любил мгновенья, как я. Я иду, я иду, я ухожу, я меняю и изменяюсь сам. Я отдаюсь мгновению… О, я клянусь в те мгновенья, когда я – действительно я, мне близки все, мне понятно и дорого все… Безмерность может замкнуться в малое. Песчинка может превратиться в систему звездных миров. И слабыми руками будут воздвигнуты безмерные зданья во имя красоты».
Песчинка может превратиться в систему звездных миров. И слабыми руками будут воздвигнуты безмерные зданья во имя красоты».
Миг любви он отразил в стихотворении «Минута».
Хороша эта дикая вольная воля;
Протянулась рука, прикоснулась рука,
И сковала двоих – на мгновенье, не боле, —
Та минута любви, что продлится века.
Е.А.Андреева-Бальмонт подтвердила страсть мужа к лире мимолетности: «Он жил мгновением и довольствовался им, не смущаясь пестрой смены мигов, лишь бы только полнее и красивее выразить их. Он то взывал ко Христу, то к Дьяволу, то воспевал Зло, то Добро, то склонялся к язычеству, то преклонялся перед христианством».
Устами Дьявола заговорил поэт.
Я ненавижу всех святых, —
Они заботятся мучительно
О жалких помыслах своих,
Себя спасают исключительно…
Бальмонт – экспериментатор над стихотворными формами. Не признавая классического размера, писал «сверхдлинные» стихи, при этом сохраняя их изящество и музыкальность.
Найдя в сонете особое звучание, из 225 написанных, составил книгу «Сонеты солнца, меди и луны». Певучие, но с избытком «красивости», были благоприятно приняты читателями и критиками. Сонеты образуют поэтическую «Лунную сонату» схожую с Бетховенской — музыкальной. Луна всегда вызывала у Бальмонта что-то грустное и таинственное.
Когда луна сверкает во мгле ночной
Своим серпом блистательным и нежным,
Моя душа стремится в мир иной,
Пленяясь всем далеким, все безбрежным.
Бальмонт — литератор широкого диапазона: поэт, переводчик, эссеист, историк литературы, публицист и работал как одержимый. Что ни год, то новые сборники. В 1904-05 годах издательство «Скорпион» выпустило вначале 2хтомник его стихов, а затем десятитомник!
Литературное наследие универсала будет состоять из 35 книг стихов, 20 прозы, около 10 тысяч страниц переводов с 30 языков мира, в том числе санскрита – жизнь Будды древнеиндийского автора Асвагоши. К сожалению, большинство работ Бальмонта не известно современному русскому читателю.
«Изучив 16 (пожалуй) языков, говорил и писал он на особом, 17 языке, на Бальмонтовском», — отметила Марина Цветаева.
Язык стиха Бальмонта изящный, пышный, лучезарный, душистый, певучий, способный передать самые глубокие движения души, завораживая любого, кто брал в руки его сочинения. Рахманинов, Танеев, Глиэр, Прокофьев и др. композиторы часто писали музыку на стихи поэта.
«Россия была именно влюблена в Бальмонта. Все, от светских салонов до глухого городка где-нибудь в Могилевской губернии, знали Бальмонта. Его читали, декламировали и пели с эстрады. Кавалеры нашептывали его слова дамам, гимназистки переписывали в тетрадки», — говорила о нем Н.А.Теффи…
Несмотря на популярность, чувствуя за собой надзор полиции, поэт в марте 1907 года вместе с гражданской женой Е.К.Цветковской уехал во Францию, где пробыл в качестве политического эмигранта более семи лет, не оставляя творчества: издал «Песни мстителя», сотрудничал в большевистской газете «Новая жизнь» и в социалистическом журнале «Красное знамя» напечатал 42 патриотических стихотворения.
Бальмонт – человек калейдоскоп, не терпящий однообразия. «Мне хочется обогатить свой ум, соскучившийся непомерным преобладанием личного элемента во всей моей жизни».
Я в бегстве живу неустанном,
В ненастной тревоге живу…
Чтобы обогатить ум новыми знаниями и рассеять депрессию, Константин Дмитриевич отправился в кругосветное путешествие, посетив: Лондон, Канарские острова, Южную Америку, Полинезию, Цейлон,… Это была не развлекательная прогулка, а научно — этнографическая поездка с целью изучить культуру, обычаи чужеземных стран.
Путешественник не забывал следить и за событиями в России, скучая по ней: «Я тоскую по России. Но есть ли сейчас Россия – или она замерла – на неопределенное время», — писал он Ф.Батюшкову
В январе 1912 года в Париже чествовали 25летие литературной деятельности Бальмонта. К этому событию он подготовил книгу «Зарево зорь».
В феврале 1913 года в связи с празднованием трехсотлетия дома Романовых была объявлена амнистия, и политэмигрант Бальмонт возвратился в Россию и много ездил по стране с чтением своих стихов, лекций о культуре и поэзии вообще.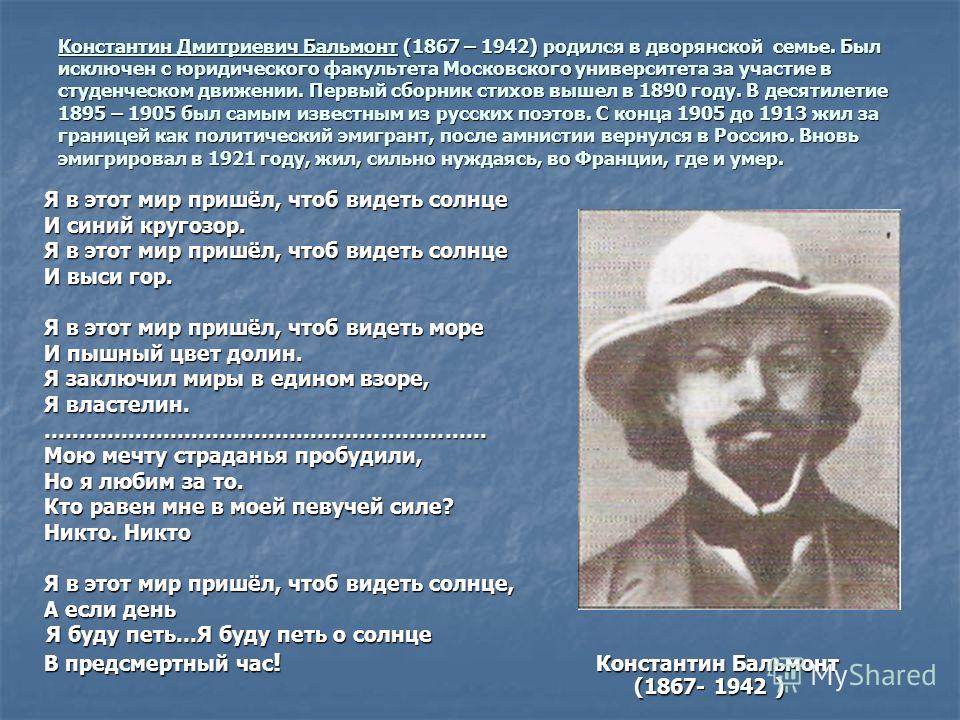
Литературные вкусы России менялись. Символизм пошел на спад, падала и популярность Бальмонта. В.Брюсов подвел черту: «…для меня стихи Бальмонта «остывшая зола» Тютчева, и почти не верится, что некогда они горели и светились, и жгли».
Многим поэт казался из другого мира, да и эгоцентризм отталкивал друзей. Не все воспринимали его роль учителя, жреца Солнца и рокового любовника.
О да, я Избранный, я Мудрый, Посвященный,
Сын солнца, я — поэт, сын разума, я – Царь.
О людях «царь» отзывался не иначе как о «гномах живущих впотьмах». «Я слишком Бальмонт, чтобы мне отказывать в вине», — говорил он высокопарно жене Елене, а она называла его даже в обиходе «поэтом». Например: «Поэт хочет чая».
Во внешности Константина Дмитриевича была определенная символика: бородка клинышком, усы и стиль поведения как у Дон-Кихота. Рассказывали, как он при параде в присутствие друзей, в том числе А.Блока и В.Брюсова, вошел в воду речки Синички и шляпой пытался зачерпнуть луну.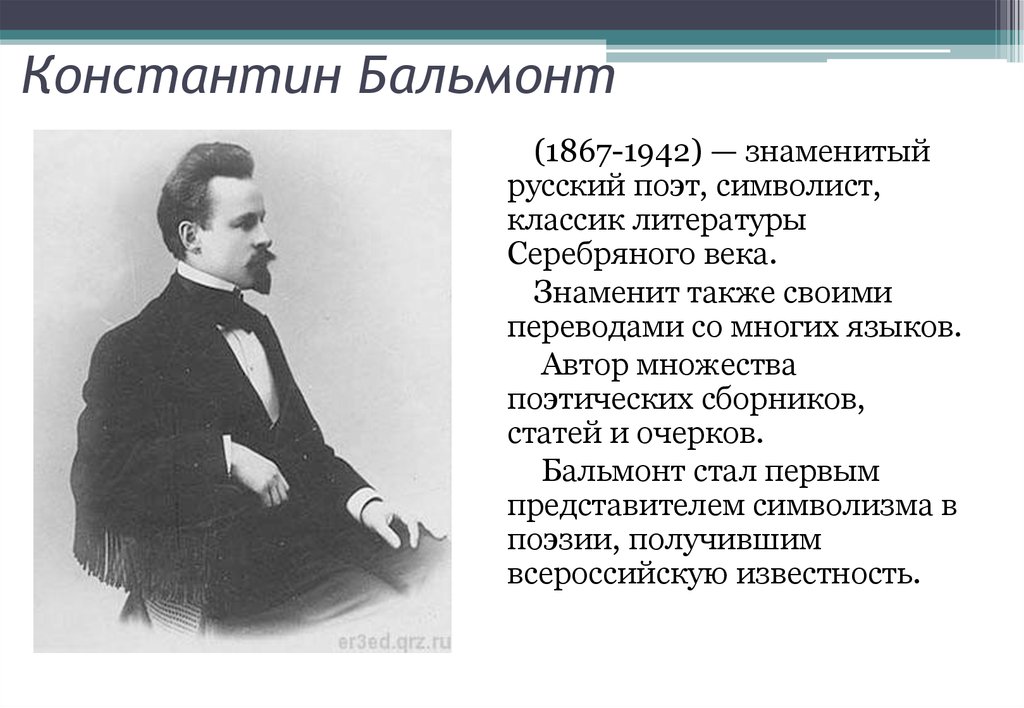 Или зачем-то влез на дерево и читал стихи, но, сорвавшись, повис на брюках.
Или зачем-то влез на дерево и читал стихи, но, сорвавшись, повис на брюках.
Н.А.Теффи вспоминала об одной из встреч: «Он вошел, высоко подняв лоб, словно нес златой венец славы. Шея его была дважды обернута черными, каким-то лермонтовским галстуком, какого никто не носит. Рысьи глаза, длинные рыжеватые волосы»
Спустя время она писала: «Бальмонт любил позу. Да это и понятно. Постоянно окруженный поклонниками, он считал нужным держаться так, как, по его мнению, должен держаться великий поэт. Он откидывал голову, хмурил брови. Но его выдавал его смех. Смех его был добродушный, детский и какой-то беззащитный»…
Определенная канва таинственного и магического прослеживается и в содержании сборников Бальмонта: «Злые чары», «Жар-птица», «Свирель», воспринятые критиками как «игрушки в примитивном стиле».
В лес за дровами – а там лесовик,
Вон за стволом притаился, приник.
Совы на крыше усядутся в ряд,
Углем глаза, как у ведьмы горят…
В избу назад – а в клети домой,
Ты на палаты – а он уж с тобой.
Невероятные происшествия бывали в жизни Бальмонта. Об одном, когда он жил с Е.К.Цветковской в Подмосковье, рассказывала в «Воспоминаниях» Е. А. Андреева-Бальмонт. «Оказалось, что их дача в Новогиреево – заколдованный дом. В нем водились духи, которые поднимали вихри в комнатах; вещи срывались с мест, летали по воздуху и разбивались вдребезги. Посуда у них была перебита вся до последней чашки. Квартира имела вид, будто в ней прошел погром… Это продолжалось два месяца с перерывами в определенные дни и часы. У них не стало больше сил терпеть, и они бежали».
Особое отношение у Бальмонта складывались с женщинами. Он их боготворил и был постоянно влюбленным.
Кто не любил, не выполнил закон,
Которым в мире движутся созвездья,
Которым так прекрасен небосклон.
Первой любовью 14 летнего подростка была шестнадцати лет служанка Мария Гриднинская, затем Анна Николаевна Иванова.
Среди множества окружающих его женщин, поэт выбрал в жены четырех: Ларису Михайловну Гарелину, Екатерину Алексеевну Андрееву, Елену Константиновну Цветковскую и Дагмару Эрнестовну Шаховскую. С первым двумя был венчан, со вторыми жил в гражданском браке. Это не мешало ему создавать из жен любовный треугольник, меняя углы, в зависимости от страсти. Попеременно жил то с Екатериной Алексеевной и Еленой Константиновной, то с Еленой Константиновной и Дагмарой Эрнестовной.
С первым двумя был венчан, со вторыми жил в гражданском браке. Это не мешало ему создавать из жен любовный треугольник, меняя углы, в зависимости от страсти. Попеременно жил то с Екатериной Алексеевной и Еленой Константиновной, то с Еленой Константиновной и Дагмарой Эрнестовной.
Были у Константина Дмитриевича и дети. Сын Николай от первого брака. Дочь Мирра Константинова от Цветковской. Мирра — девушка со странностями, доставляла отцу множество тревог. Была дважды замужем. Став поэтессой, взяла псевдоним Аглая Гамаюн. Вторая дочь — Нина Константиновна в замужестве Бруни от Е.А.Андреевой.
Своеобразной была любовь Константина Дмитриевича к Е.К.Андреевой. Ей посвящены такие строки.
За то, что ты всегда меня любила,
За то, что я всегда тебя любил,
Твой лик мечте невыразимо мил,
Ты власть души и огненная сила.
«С именем Бальмонта, — вспоминала Елена Константиновна, — «Талантливого поэта», всегда связывалось представление как о человеке беспутном, пьянице, чуть не развратнике. Только близкие люди знали его таким, как я, и любили его не только как поэта, но и как человека. И все они согласились со мной, что Бальмонт был прекрасный человек… в Бальмонте жило два человека. Один настоящий, благородный, возвышенный, с детской и нежной душой, а другой, когда он выпьет вина, полная его противоположность: грубый, способный на все самое безобразное».
Только близкие люди знали его таким, как я, и любили его не только как поэта, но и как человека. И все они согласились со мной, что Бальмонт был прекрасный человек… в Бальмонте жило два человека. Один настоящий, благородный, возвышенный, с детской и нежной душой, а другой, когда он выпьет вина, полная его противоположность: грубый, способный на все самое безобразное».
Последним «романом» Бальмонта была переписка с больной юной поэтессой Татьяной Осиповой, жившей в Финляндии. Два года поток писем, цветов, стихов поддерживали жизнь двадцатилетней девушки.
О «революционности» Бальмонта, пожалуй, вернее всех сказала Марина Цветаева: «Бальмонт, как истый революционер, час спустя в революции, в первый час устойчивости ее, оказался против». «Революционер – монархист – Бальмонт». Ее же определение.
Еще в 1906 году Бальмонт возлагал надежды на всесокрушающий молот рабочего.
Рабочий, только на тебя
Надежда всей России.
Тяжелый молот пал, дробя
Оплоты крепостные.
Тот молот – твой. Пою тебя
Во имя все России!
Февральскую и октябрьскую революцию 1917 года Бальмонт воспринял с присущей для него эмоциональностью. «Маленький Султан» свергнут.
Что сделалось со мной? Я весь пою…
Из черных глыб я белое кую.
Во всем я ощущаю только лето,
Ветров пьянящих теплую струю.
Пройдет время, и революционная «ветров пьянящая струя» изменила свое направление. В эмиграции он напишет: «Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче того жизнь, красивее цветут цветы, но жизни нет там, где грозы происходят беспрерывно. А кто умышленно хочет длить грозу, тот явный враг строительства и благой жизни». К этому он добавил: «Русский народ воистину устал от своих злополучий и, главное, от бессовестной лжи немилосердных, злых правителей».
В 1920 году Бальмонт обратился к правительству Ленина с просьбой разрешить ему вместе с женой, дочерью и родственницей А.И.Ивановой поездку за границу на год. Поездка затянется на 21 год.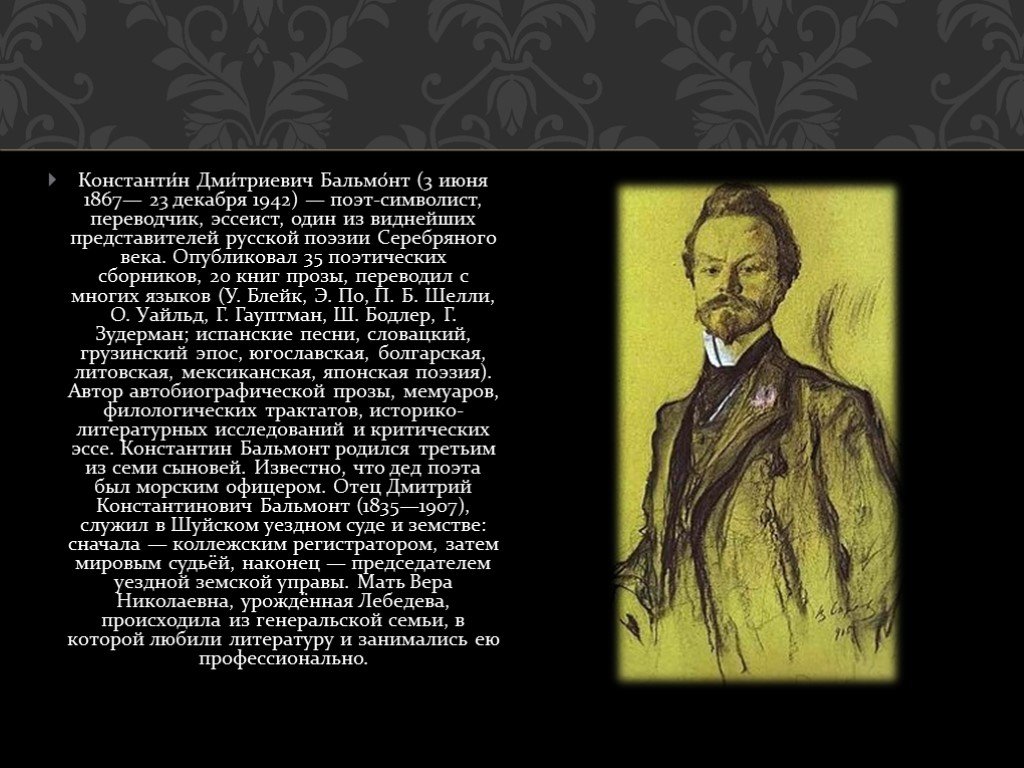 Получив разрешение, семейство через Ревель, уехало в Париж, оттуда перебиралось в тихое местечко Капбретон на побережье провинции Бретань. Потом будет еще не одно место жительство, пока не осядут в 1936 году в Наузи-ле-Гран под Парижем.
Получив разрешение, семейство через Ревель, уехало в Париж, оттуда перебиралось в тихое местечко Капбретон на побережье провинции Бретань. Потом будет еще не одно место жительство, пока не осядут в 1936 году в Наузи-ле-Гран под Парижем.
Оторванный от Родины, Бальмонт работал с прежним упорством. Из 50 томов своих сочинений 22 выпустил в эмиграции. Первая эмигрантская книга стихов «Марево» вышла в 1922 году. Через два года России, безвозвратно ушедшей, посвятил книгу — «Мое – ей».
И все пройдя пути морские,
И все земные царства дней,
Я слова не найду нежней,
Чем имя звучное: Россия.
«Его любовь к России – влюбленность чужестранца. Национальным поэтом, ко всей любви к нему, его никак не назовешь… Бальмонт – явление, но не в России. Поэт в мире поэзии, а не в стране. Воздух – в воздухе. Нерусскость Бальмонта – вселенскость его. Не в России родился, а в мире… Так и останется Бальмонт в русской поэзии – заморским гостем, задарившим, заговорившим, заворожившим ее – с налету – и так же – канувшим». Так считала Марина Цветаева.
Так считала Марина Цветаева.
Осип Мандельштам называл Бальмонта «самым нерусским поэтом». Причина такого определения связана, очевидно, с тем, что никто из русских литераторов не путешествовал больше, и меньше чем он не жил на Родине. К этому же примешивалась и любовь Константина Дмитриевича к «нерусским» авторам.
Однако Бальмонт утверждал:
Я вселенной гость,
Мне повсюду мир.
Корни поэт остались в России, чем и гордился.
Я русский, Я рыжий, Я русый.
От моря до моря ходил.
Низал я янтарные бусы,
Я звенья ковал для кадил.
В подтверждение, он, как бы, дополнил стихотворение в прозе Ивана Сергеевича Тургенева о русском языке своим стихом.
Язык, великолепный наш язык,
Но завтра – встанет! С молнией и громом!
Речное и степное в нем раздолье,
В нем клекоты орла и волчий рык,
Напев, и звон, и ладан богомолья…
Ты в черный час вместишься в малый вздох,
Чужбина никогда не была матерью для русских. Елене Андреевой он писал » Я хочу России. Я хочу, чтобы в России была преображающая заря. Только этого хочу. Ничего иного».
Елене Андреевой он писал » Я хочу России. Я хочу, чтобы в России была преображающая заря. Только этого хочу. Ничего иного».
Ностальгия звучала и в письме от 19 августа 1925 года к дочери Нине Бруни: «…Я всегда люблю Россию… Иногда я лягу ни кушетку или на постель, закрою глаза – и в миг я там».
Его тянуло на родину. «Я живу и не живу, живя за границей, несмотря на все ужасы России, я очень жалею, что уехал из Москвы», — делился он в письме с поэтом А.Б.Кусиковым 17 мая 1927 года.
Желание вернуться – одно, а решиться на этот шаг – другое. После признания Англией СССР в 1930 году, Бальмонт возмутился: «Англия, пожавшая кровавые руки посланцам разбойного Советского правительства порабощенной России. Признание Англией вооруженной банды интернациональных проходимцев»… После такого выступления порыв выехать на родину затих, и последняя поездка за рубеж состоялась 6 июня 1930 года на «День песни» в Литву.
Деньги Бальмонт называл не иначе как «звенящие возможности», но их становилось все меньше и меньше, тем более приходилось заботиться и о трех других женах и детях.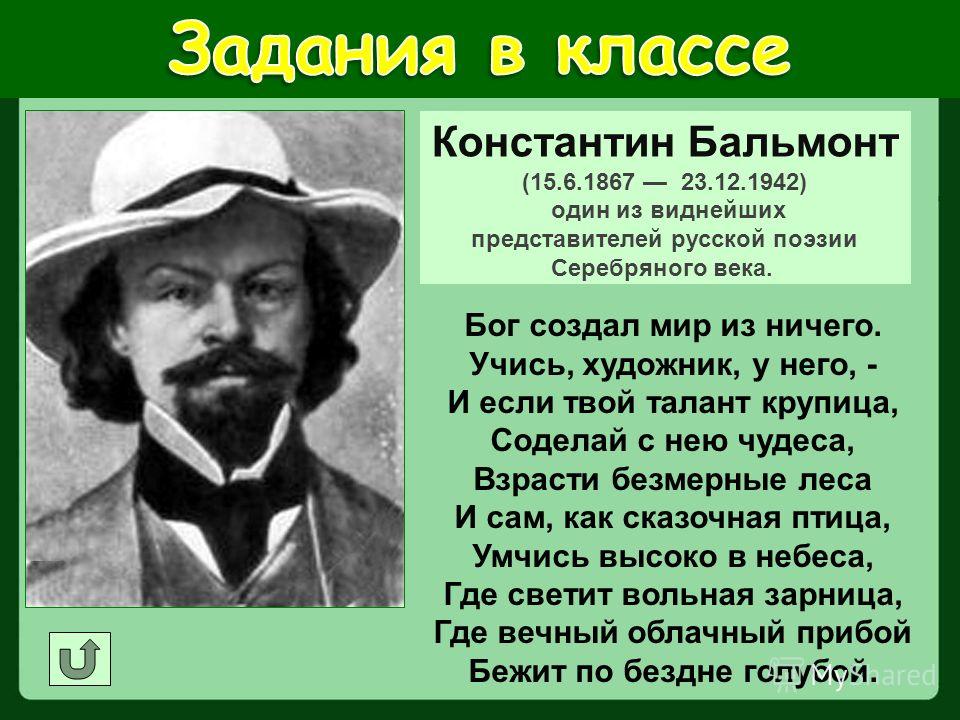 Добывал средства к существованию стихами, переводами, статьями. В начале 1929 года перестала приходить финансовая помощь из США от «Общества распространения полезных знаний среди интеллигентов».
Добывал средства к существованию стихами, переводами, статьями. В начале 1929 года перестала приходить финансовая помощь из США от «Общества распространения полезных знаний среди интеллигентов».
Теплотой отношений отличалась дружба в эмиграции Бальмонта с прозаиком Иваном Шмелевым, который как мог, помогал бедствующему другу.
Из письма И.Шмелева В.Ф.Зеелеру от 2 ноября 1929 года видно, в каком положении было семейство поэта: «Дочка К.Д.Бальмонта бьется в Париже, ищет работу. К.Д. – в очень трудном положении, едва сводит концы с концами. Жить у родителей без дела, без заработка Мирре – бессмысленно. Для ее душевного состояния тяжело висеть обузой. А дела Поэта все хуже, хуже».
Добрый Зеелер Владимир Феофилович — юрист, журналист, с 1919 по 1920 год министр внутренних дел в правительстве А.И.Деникина, генеральный секретарь парижского Союза русских писателей и журналистов, откликнулся на просьбу и Бальмонт благодарил его за «…добрые и успешные (столь успешные) хлопоты о моей поэтической и чудовищно беспорядочной дочери Мирре».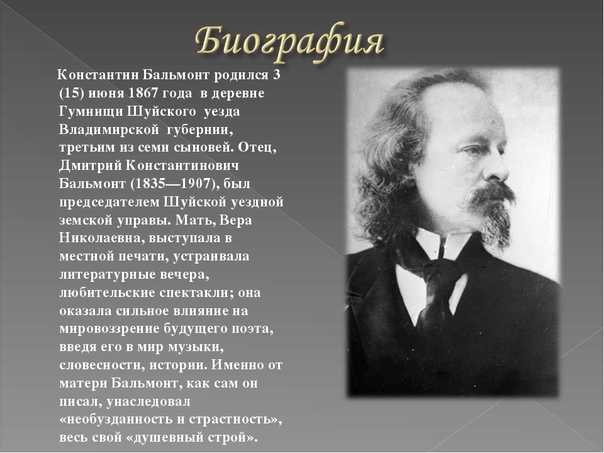
В декабре 1929 года Бальмонта сообщил Шмелеву: «Все по правилам. Сидим без денег. Мерзнем. Голодаем. Оборваны. Работаем не покладая рук… Пока ум творит, а воля тверда.».
Стихов пишется все меньше и меньше. В основном идут переводы, в том числе литовских поэтов и новая обработка «Слово о полку Игореве». Последняя книжка «Святослужение» вышла в 1937 году в Париже.
В начале 1931 года отправлено безрадостное письмо к И.Шмелеву: «Мы без денег. Мирра и Елена для Мирры истребовали все мои запасы начисто. Америка ж, явно, прогорела. Ни за декабрь, ни за ноябрь за виллу еще не мог заплатить. Месяц уже или полтора работаю с десяти часов до трех-четырех ночи. Надеюсь выкрутиться».
«Вилла» — сказано громко. Это маленькая меблированная квартира, с разбитым окном из которого постоянно дуло и его приходилось завешивать бурого цвета портьерой, что создавало темную, сырую неуютность.
Снова послание Шмелеву от 1 октября 1933 года: «Друг, если бы Вас не было, не было бы самого светлого и ласкового чувства в моей жизни за последние 8 – 9 лет, не было бы самой верной и крепкой душевной поддержки и опоры, в часы, когда измученная душа готова была переломиться». Алкоголь и депрессия все больше и больше сковывали душу Константину Дмитриевичу.
Алкоголь и депрессия все больше и больше сковывали душу Константину Дмитриевичу.
В тяжкие дни поэта на помощь приходил и С.В. Рахманинов, написавший музыку на «Колокола» Эдгара По и романс на стихотворение Шелли, в переводе Бальмонта. Правда, он не всегда платил композитору ответным добрым словом.
Весна 1935 принесла обострение нервного заболевания, поэт попал в госпиталь и Цветковская сообщает В.Ф.Зеелеру: «Мы в беде великой и нищете полной. У Константина Дмитриевича нет ни ночной приличной рубашки, ни ночных туфель, ни пижамы. Гибнем, дорогой друг, если можете, помогите, посоветуйте». Помощь последовала незамедлительно.
Несмотря на тяжелое состояние Бальмонта, русское зарубежье решило отметить 50летие его писательской деятельности, хотя и без юбиляра. В оргкомитет вошли: И.Бунин, А.Н.Бенуа, А.К.Гречанинов, С.В.Рахманинов и другие. 24 апреля в 1935 года состоялся вечер. На нем Иван Шмелев сказал: «Если бы мне сказали лет тридцать тому назад, что придет день, когда я буду приветствовать Бальмонта как друга и собрата, я ни за что бы не поверил.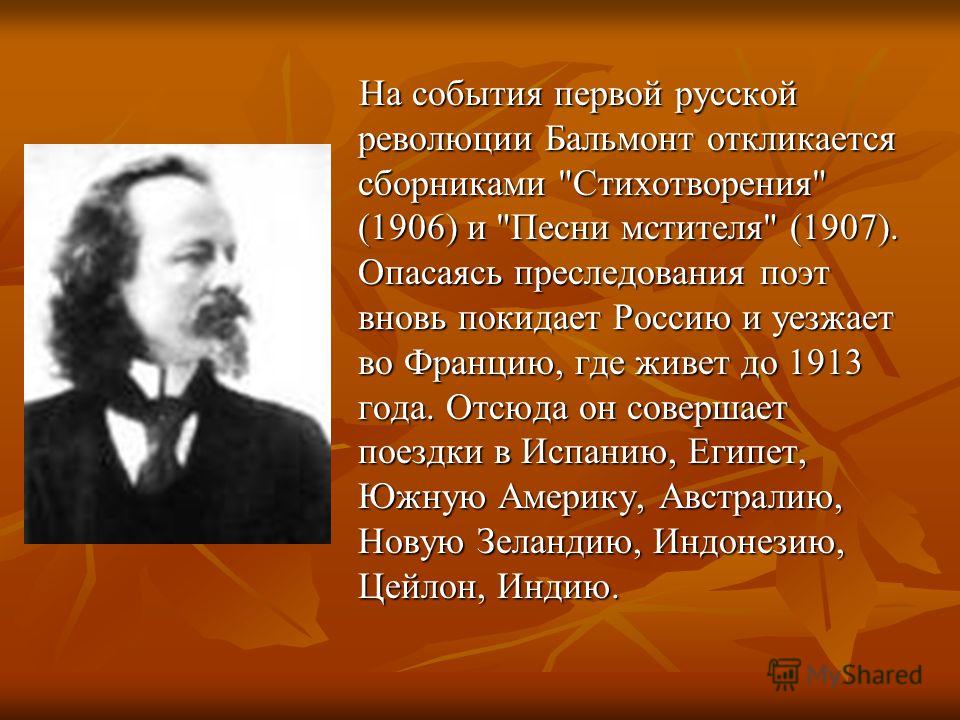 В те времена нас, прозаиков, и их, поэтов-символистов разделяли необозримые пространства».
В те времена нас, прозаиков, и их, поэтов-символистов разделяли необозримые пространства».
Болезни все больше и больше давали знать о себе. Иван Шмелев, навещая больного друга, читал ему свое «Богомолье». Светлые промежутки в сознании Бальмонта становились редкими. Их заменяли сумеречные состояния. К ним присоединилось воспаление легких…
24 декабря в возрасте 75 лет под Парижем перестало биться сердце русского поэта Константина Дмитриевича Бальмонта. Похороны состоялись на кладбище Наузи-ле-Гран. Е.К.Цветковская и немногочисленные друзья проводили в последний путь Поэта хрустальных созвучий.
О компании | Belmont Story Review
Управляемый студентами | Признан на национальном уровне
Журнал о литературе, искусстве, вере и культуре.
Декларация
о разнообразии, равенстве и инклюзивности
В литературных журналах уже давно доминирует взгляд белых мужчин, и Belmont Story Review стремится публиковать рассказы, стихи и эссе, включающие разнообразие мнений и представляют обычно недопредставленные группы населения.

Благодаря нашей редакционной проницательности мы стараемся принимать работы от обычно недостаточно представленных групп, будь то BIPOC, LGTBQIA, ELL или другие писатели, мечтатели и мыслители.
Belmont Story Review Персонал
См. Ниже для нашего персонала
Текущий персонал
Tiffany Alexander
Редактор совместного управления
V6 Персонал V7 & V8 Co-M.E.
Тиффани Александер в настоящее время учится на бакалавриате Белмонтского университета по специальности «Издательское дело» и «Литература и журналистика». Она работает над редактированием и написанием журналистских статей для журнала в Нэшвилле.
Софи Слашер
Главный редактор
V7 Staff, V8 & V9 Co-M.E.
Софи Слашер в настоящее время учится на старшем курсе Белмонтского университета по специальности «Издательское дело» и «Музыкальный бизнес».
Сара Вигал
Редактор
Сара Вигал — доцент кафедры кино, телевидения и средств массовой информации и директор издательского отдела Белмонтского университета.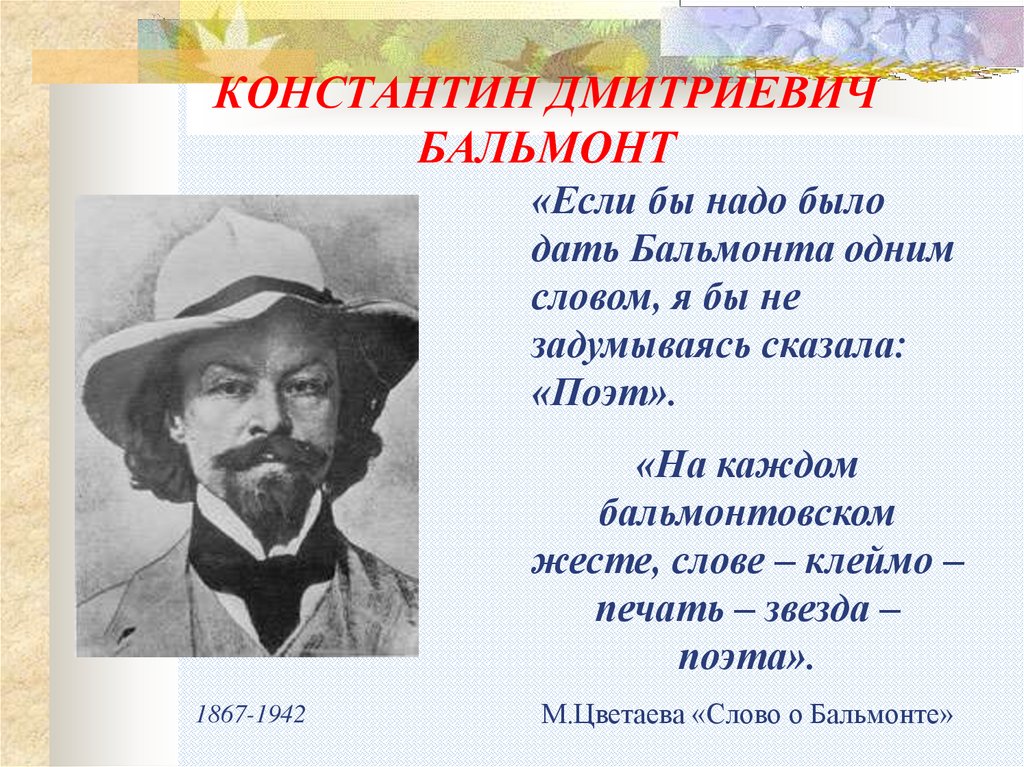 Уигал обучалась у литературных агентов, редакторов журналов и в отделе маркетинга крупного издательства, наконец, работала в литературном PR, начав с ассистента и пройдя путь до должности старшего менеджера. Она была опубликована в журналах Library Journal, The Tennessean, Publishers Weekly, Writer’s Digest, The Chaffin Journal, Miracle Monocle, Variant Literature, а также в интервью Writer’s Digest «Путеводитель по литературным агентам» за 2019 год.и издания 2020 года. Ее эссе «Человек ручного труда очищается» вошло в полуфинал ежегодного конкурса документальной литературы Sewanee Review, а позже, когда оно было опубликовано в Variant Lit, было номинировано на премию Pushcart Prize 2021 года. Вигал является сопредседателем Общества «Следующая глава», которое поддерживает программу, ставшую возможной благодаря Фонду публичной библиотеки Нэшвилла. Она является основателем организации Nashville Publishing Meetup, которая объединяет профессионалов издательского дела. Когда у нее нет книги в руках, вы можете найти Уигал, обнимающуюся со своими двумя собаками, танцующую сальсу или занимающуюся своими руками в своем коттедже в Восточном Нэшвилле.
Уигал обучалась у литературных агентов, редакторов журналов и в отделе маркетинга крупного издательства, наконец, работала в литературном PR, начав с ассистента и пройдя путь до должности старшего менеджера. Она была опубликована в журналах Library Journal, The Tennessean, Publishers Weekly, Writer’s Digest, The Chaffin Journal, Miracle Monocle, Variant Literature, а также в интервью Writer’s Digest «Путеводитель по литературным агентам» за 2019 год.и издания 2020 года. Ее эссе «Человек ручного труда очищается» вошло в полуфинал ежегодного конкурса документальной литературы Sewanee Review, а позже, когда оно было опубликовано в Variant Lit, было номинировано на премию Pushcart Prize 2021 года. Вигал является сопредседателем Общества «Следующая глава», которое поддерживает программу, ставшую возможной благодаря Фонду публичной библиотеки Нэшвилла. Она является основателем организации Nashville Publishing Meetup, которая объединяет профессионалов издательского дела. Когда у нее нет книги в руках, вы можете найти Уигал, обнимающуюся со своими двумя собаками, танцующую сальсу или занимающуюся своими руками в своем коттедже в Восточном Нэшвилле.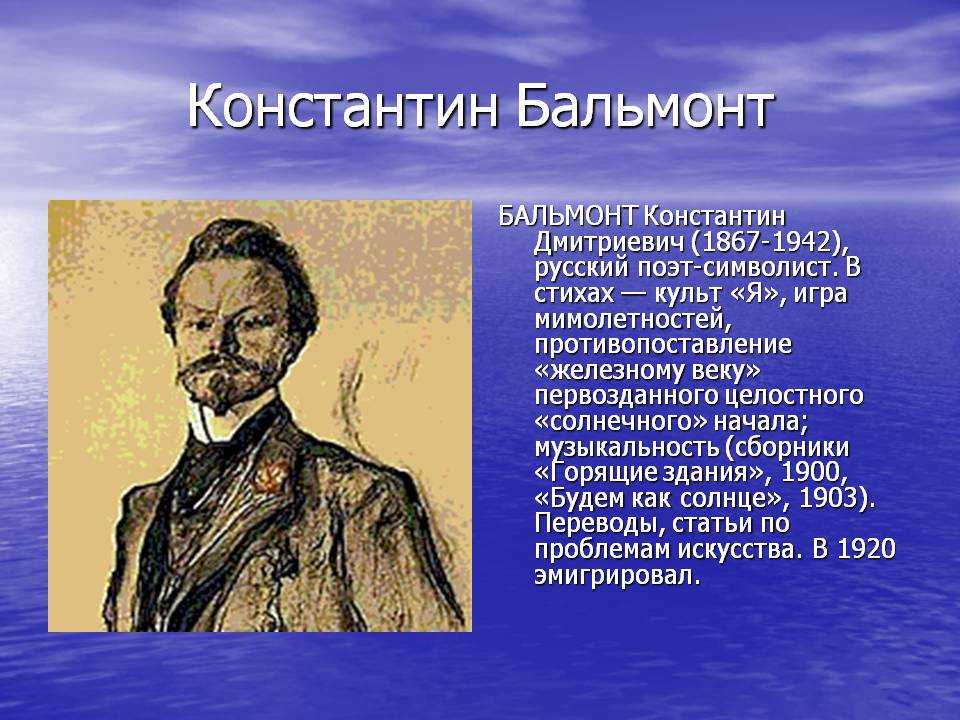 Она автор личных эссе и начинающий исторический романист. Найдите ее в Instagram @shewritespirates и Twitter @sarawigal.
Она автор личных эссе и начинающий исторический романист. Найдите ее в Instagram @shewritespirates и Twitter @sarawigal.
Volume VII Editorial Staff
Publicists
Megan Rolapp
Matti Churakos
Communications Coordinator
Audrey Harper
Copy Editors
Maddie Grimes
Rhena Curran
Кайли Лингельбах
Рене Дюссо
Сара Лоусон
Менеджеры социальных сетей
Фиби Блумфилд
Лорен Кэмпбелл
Ruthie Helfer
Kylie Frye
Art Directors
Claire Gurley
Kendall Miller
Submission Coordinator
Olivia Walker
Poetry Editors
Sophie Slusher
Maddy Hicks
Josie Montrose
Margot Пирсон
Аня Риз
Английский | College of Liberal Arts & Social Sciences
Lauren Tweedell
Отделение английского языка Belmont — это особенный дом вдали от дома.
 Мне бросили вызов строгие материалы курса и занятия, поскольку я расширяю свои знания в области литературы, риторики и различных форм письма, а также преследую возможность стажировки по английскому языку здесь, в Нэшвилле. В то же время обо мне заботятся профессора, которые находят время, чтобы узнать меня за пределами класса. Они приносят в класс выпечку, приглашают мой класс к себе домой и искренне заботятся о каждом из своих учеников и их карьерных устремлениях. Я не могу представить себе лучшую среду, в которой я мог бы расти и исследовать свои увлечения в эти годы становления в колледже.
Мне бросили вызов строгие материалы курса и занятия, поскольку я расширяю свои знания в области литературы, риторики и различных форм письма, а также преследую возможность стажировки по английскому языку здесь, в Нэшвилле. В то же время обо мне заботятся профессора, которые находят время, чтобы узнать меня за пределами класса. Они приносят в класс выпечку, приглашают мой класс к себе домой и искренне заботятся о каждом из своих учеников и их карьерных устремлениях. Я не могу представить себе лучшую среду, в которой я мог бы расти и исследовать свои увлечения в эти годы становления в колледже.
Заинтересованы?
Создайте учетную запись BU4U, чтобы подать заявку, запросить информацию и многое другое!
Создать учетную запись
Свяжитесь с нами
Мадлен Фосслер
Координатор по приему
615.460.6577
Электронная почта Мадлен
Студенты, изучающие английский язык, упиваются чтением и письмом как проявлением любви и творчества, воображения и человеческой потребности в общении.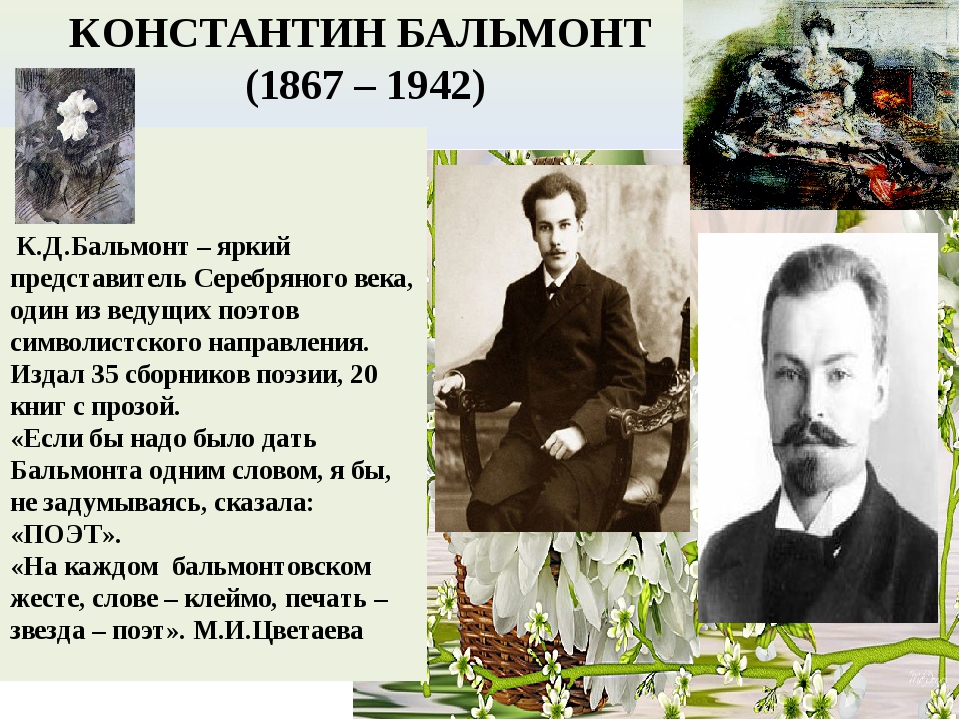 Предлагая курсы по литературе и письму, курсы английского языка Belmont проходят динамичные интерактивные курсы, которые обеспечивают достаточную подготовку для различных личных и профессиональных устремлений. Учебная программа охватывает весь спектр поэзии, художественной литературы, документальной литературы, письма и риторики со специальными курсами по всему: от романа о короле Артуре до афроамериканской литературы, творческого письма и искусства эссе.
Предлагая курсы по литературе и письму, курсы английского языка Belmont проходят динамичные интерактивные курсы, которые обеспечивают достаточную подготовку для различных личных и профессиональных устремлений. Учебная программа охватывает весь спектр поэзии, художественной литературы, документальной литературы, письма и риторики со специальными курсами по всему: от романа о короле Артуре до афроамериканской литературы, творческого письма и искусства эссе.
Лучше всего то, что английский мажор или минор является одновременно гибким и практичным. Выпускники программы Белмонта теперь являются авторами, руководителями предприятий, юристами, профессорами университетов, учителями, репортерами, консультантами по связям с общественностью, певцами, авторами песен, риелторами, министрами, техническими писателями и консультантами, теле- и кинопродюсерами и внештатными писателями. Это образование для жизни.
У студентов есть множество возможностей поделиться своей работой во время получения степени.