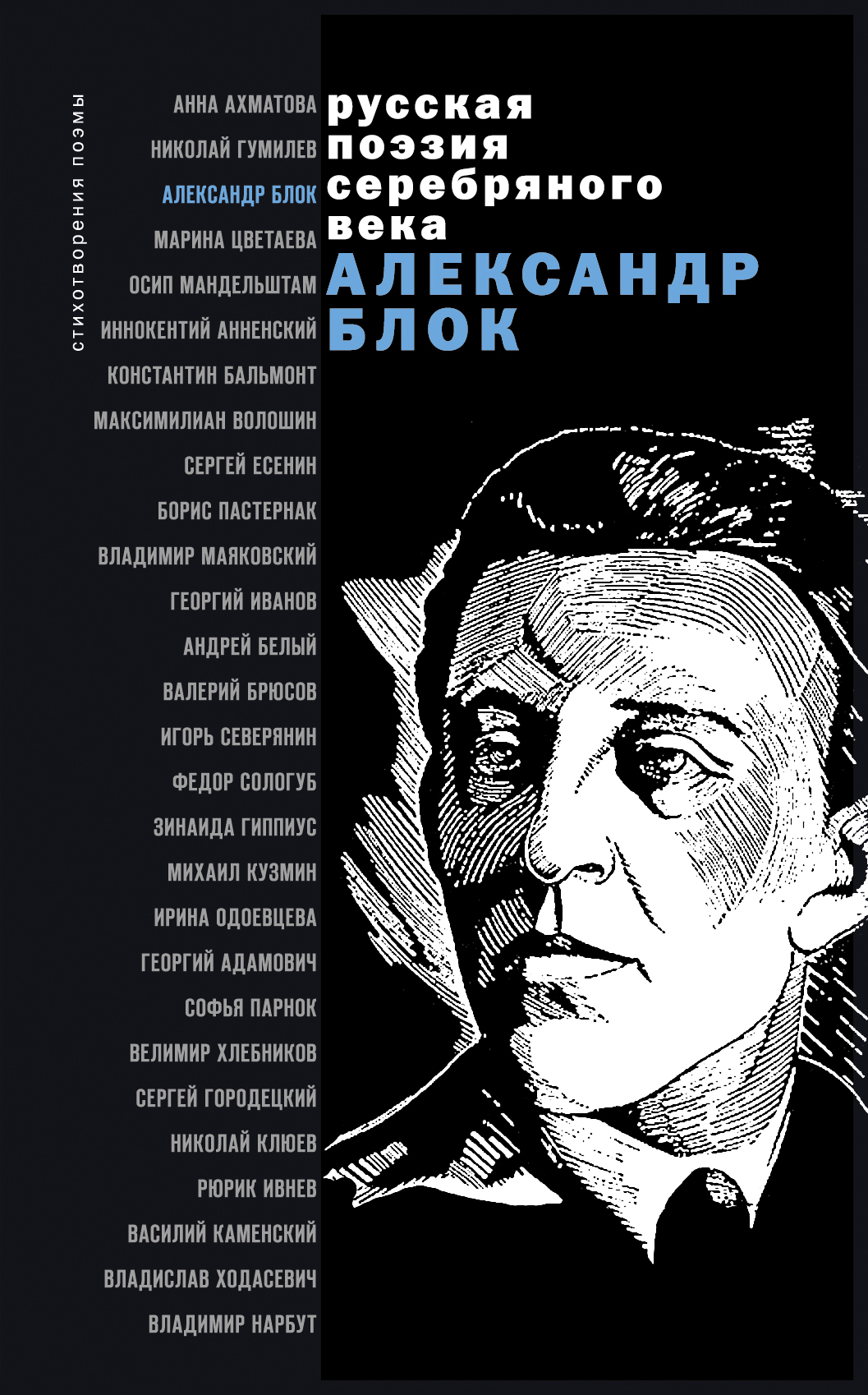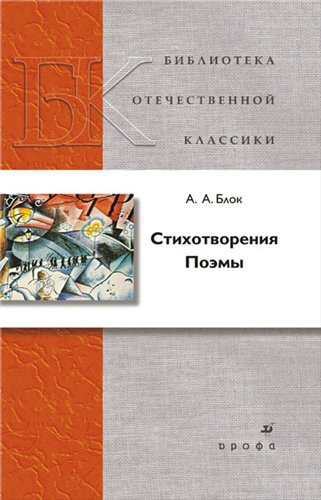Блог Исторического музея — Рассказываем о нашей работе, делимся планами на будущее, знакомим с новыми проектами, публикуем интересные факты из нашей музейной истории и другие занимательные материалы
Сегодня, 9 февраля, Государственный исторический музей отмечает 150-летие со дня …
Читать далее «Историческому музею — 150!»
Как бы ни было велико желание музейного хранителя установить имя …
Читать далее «Если не Арнольди, то кто?»
В Историческом музее хранится белее тысячи снимков, выполненных военным топографом, …
Читать далее «Мир глазами военного топографа Российской империи Д.И. Ермакова»
В иконостасе церкви Василия Блаженного, выполненном в 1895 году мастерской …
Читать далее «Образ Михаила Клопского, или Еще один сюрприз Покровского собора»
На ресурсе «Неизвестный солдат» предположительно на портрете работы Е. А. Афанасьевой изображен генерал-майор …
А. Афанасьевой изображен генерал-майор …
Читать далее «Ещё раз о судьбе генерала Новикова»
Читать далее ««Герб – алгебра, герб – язык…»»
Повествуя о правлении царя Ивана Грозного, древний автор Степенной книги царского …
Читать далее «Об изыскании внутренних резервов, или в тесноте, да не в обиде»
По традиции к Новому году радуем вас «цветной» подборкой памятников из собрания музея. …
Читать далее «Цвет 2022 года в коллекции Исторического музея»
Среди подписных и датированных икон в собрании отдела Древнерусской живописи …
Читать далее «Благословление Экзарха Грузии»
В собрании отдела изобразительных материалов хранятся четыре рисунка участников Отечественной войны …
Читать далее «Рисунки братьев Норовых»
Изображения-перевёртыши известны довольно давно.
Читать далее «Перевёртыши»
7 марта 1876 года американский и канадский ученый и изобретатель Александр Белл получил …
Читать далее «Тут какой-то паучок, или История под ногами»
«Буквально замучали его»: 7 августа умер великий поэт Александр Блок
Великий русский поэт Александр Блок умер на 41-м году жизни 7 августа 1921 года, «сгорев» от скоротечной болезни. Официальной причиной смерти символиста назвали воспаление сердечных клапанов, но в обществе трагедию связывают с мистическим действием его собственных слов: на одном из выступлений Блок произнес фразу «Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем».
Главный представитель символизма в русской литературе Александр Блок был одним из деятелей культуры Петрограда, принявших советскую власть и согласившихся на нее работать. Поэт встретил Февральскую и Октябрьскую революции со смешанными чувствами, но отказался от эмиграции.
Критик Виктор Шкловский осудил читателей, воспринимавших поэму всерьез и не сумевших понять иронии автора над действительностью.
«Двенадцать» — ироническая вещь. Она написана даже не частушечным стилем, она сделана «блатным» стилем. Стилем уличного куплета вроде савояровских», — отметил Шкловский.
После революций Блок остался в России, чтобы поддержать страну в трудные годы, и устроился редактором в «Чрезвычайную следственную комиссию для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданских, так и военных и морских ведомств».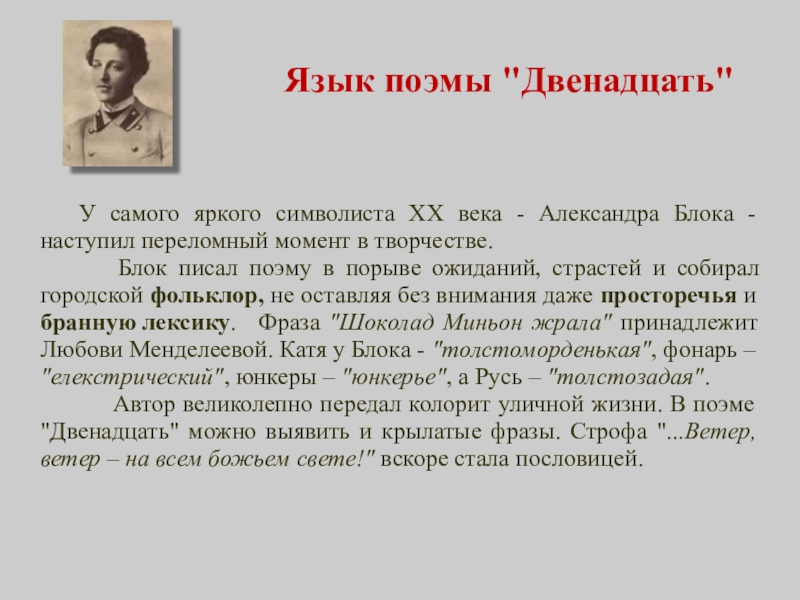
Советская власть активно использовала влиятельное имя Блока в своих целях, назначая его на многие должности в различных государственных организациях. Зачастую сам поэт не знал о новых назначениях, но по понятным причинам не мог перечить власти и постепенно обрастал огромным объемом работы.
Отсутствие отдыха значительно подкосило здоровье Блока: обремененный ответственностью за порученные ему дела, поэт не имел возможности расслабиться. Свое состояние того периода он описывал словами «меня выпили».
«Почти год как я не принадлежу себе, я разучился писать стихи и думать о стихах…» — жаловался Блок в частном письме, написанном в 1919 году.
Тем временем на фоне проблем и трудной жизни в революционном Петрограде физическое состояние поэта продолжало ухудшаться. У Блока была выявлена астма, развились психические расстройства, а зимой 1920 года его поразила цинга.
Для приведения своего здоровья в порядок поэт решил отправиться на лечение в Финляндию. Вместе с коллегой Федором Сологубом он подал в Политбюро запрос на получение выездных виз, но получил отказ. Позднее нарком просвещения Анатолий Луначарский подтвердил, что в увядании выдающегося деятеля культуры было виновато государство. Его слова процитировали авторы книги «В огне революции» Мария Спиридоновна и Лариса Рейснер.
Позднее нарком просвещения Анатолий Луначарский подтвердил, что в увядании выдающегося деятеля культуры было виновато государство. Его слова процитировали авторы книги «В огне революции» Мария Спиридоновна и Лариса Рейснер.
«Мы в буквальном смысле слова, не отпуская поэта и не давая ему вместе с тем необходимых удовлетворительных условий, замучали его», — признался Луначарский.
Многие историки сошлись во мнении, что председатель Совнаркома Владимир Ленин и деятель ВЧК Вячеслав Менжинский виноваты в преждевременной смерти поэта. Согласно ходатайству Луначарского и писателя Максима Горького, на заседании политбюро ЦК РКП 12 июля 1921 года политики запретили больному поэту поехать на лечение в финский санаторий.
На следующем заседании Политбюро Луначарский вместе с революционером Львом Каменевым смогли выхлопотать для Блока разрешение на выезд из страны, датированное 23 июля 1921 года. Однако на тот момент состояние поэта стало значительно хуже, и Горький вызвался его сопровождать. Соответствующие документы были подписаны уже через неделю, но писатель узнал об этом только 6 августа.
Соответствующие документы были подписаны уже через неделю, но писатель узнал об этом только 6 августа.
В это время по Петрограду разносился слух о том, что Блок сошел с ума и помешался на идее уничтожить все экземпляры рукописей поэмы «Двенадцать». За несколько дней до смерти поэт был одержим этой мыслью, бредил и отказывался от воды и пищи. Вспомнив, что один из экземпляров мог остаться у поэта Василия Брюсова, Блок кричал, что «убьет» коллегу.
Смерть поэта стала его последней загадкой, которую не могут разгадать до сих пор. Согласно диагнозу врачей, причиной трагедии стал острый эндокардит. Однако те же специалисты недоумевали по поводу быстрой смерти Блока, не характерной для этого заболевания. Они также не могли назначить больному метод лечения и безуспешно пытались использовать морфий для облегчения симптомов.
В помощь школьнику. 11 класс. А. А. Блок. «Двенадцать» (1918)
Текст: Ольга Разумихна
Выход поэмы «Двенадцать» в начале 1918 года обернулся для Блока неприкрытой травлей.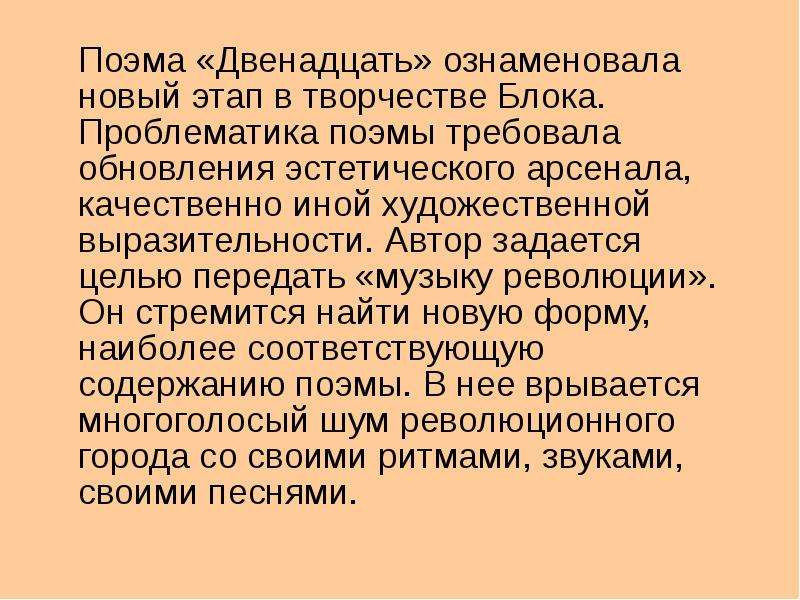 От автора отвернулись многие знакомые: кто-то — сделав вывод, что Блок слишком активно поддерживает революционные идеи, а кто-то — напротив, усмотрев в поэме едкую сатиру на коммунизм с его идеями строительства светлого будущего. Интеллигенты называли поэта изменником и бойкотировали выступления — его самого и супруги, Любови Дмитриевны Менделеевой, а кто-то даже говорил, что Блока следует повесить.
От автора отвернулись многие знакомые: кто-то — сделав вывод, что Блок слишком активно поддерживает революционные идеи, а кто-то — напротив, усмотрев в поэме едкую сатиру на коммунизм с его идеями строительства светлого будущего. Интеллигенты называли поэта изменником и бойкотировали выступления — его самого и супруги, Любови Дмитриевны Менделеевой, а кто-то даже говорил, что Блока следует повесить.
Вот парадокс: люди читали одну и ту же поэму — и сделали из неё диаметрально противоположные выводы! Но что же на самом деле имел в виду автор?
О хитросплетениях судьбы Александра Александровича мы уже разговаривали в прошлом учебном году, так что на этот раз не будем досконально разбирать его биографию. Главное для нас — разобраться, как же так вышло, что к концу своей недолгой жизни Блок оказался чужим среди своих и почему поэма «Двенадцать» стала печальным, но закономерным итогом его неприятия современниками.
Новая тенденция
Начало ХХ века ознаменовалось, помимо всем известных политических пертурбаций, тем, что в это время в литературу начали приходить люди из «низших» сословий.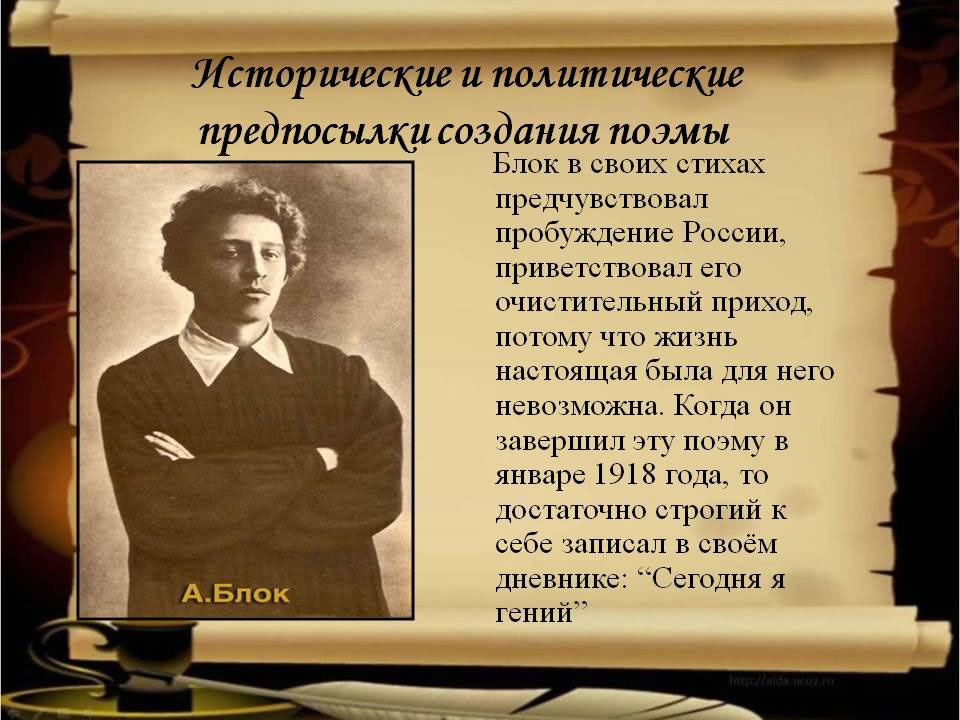 В XIX веке сочинительство было привилегией дворян или, в крайнем случае, купцов, пусть даже им приходилось много трудиться, а не сидеть «на шее» у крепостных; так, именно из купеческого рода происходил А. П. Чехов, который с раннего детства трудился в лавке у отца и был лишён всех мальчишеских радостей, но, став взрослым, даже не подумал навёрстывать упущенное — вместо этого он выучился на врача и принялся работать уездным лекарем, а потом поехал проводить перепись населения аж на Сахалин, где изрядно подорвал здоровье. Однако в ХХ веке обретают популярность такие авторы, как:
В XIX веке сочинительство было привилегией дворян или, в крайнем случае, купцов, пусть даже им приходилось много трудиться, а не сидеть «на шее» у крепостных; так, именно из купеческого рода происходил А. П. Чехов, который с раннего детства трудился в лавке у отца и был лишён всех мальчишеских радостей, но, став взрослым, даже не подумал навёрстывать упущенное — вместо этого он выучился на врача и принялся работать уездным лекарем, а потом поехал проводить перепись населения аж на Сахалин, где изрядно подорвал здоровье. Однако в ХХ веке обретают популярность такие авторы, как:
•Максим Горький, внук владельца красильной мастерской и сын столяра, обучавшийся грамоте в приходском училище для детей из неимущих слоёв и с юности вынужденный зарабатывать деньги тяжёлым трудом;
•В. В. Маяковский, родившийся в Грузии в многодетной рабочей семье, рано оставшийся сиротой и в семнадцать лет оказавшийся в тюрьме за агитационную деятельность;
•C. А. Есенин, сын вышедшего «в люди» крестьянина, который, так же, как и Маяковский, рос в многодетной семье и не получил высшего образования.
На первых порах сам этого не осознавая, Блок стал заложником этой тенденции, в общем-то позитивной. Потому что Александр Александрович появился на свет в самой что ни на есть интеллигентной семье: отец — профессор юриспруденции, мама — дочь ректора Санкт-Петербургского университета, многочисленные друзья семьи — сплошь академики, театралы и даже священники. Так что неудивительно, что в творчестве Блока (особенно в его первом сборнике — «стихи Прекрасной даме») политическая и социальная повестка практически отсутствовала. За это, кстати, символистов вообще и Блока в частности часто критиковали и высмеивали, — но они не оставались в долгу и высмеивали уже критиков. Вот какое стихотворение написал религиозный мыслитель, мистик и поэт Владимир Сергеевич Соловьёв, чьи идеи оказали огромное влияние на символистов:
- Горизонты вертикальные
- В шоколадных небесах,
- Как мечты полузеркальные
- В лавровишенных лесах.
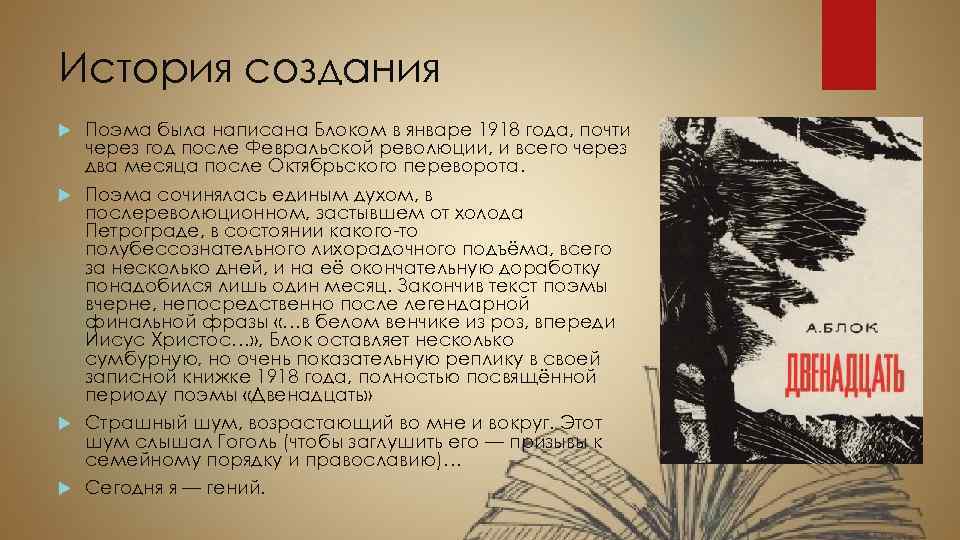
- Призрак льдины огнедышащей
- В ярком сумраке погас,
- И стоит меня не слышащий
- Гиацинтовый пегас.
- Мандрагоры имманентные
- Зашуршали в камышах,
- А шершаво-декадентные
- Вирши в вянущих ушах.
- 1895
Но, так или иначе, дружеские насмешки приятелей — это одно, а необходимость противиться шквалу критики со стороны писателей и публицистов, которые вечно норовят назвать твои стихи бесполезными — другое. (Маяковский, как мы прекрасно помним, призывал «сбросить с Парохода Современности» и Блока, и заодно Пушкина, Достоевского и Толстого; с одной стороны, оказаться в одном ряду с такими видными фигурами лестно, но с другой…) И ко всему этому можно было бы отнестись с юмором, как это сделал Соловьёв, — но Блок был человеком исключительно тонким, чутким и ранимым. Нет, чувство юмора у него, разумеется, имелось; но поэзию он всегда ставил исключительно высоко, а писать иначе — менее витиевато, более злободневно — не хотел и, пожалуй, не мог. Если он и критиковал окружающую действительность, то не более, чем в стихотворении «Фабрика» (1903):
Нет, чувство юмора у него, разумеется, имелось; но поэзию он всегда ставил исключительно высоко, а писать иначе — менее витиевато, более злободневно — не хотел и, пожалуй, не мог. Если он и критиковал окружающую действительность, то не более, чем в стихотворении «Фабрика» (1903):
- В соседнем доме окна жолты.
- По вечерам — по вечерам
- Скрипят задумчивые болты,
- Подходят люди к воротам.
- И глухо заперты ворота,
- А на стене — а на стене
- Недвижный кто-то, чёрный кто-то
- Людей считает в тишине.
- Я слышу всё с моей вершины:
- Он медным голосом зовёт
- Согнуть измученные спины
- Внизу собравшийся народ.

- Они войдут и разбредутся,
- Навалят на спины кули.
- И в жёлтых окнах засмеются,
- Что этих нищих провели.
Впрочем, это не значит, что Блок не высказывал политических убеждений, — но делал он это в публицистике.
Повестка дня
Здесь отвлечёмся и напомним читателю, который, возможно, подзабыл школьный курс истории, что в начале ХХ века большевики далеко не сразу пришли к власти; Россия не в одно мгновение ока стала СССР. Смена государственного строя происходила в несколько этапов, и здесь следует выделить:
•Первую русскую революцию (1905—1907 гг.), результатом которой стало учреждение Государственной думы, отмена цензуры, появление профсоюзов, увеличение зарплат служащих при сокращении их рабочего дня до 9-10 часов;
•Февральскую революцию (февраль 1917 г.), после которой было сформировано так называемое Временное правительство, а Николай II отрёкся от престола;
•Октябрьскую революцию (октябрь 1917 г. ) — события после убийства Николая II и всей его семьи: свержение Временного правительства и окончательное утверждение советской власти.
) — события после убийства Николая II и всей его семьи: свержение Временного правительства и окончательное утверждение советской власти.
После Октябрьского переворота началась Гражданская война, которая полностью закончилась лишь спустя пять лет. Этим событиям посвящены такие произведения, как «Белая гвардия» М. А. Булгакова, «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака и, конечно, «Тихий Дон» М. А. Шолохова.
Как же отреагировал на всё это Александр Александрович Блок?
Сперва — восторженно. В начале 1918 года классик написал статью «Интеллигенция и революция», в которой были, например, такие строки:
Дело художника, обязанность художника — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух».
Что же задумано?
Переделать всё. Устроить так, чтобы всё стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью.
Когда такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов, — это называется революцией. Меньшее, более умеренное, более низменное — называется мятежом, бунтом, переворотом. Но это называется революцией.
Меньшее, более умеренное, более низменное — называется мятежом, бунтом, переворотом. Но это называется революцией.
Но очень скоро — буквально через месяц-другой — революция стала видеться Блоку куда более сомнительным «предприятием», чем раньше.
День за днём, перемещаясь по Петербургу, поэт наблюдал, какие бесчинства творят дорвавшиеся до власти работяги. Ведь среди них были не только идеологи, готовые положить жизнь за социальное равенство и светлое будущее, но и попросту бандиты, которые воспользовались установившейся в стране суматохой и дали волю своим кровавым инстинктам.
Таковы главные герои поэмы «Двенадцать» — самого злободневного произведения Блока, за которое его, по иронии судьбы, критиковали куда беспощаднее, чем за его «оторванные от реальности» стихотворения о любви и вечности.
- Двенадцать
- Гуляет ветер, порхает снег.
- Идут двенадцать человек.
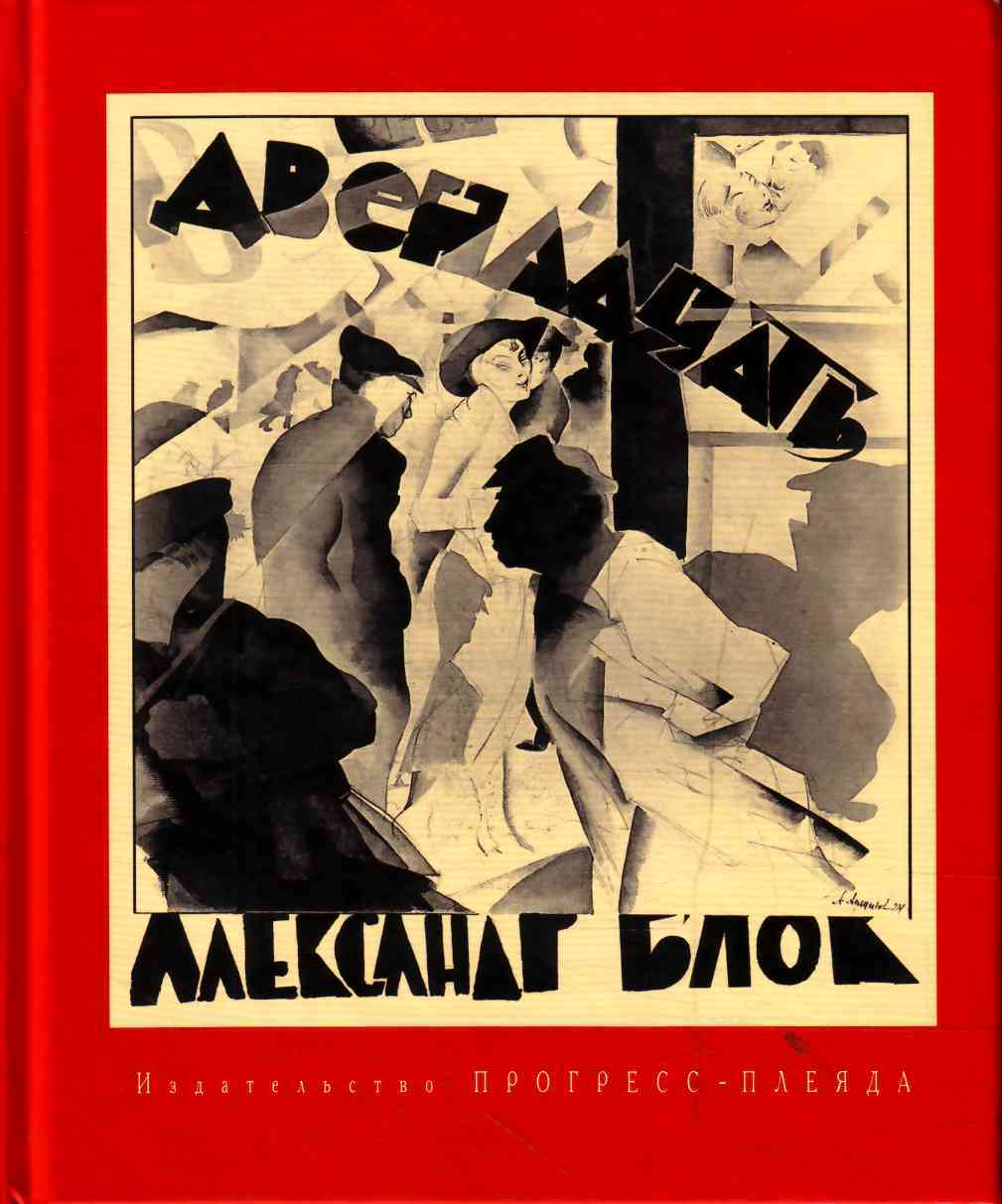
- Винтовок черные ремни,
- Кругом — огни, огни, огни…
- В зубах — цыгарка, примят картуз,
- На спину б надо бубновый туз!
- Свобода, свобода,
- Эх, эх, без креста!
- Тра-та-та!
Двенадцать большевиков — или, если угодно, тех, кто только называет себя большевиками, — идут по заснеженному Петрограду. Простые люди (это и старушка, которой не из чего сшить портки для внуков, и «писатель-вития», и, разумеется, толстый поп) — убегают от них как от огня, потому что знают: добра от них ждать не приходится. По-хорошему, каждому из них «на спину б надо бубновый туз»: такую «униформу» раньше носили арестанты. Но в революционной суматохе никого не заботят суд и следствие, так что товарищи могут делать что угодно.
Поначалу дальше слов дело у них не заходит: они вспоминают Ваньку, который «был наш, а стал солдат», «сукин сын, буржуй», то есть переметнулся на сторону монархистов, и Катьку — девушку, которая проводит с ним время, потому что он «теперь богат». Эта барышня якобы «с офицерами блудила», «в кружевном белье ходила»; за это и её ухажёров, и её саму не раз пытались убить.
Однако вскоре проливается первая кровь. Увидев Ваньку с Катькой, один из двенадцати пытается застрелить предателя — но попадает в девушку. Это событие, впрочем, не возмущает душевного покоя большевиков. Никто не раскаивается в убийстве — напротив, мужчины злорадствуют и считают, что с девушкой обошлись справедливо:
- А Катька где? — Мертва, мертва!
- Простреленная голова!
- Что Катька, рада? — Ни гу-гу…
- Лежи ты, падаль, на снегу!
Переживает из-за произошедшего один только Петька — молодой человек, который проводил с Катькой «ночки чёрные, хмельные». Но товарищи его не поддерживают, а, напротив, спрашивают: «Что ты, Петька, баба што ль?»
Но товарищи его не поддерживают, а, напротив, спрашивают: «Что ты, Петька, баба што ль?»
«Неужели именно эти люди будут вершить судьбу нашей страны, когда всё уляжется?» — как будто бы изумляется Блок.
Разумеется, автор нисколько не поддерживает своих героев. И даже то, что в последней строфе появляется «В белом венчике из роз / Впереди — Исус Христос», который словно возглавляет их колонну, не что иное, как знак последней надежды. Надежды, что и эти преступники раскаются — подобно разбойнику, который был распят рядом со Спасителем на кресте. Ведь они именно что преступники, а вовсе не апостолы, которых, к слову, было двенадцать. Выбирая для своей поэмы столь провокационное название, Блок намеревался то ли намекнуть, что его герои — проповедники новой «веры», но эта вера не спасает души, а, наоборот, губит их, либо просто «запутать» читателя. И, к сожалению, эффект превзошёл все ожидания.
Агитки и лозунги
Помимо рассказов о перемещениях «двенадцати» по Петербургу, поэма содержит многочисленные красноармейские лозунги, например:
- Революцьонный держите шаг!
- Неугомонный не дремлет враг!
И вот, увидев в поэме такие призывы, не слишком аккуратные читатели сделали вывод, что Блок оправдывает зверства красноармейцев. Кто-то записал автора в «распинатели Руси» по наивности, кто-то — потому что ему искренне хотелось видеть имя видного поэта в числе единомышленников. О том, что произошло дальше, можно судить по словам литературоведа А. А. Гениса:
Кто-то записал автора в «распинатели Руси» по наивности, кто-то — потому что ему искренне хотелось видеть имя видного поэта в числе единомышленников. О том, что произошло дальше, можно судить по словам литературоведа А. А. Гениса:
Отдельные стихи из поэмы «Двенадцать» сделали Блока очень знаменитым, их вешали как плакаты, потому что они призывали к революции. Однажды он проходил вместе с молодым человеком по улице, который сказал ему: «Вот видите, вы встали на сторону революции, и ваши стихи появились на витринах». Блок сказал: «Но это же не я говорю — это красноармейцы в поэме говорят».
Увы, утончённый, всегда живший словно с обнажённой душой, Александр Александрович Блок не выдержал переживаний, свалившихся на него в 1810-х. К переживаниям из-за судьбы государства, а также волнениям Первой мировой войны добавились личные потери; к тому же стремительно ухудшалось его материальное положение. Поэт заболел астмой, затем цингой, а в 1820-м умер от воспаления сердечных клапанов.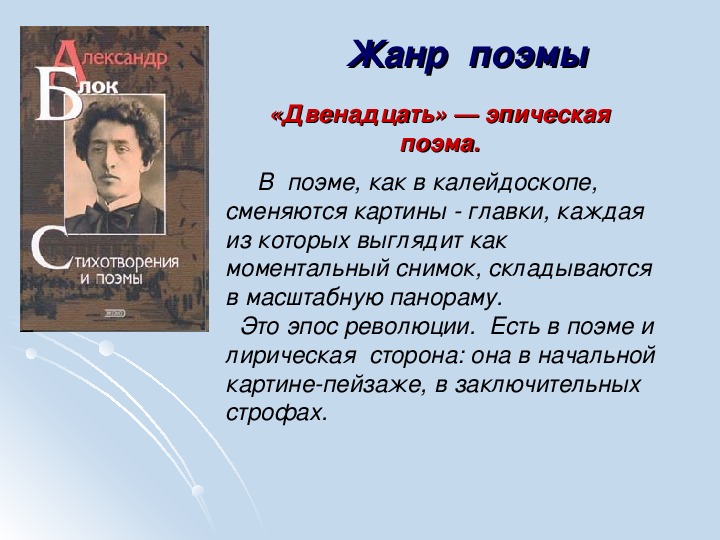
Поэма без автора – Weekend – Коммерсантъ
За сто лет эту историю рассказывали столько раз, что рябь версий и интерпретаций почти невозможно разгладить: у последних двух строчек поэмы — десятки толкований, у обстоятельств ее написания — сотни комментаторов, интерпретаторов, мемуаристов, и всякий доподлинно знает, что Блок перед смертью проклял «Двенадцать» или, напротив, был им верен до конца. Потому что история этого текста кончается смертью его автора — так, словно она была задумана как универсальная эмблема, только не очень понятно, какое значение следует ей приписывать.
Можно рассказывать ее, например, так.
Был поэт, свыше всякой меры любимый своими читателями; каждая его строчка обсуждалась и заучивалась наизусть; его прекрасное лицо было знакомо курсисткам и городовым, так как открытки с его изображением продавались в газетных киосках; в какой-то момент, как это часто случалось в стране, где жили поэт и его читатели, его имя перестало быть синонимом лирической стихии, к которой он всю жизнь прислушивался, и стало значить что-то большее. Он стал, как бы это сказать, большечемпоэтом — персонификацией коллективного нравственного чувства; люди, которые не знали, как им думать о том или этом, шли к нему за ответом — и не сомневались, что его взгляд правильный. Он был совестью своих читателей — совестью мучительно раздраженной, не желающей мириться не только с базовым, застарелым несовершенством мироустройства, но с каждой из частностей, отражающих его постылую кривизну: с брюшком и баритоном соседа по квартире, с дождиком над пограничной будкой, с каждым газетным заголовком — особенно если газета была благонамеренной,
Он стал, как бы это сказать, большечемпоэтом — персонификацией коллективного нравственного чувства; люди, которые не знали, как им думать о том или этом, шли к нему за ответом — и не сомневались, что его взгляд правильный. Он был совестью своих читателей — совестью мучительно раздраженной, не желающей мириться не только с базовым, застарелым несовершенством мироустройства, но с каждой из частностей, отражающих его постылую кривизну: с брюшком и баритоном соседа по квартире, с дождиком над пограничной будкой, с каждым газетным заголовком — особенно если газета была благонамеренной,
Фото: © «Роза Азора»
То, чего ждал поэт, а вместе с ним, возможно, и его читатели, сегодня трудней всего представить, хотя назвать очень просто — он хотел, чтобы началось наконец будущее, терпеть более было невозможно: «как долго ждать и как трудно дождаться»,— писал он. Слова будущее и новое встречались в его статьях, дневниках, письмах с интенсивностью запятых: тень старого мира, запятнавшего себя насилием и ложью, лежала на повседневности так густо, что и настоящее время казалось стоячим, погруженным в прошлое. «Ватер-клозет, грязный снег, старуха в автомобиле; Мережковский — в Таврическом саду, собака подняла ногу на тумбу, m-lle Врангель тренькает на рояли (б***ь буржуазная), и все кончено». Все это, всех этих, включая пса и старуху (оба призраками возникнут в стихах «Двенадцати»), следовало сломать, смести, уничтожить; и всякое напоминание о том, что порядок, установленный человеком, хрупок, дохнешь и развалится, радовало поэта, как обещание скорой перемены. Черные ямы истории, зоны, где у обычного человека почва дрожит под ногами, а потом из-под ног уходит, Александр Блок называл скупо — событиями. После одной катастрофы он записывал в дневнике: «Гибель Titanic’a, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан)». После другой — мессинского землетрясения, похоронившего под собой десятки городов и сотни тысяч людей,— пообещал следующую: «Мы еще не знаем в точности — каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа.
Слова будущее и новое встречались в его статьях, дневниках, письмах с интенсивностью запятых: тень старого мира, запятнавшего себя насилием и ложью, лежала на повседневности так густо, что и настоящее время казалось стоячим, погруженным в прошлое. «Ватер-клозет, грязный снег, старуха в автомобиле; Мережковский — в Таврическом саду, собака подняла ногу на тумбу, m-lle Врангель тренькает на рояли (б***ь буржуазная), и все кончено». Все это, всех этих, включая пса и старуху (оба призраками возникнут в стихах «Двенадцати»), следовало сломать, смести, уничтожить; и всякое напоминание о том, что порядок, установленный человеком, хрупок, дохнешь и развалится, радовало поэта, как обещание скорой перемены. Черные ямы истории, зоны, где у обычного человека почва дрожит под ногами, а потом из-под ног уходит, Александр Блок называл скупо — событиями. После одной катастрофы он записывал в дневнике: «Гибель Titanic’a, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан)». После другой — мессинского землетрясения, похоронившего под собой десятки городов и сотни тысяч людей,— пообещал следующую: «Мы еще не знаем в точности — каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа.
И вот стихия, к движениям которой прислушивался поэт, пока она ворочалась там, под землей, выпросталась на поверхность, так что ее не могли уже не замечать даже те, кто очень старательно отворачивался. И если встать вместе с Блоком на сторону океана в его войне с корабликом готов был не каждый, то по поводу русской революции ни у кого сомнений не возникало: общественность была на стороне стихии, по крайней мере в феврале. «Неотступное чувство катастрофы», о котором говорил Блок в 1908-м, уже тогда имело победный оттенок — казалось, все что угодно будет лучше российской государственности с ее дураками и дорогами, коррупцией, неправедными судьями и столыпинскими галстуками. Поэты упоенно рифмовали. Хлебников, будущий автор жутких «Председателя Чеки» и «Ночного обыска»: «Свобода приходит нагая, / Бросая на сердце цветы, И мы, с нею в ногу шагая, / Беседуем с небом на «ты»». Цветаева, будущий автор белого «Лебединого Стана»: «И кто-то, упав на карту, / Не спит во сне. / Повеяло Бонапартом / В моей стране». Кузмин, будущий автор крамольных «Переселенцев» и «Плена», говорил, что русская революция «проходит по тротуарам, простая / Будто ангел в рабочей блузе». Молчал только Блок, не писавший стихов с 1916 года — такое было с ним, кажется, впервые. Он заговорит после, не в лад с остальными, невпопад — зато в согласии со стихией — с звуковой волной, распиравшей его изнутри.
/ Повеяло Бонапартом / В моей стране». Кузмин, будущий автор крамольных «Переселенцев» и «Плена», говорил, что русская революция «проходит по тротуарам, простая / Будто ангел в рабочей блузе». Молчал только Блок, не писавший стихов с 1916 года — такое было с ним, кажется, впервые. Он заговорит после, не в лад с остальными, невпопад — зато в согласии со стихией — с звуковой волной, распиравшей его изнутри.
******
Это дело нуждалось бы в точном описании, но рассказы современников, как и дневники и письма самого Блока, перебирают всего несколько слов, указывающих на непонятное: то, что происходило тогда с поэтом, явно не относилось к зоне общего опыта, который можно было бы разделить или обсудить. «На днях, лежа в темноте с открытыми глазами, слушал гул, гул: думал, что началось землетрясение». «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь». «Я начинал слышать сильный шум внутри и кругом себя и ощущать частую физическую дрожь.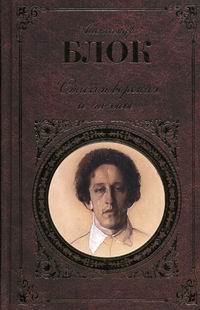 Для себя назвал это Erdgeist’ом». «Я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира)». Иногда это проще было назвать музыкой (больше того, музыкой революции, это словечко из статьи, написанной тогда же, в январе 1918-го, вскоре станет штампом), но чаще имеется в виду просто звук, неумолчный, незаглушимый — говоря словами Виктора Жирмунского — «грандиозный неразрешенный диссонанс». «Двенадцать» — внятный слепок этого звука, отчетливого, как прикосновение.
Для себя назвал это Erdgeist’ом». «Я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира)». Иногда это проще было назвать музыкой (больше того, музыкой революции, это словечко из статьи, написанной тогда же, в январе 1918-го, вскоре станет штампом), но чаще имеется в виду просто звук, неумолчный, незаглушимый — говоря словами Виктора Жирмунского — «грандиозный неразрешенный диссонанс». «Двенадцать» — внятный слепок этого звука, отчетливого, как прикосновение.
Фото: © «Роза Азора»
Может быть, естественный возможный комментарий к поэме — ее оборотная сторона, дневники Зинаиды Гиппиус, на сто процентов существующие в эвклидовой логике повседневности. Ни тоски по новому артистическому человечеству, ни мечты тайно себя уничтожить: сплошной здравый смысл и человеческая жалость к людям и деталям. Все приметы еще не написанных блоковских стихов, одна за одной, собираются ею с ноября — и толпа с плакатом «Вся власть Учр<едительному> Собранию!» («поразительно не военная и даже не пролетарская, а демократическая.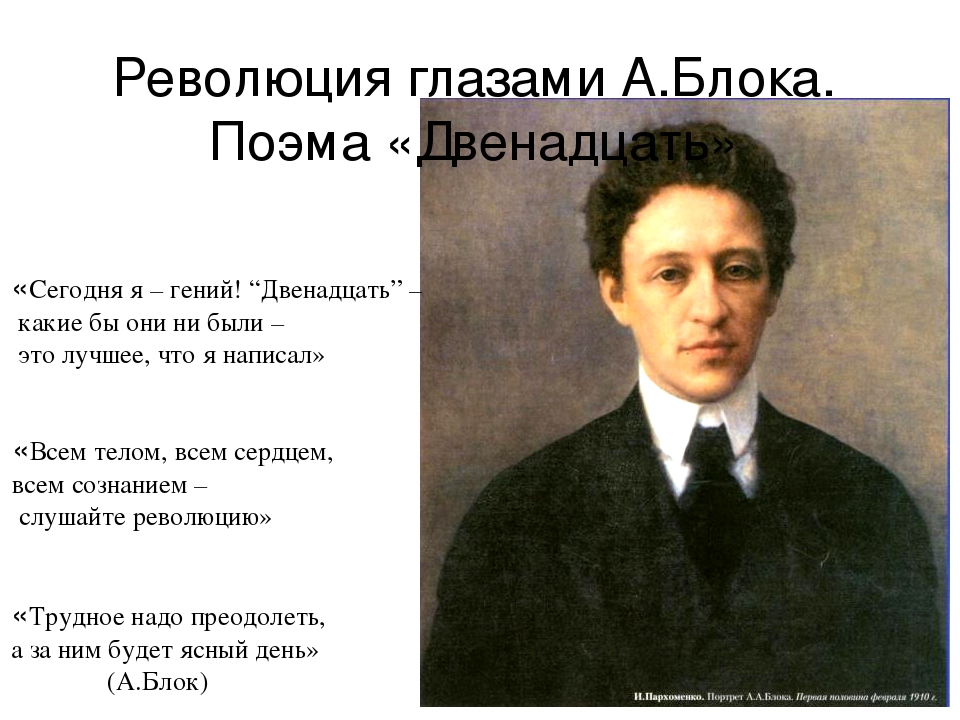 Трудовая демократия шла»), и красноармейцы с винтовочками стальными наперевес. Записи Гиппиус, сделанные в январе — в те самые дни, когда из внутреннего шума возникают очертания «Двенадцати»,— можно читать почти как подстрочник.
Трудовая демократия шла»), и красноармейцы с винтовочками стальными наперевес. Записи Гиппиус, сделанные в январе — в те самые дни, когда из внутреннего шума возникают очертания «Двенадцати»,— можно читать почти как подстрочник.
6 января
Советский Ц.И.К. утвердил полный «роспуск» Учредительного Собрания. Завтра будет декрет.
Ну вот. Об остальном после. Не теперь. Теперь не могу. Холодно. Душа замерзла.
Вообще — я более не могу жить среди всех этих смертей. Я задыхаюсь. Я умираю.
7 января, воскресенье (утр.)
Убили. В ночь на сегодня Шингарева и Кокошкина. В Мариинской больнице. Красногвардейцы. Кажется, те самые, которые их вчера из крепости в больницу и перевозили. Какие-то скрылись, какие-то остались.
7-го же, ночью
Европа! Глубокие умы, судящие нас издали! Вот, посидел бы обладатель такого ума в моей русской шкуре, сейчас, тут, даже не выходя на улицу, а у моего окна, под сугробной решеткой Таврического сада. Посмотрел бы в эту лунную, тусклую синь притаившегося, сумасшедшего, голодного, раздраженного запахом крови, миллионного города…
Посмотрел бы в эту лунную, тусклую синь притаившегося, сумасшедшего, голодного, раздраженного запахом крови, миллионного города…
Тот же лунный, тусклый, буранный, воющий звук, как шарманка, воспроизводится в поэме, словно сам собой, безо всякого авторского или человеческого участия:
Ужь я ножичком
Полосну, полосну!..
Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку…
Упокой, Господи, душу рабы Твоея…
Скучно!
******
Если верить воспоминаниям Корнея Чуковского, Блок говорил ему, что именно с этой жестяной, скрежещущей на морозе согласной буквы ж началась поэма. Строчка про ножичек будет поплавком всплывать потом во множестве текстов, авторских и ничьих, неуловимо похожих друг на друга: народному «У нас ножи наточены, товарищи, на вас» отвечает лесенка Маяковского —
Но-
жи-
чком
на
месте чик
лю-
то-
го
по-
мещика.
Но есть в «Двенадцати» еще одно чередование ш и ж, забыть которое невозможно: оно в строчке, от которой всегда у меня замирает и ухает сердце — и от немыслимого совершенства, и от полной ее неожиданности, да куда там — невозможности в поэтической системе Блока: раннего, позднего, все равно. Это, действительно, выглядит так, словно на смену старому языку пришел новый, дикий, никакого родства не помнящий — зато наделенный свободой, которая и не снилась всему почти двадцатому веку. Про Катьку толстоморденькую в поэме говорится:
Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала —
и это великолепное, хамское жрала в сочетании с именем гетевской Миньоны и серыми гетрами принадлежит инструментарию какой-то позаследующей эпохи, миру Введенского, если не Сатуновского. В блоковском трехтомнике оно ломится вон со страницы, как и вся поэма, невесть откуда взявшаяся, не похожая ни на что, написанное поэтом раньше — привиделось, ветром надуло. Строчка про шоколад Миньон, впрочем, вовсе не блоковская. Ее, лучшую в поэме, мимоходом придумала Бу, Любовь Дмитриевна, предварительно забраковав то, что было у самого автора: пасмурное-некрасовское «юбкой улицу мела». День, когда это произошло,— мы его не знаем — особого рода водораздел: отсюда начинается актуальная поэзия, какой мы ее знаем.
Строчка про шоколад Миньон, впрочем, вовсе не блоковская. Ее, лучшую в поэме, мимоходом придумала Бу, Любовь Дмитриевна, предварительно забраковав то, что было у самого автора: пасмурное-некрасовское «юбкой улицу мела». День, когда это произошло,— мы его не знаем — особого рода водораздел: отсюда начинается актуальная поэзия, какой мы ее знаем.
Фото: © «Роза Азора»
Первый текст нового времени получился чужой, ничей, всеобщий, не ложащийся на чтение. Самому автору он был незнаком до такой степени, что предоставлять ему голос — попросту читать написанное вслух — Блоку никак не удавалось. В поздних, мучительных записях есть такая, от 17 января 1921 года: «Научиться читать «Двенадцать». Стать поэтом-куплетистом. Можно деньги и ордера иметь всегда». Для понимания этого места, кажется, важно знать, что Блок «куплетов» не стеснялся. Он охотно присутствовал при чтениях «Двенадцати» — только исполняла поэму, и не без лихости, та же Любовь Дмитриевна. Блок и сам был мастером чтения; знаменитое «Анна Андреевна, мы не тенора», сказанное им когда-то Ахматовой,— жесткий урок профессиональной этики: жеманиться и отнекиваться нельзя. Дело было в чем-то другом, и ключевое слово здесь не деньги/ордера, а научиться, словно речь шла о чужом языке, чужих стихах. У Любочки с ними отлично получалось, а у него так и не вышло никогда.
Блок и сам был мастером чтения; знаменитое «Анна Андреевна, мы не тенора», сказанное им когда-то Ахматовой,— жесткий урок профессиональной этики: жеманиться и отнекиваться нельзя. Дело было в чем-то другом, и ключевое слово здесь не деньги/ордера, а научиться, словно речь шла о чужом языке, чужих стихах. У Любочки с ними отлично получалось, а у него так и не вышло никогда.
Этот сосущий, клацающий звук, голос безъязыкой улицы, не давался никакому Маяковскому, как тот ни громыхал. Толстоморденькая Бу (толстушка, как говорила о ней та же Гиппиус) знала его лучше Блока, она и сама была немножко Катька («масса зубов, страстная, курносая, крестик выпал») и немного улица; но то, что гуляло туда и сюда обезлюдевшими петроградскими проспектами, нуждалось не только в инструменте, но и в слухе — и в заведомой готовности записать все, что оно продиктует. Упырь — так говорят — не может войти в дом, если ты не позовешь его сам.
****
Стихи «Двенадцати», повторюсь, не похожи ни на что, Блоком написанное; с осени 1917-го сохранились наброски стихотворных строчек и строф, где Блок узнается по первому звуку: отдельные понятия, тоска, там, или ветер, всплывают потом в поэме, но мучительно измененными, так, что их невозможно узнать, как покойников или персонажей сна. Но они и не остаются надолго, пространство «Двенадцати» — арена хаотического движения, отражающегося от стен и катящегося дальше. В этом страннейшем тексте, собственно, больше ничего и не происходит, за исключением одного случайного (как нынче говорят, непреднамеренного) убийства: зато можно поручиться за документальную точность каждой интонации, каждого речевого или шумового обрывка. Они все представлены в этом первом вербатиме с предельной аккуратностью, как нечто, вовсе не принадлежащее автору — но оставленное кем-то ему на сохранение. Чего вовсе нет в тексте «Двенадцати», это Блока, каким его знаешь по старинным стихам: неутолимое общее движение с визгом проезжает по всем мыслимым клавишам, от сарказма к надгробному плачу, но среди человеческих голосов этого хора нет одного, самого главного.
Но они и не остаются надолго, пространство «Двенадцати» — арена хаотического движения, отражающегося от стен и катящегося дальше. В этом страннейшем тексте, собственно, больше ничего и не происходит, за исключением одного случайного (как нынче говорят, непреднамеренного) убийства: зато можно поручиться за документальную точность каждой интонации, каждого речевого или шумового обрывка. Они все представлены в этом первом вербатиме с предельной аккуратностью, как нечто, вовсе не принадлежащее автору — но оставленное кем-то ему на сохранение. Чего вовсе нет в тексте «Двенадцати», это Блока, каким его знаешь по старинным стихам: неутолимое общее движение с визгом проезжает по всем мыслимым клавишам, от сарказма к надгробному плачу, но среди человеческих голосов этого хора нет одного, самого главного.
Фото: © «Роза Азора»
Видимо, то, что моталось тогда по пустой столице, не имело уже никакого отношения к согласиям и несогласиям, симпатиям и антипатиям автора — и это придает происходящему в поэме странную имперсональность, предельно далекую от того, что Пастернак назовет позже «стихией объективности». Голоса, ракурсы, интонации меняются со скоростью метели, преодолевают десятки метров в секунду. Точек зрения слишком много: сквозь революционный Петроград начинает почему-то проступать блокадный Ленинград, мертвый город, где пространство и снег становятся последними зрячими и действующими лицами. Тем, кто не выдерживает заданной скорости, остается на месте, теряет темп (пес, буржуй, старушка, несчастный Петька),— здесь не выжить. Впрочем, в поэме нет инстанции, способной их пожалеть.
Голоса, ракурсы, интонации меняются со скоростью метели, преодолевают десятки метров в секунду. Точек зрения слишком много: сквозь революционный Петроград начинает почему-то проступать блокадный Ленинград, мертвый город, где пространство и снег становятся последними зрячими и действующими лицами. Тем, кто не выдерживает заданной скорости, остается на месте, теряет темп (пес, буржуй, старушка, несчастный Петька),— здесь не выжить. Впрочем, в поэме нет инстанции, способной их пожалеть.
****
«Те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, будь они враги или друзья моей поэмы. Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отношение «Двенадцати» к политике»,— писал Блок двумя годами позже, предельно усталый и уже смертельно больной. Тексты, написанные в начале 1918-го, сделали то, что казалось невозможным,— лишили его доброго имени. Близкие друзья прерывали с ним знакомство, не подавали руки, открещивались в печати. Полоса пустоты, образовавшаяся вокруг него, была почти осязаемой: институт репутаций, на отсутствие которого принято жаловаться сегодня, поэта не защитил, напротив, его единодушно осудили. Интересно, что главную волну возмущения и протеста среди недавних читателей, единомышленников, клявшихся вчера его именем и предельно разочарованных сегодня, вызвала не статья «Интеллигенция и революция», писавшаяся в те же дни, что и поэма, а «Двенадцать»: старушка-курица перемотнулась через сугроб, полосну-полосну, что нынче невеселый, товарищ поп. Беспримесная политика блоковских статей и ответов на газетные анкеты казалась необязательной сноской по сравнению с тем, что стояло за этим отсутствием участия. «Интеллигенцию и революцию» с ее бодрым людоедством («переделать все», а тому, кто думает иначе, «и жить не стоит») постарались не заметить — но от автора «Двенадцати» его читатели отшатнулись с каким-то тревожным ужасом. Почти сразу после публикации поэмы Блок написал Белому, отношения с которым он сохранил до конца, и странное это было письмо: «Мне бы хотелось, чтобы Ты (и все Вы) не пугался «Двенадцати»; не потому, чтобы там не было чего-нибудь «соблазнительного» (может быть, и есть), а потому, что мы слишком давно знаем друг друга; а мне показалось, что Ты «испугался»».
Полоса пустоты, образовавшаяся вокруг него, была почти осязаемой: институт репутаций, на отсутствие которого принято жаловаться сегодня, поэта не защитил, напротив, его единодушно осудили. Интересно, что главную волну возмущения и протеста среди недавних читателей, единомышленников, клявшихся вчера его именем и предельно разочарованных сегодня, вызвала не статья «Интеллигенция и революция», писавшаяся в те же дни, что и поэма, а «Двенадцать»: старушка-курица перемотнулась через сугроб, полосну-полосну, что нынче невеселый, товарищ поп. Беспримесная политика блоковских статей и ответов на газетные анкеты казалась необязательной сноской по сравнению с тем, что стояло за этим отсутствием участия. «Интеллигенцию и революцию» с ее бодрым людоедством («переделать все», а тому, кто думает иначе, «и жить не стоит») постарались не заметить — но от автора «Двенадцати» его читатели отшатнулись с каким-то тревожным ужасом. Почти сразу после публикации поэмы Блок написал Белому, отношения с которым он сохранил до конца, и странное это было письмо: «Мне бы хотелось, чтобы Ты (и все Вы) не пугался «Двенадцати»; не потому, чтобы там не было чего-нибудь «соблазнительного» (может быть, и есть), а потому, что мы слишком давно знаем друг друга; а мне показалось, что Ты «испугался»».
Фото: © «Роза Азора»
В статье Григория Дашевского, написанной шесть лет назад (а кажется, что в другую историческую эпоху), о самом Блоке говорится едва ли не с большим ужасом, чем о событиях, послуживших для поэмы фоном или материалом. Заметка Дашевского тоже написана во времена событий: поздней весной 2012-го, на фоне разворачивающегося дела 6 мая, на сквозняке большой истории, еще не успевшей подстыть и примерзнуть. Счет, который он предъявляет Блоку, состоит из одного пункта: последовательная бесчеловечность, доведенная наконец до логического предела — до исчезновения из собственного текста. «За словами «Двенадцати», как за любыми словами, мы инстинктивно ищем того, кто говорит, или хотя бы то, что говорит,— и не находим. У нас не получается увидеть или вообразить то, чему Блок в этих стихах медиумически предоставил свой голос, то, что вместе с ветром и морозом насмехается над старушкой, буржуем, барыней в каракуле, писателем-витией, товарищем попом, над «человеком», который «на ногах не стоит», над «всяким ходоком», который «скользит — ах, бедняжка!», то, что вместе с вьюгой «долгим смехом заливается в снегах» и вместе с двенадцатью идет «державным шагом»«.
Все так; но кому предъявлять претензии, если автор сам вычел себя из уравнения, умалился до небытия, отдал свой речевой аппарат тому, чего ждал и дождался? «Мы бы прокляли тебя, но ты только текст» — никакого Александра Александровича в «Двенадцати» не было отродясь. Зато потом на ледяном углу, оставленном поэмой, еще несколько лет озирался по сторонам человек, разучившийся писать стихи не на случай. Некоторое количество мадригалов и шуточных текстов, странных в своей сумрачной неповоротливости, он собирался собрать в книгу с безнадежным названием «Черный день».
****
Для того чтобы общественное мнение окончательно простило Блоку «Двенадцать», ему надо было выполнить два обязательных условия: отречься если не от собственной поэмы, то от того, что послужило для нее поводом, и умереть. Потом, правда, оказалось, что без первого можно обойтись. Расхожий миф о блоковском покаянии был подкреплен речью «О назначении поэта», которую сразу поняли как предсмертную.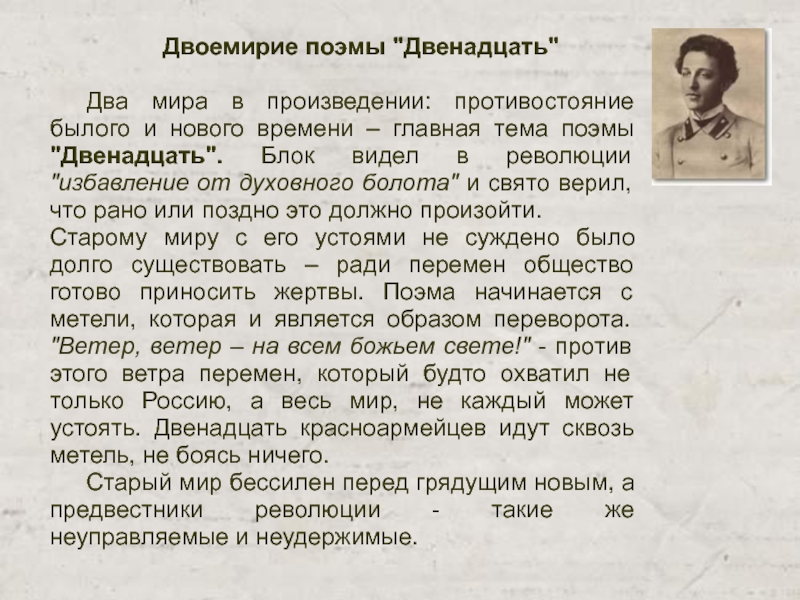 Такой она и была. Но усталость и отчаянье, с какими Блок смотрел на то, как крепнет новый, советский порядок, на «рабовладельца Ленина», новую чернь и новое чиновничество, не были ведь ни отказом от того, что стояло за «Двенадцатью», ни отречением от стихии вольного разрушения: это революция изменила музыке, ввела насилие в берега, отказалась быть океаном.
Такой она и была. Но усталость и отчаянье, с какими Блок смотрел на то, как крепнет новый, советский порядок, на «рабовладельца Ленина», новую чернь и новое чиновничество, не были ведь ни отказом от того, что стояло за «Двенадцатью», ни отречением от стихии вольного разрушения: это революция изменила музыке, ввела насилие в берега, отказалась быть океаном.
Фото: © «Роза Азора»
Но это уже никого не занимало. То, что сейчас стало утомительной нормой эпохи соцсетей — невинная уверенность каждого, что ему необходимо неукоснительно и незамедлительно высказаться по любому вопросу,— в те годы торжествовало на газетных страницах. Критики, страстно обвинявшие поэта в кощунстве, богохульстве, продажности и лиризме, над гробом перекинулись добрыми молодцами: оказалось, что покойник был ни в чем не виноват и может еще пригодиться для общего дела. «История докажет,— что умерший от цинги раб Божий Александр не мог принадлежать к позорной камарилье III Интернационала.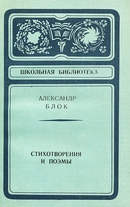 <…> Блок был жертвой среди миллионов других русских жертв, и его нищенская смерть должна положить конец всем кривотолкам, ибо эта смерть говорит ясно: Блок был честный человек!» Промолчать, не высказаться, удержаться не смог, кажется, никто или почти никто — и те, кто еще недавно требовали бойкота, теперь называли мертвого человека соловьем и даже пленительным менестрелем.
<…> Блок был жертвой среди миллионов других русских жертв, и его нищенская смерть должна положить конец всем кривотолкам, ибо эта смерть говорит ясно: Блок был честный человек!» Промолчать, не высказаться, удержаться не смог, кажется, никто или почти никто — и те, кто еще недавно требовали бойкота, теперь называли мертвого человека соловьем и даже пленительным менестрелем.
Иллюстрации Александра Лабаса (из серии рисунков по мотивам поэмы «Двенадцать»)
Weekend благодарит галерею «Роза Азора» и Ольгу Бескину-Лабас за предоставленные работы Александра Лабаса
после выхода «Двенадцати»
«Говорят, Блок болен от страха, что к нему в кабинет вселят красногвардейцев. Жаль, если не вселят. Ему бы следовало их целых двенадцать!» Зинаида Гиппиус, 1919 из дневников
«Необычайное явление — Блок, тихий поэт «лиры», пишет громкую, кричащую и гудящую поэму «Двенадцать», в которой учится у Маяковского. Это трагично, это почти вызывает слезы» Борис Эйхенбаум, 1918 из статьи «Трубный глас»
«Увлекшись Катькой, Блок совсем забыл свой первоначальный замысел «пальнуть в Святую Русь» и «пальнул» в Катьку, так что история с ней, с Ванькой, с лихачами оказалась главным содержанием «Двенадцати». Блок опомнился только под конец своей «поэмы» и, чтобы поправиться, понес что попало» Иван Бунин, 1918 из книги «Окаянные дни»
Блок опомнился только под конец своей «поэмы» и, чтобы поправиться, понес что попало» Иван Бунин, 1918 из книги «Окаянные дни»
«Блоку бы следовало написать теперь анти-«Двенадцать». Ведь он, слава Богу, созрел для этого. А так многие все еще не могут простить ему его «Двенадцать». И я их понимаю. Конечно — гениально. Спору нет. Но тем хуже, что гениально. Соблазн малым сим. Дьявольский соблазн. Пора бы ему реабилитироваться, смыть со своей совести это пусть гениальное, но кровавое пятно» Николай Гумилев, 1919 из книги Ирины Одоевцевой «На берегах Невы»
«Христос прямо говорит о большевистских симпатиях автора» Владимир Короленко, 1918 из газеты «Знамя труда»
«В чем же «дело»? Для Блока в безграничной ненависти к «старому миру», к тому положительному и покойному, что несли с собою барыня в каракуле и писатель- вития. Ради этой ненависти, ради новой бури, как последнюю надежду на обновление, принял он «страшное» и осветил его именем Христа» Вильгельм Зоргенфрей, 1922 из статьи «Александр Блок»
«Среди неожиданностей нашей революции есть не только трагические, но и вызывающие улыбку, хотя бы и горькую. Таково, например, скоропостижное обращение в большевистскую веру иных поэтов — Александра Блока, Андрея Белого» Юлий Айхенвальд, 1918 из статьи «Псевдореволюция»
Таково, например, скоропостижное обращение в большевистскую веру иных поэтов — Александра Блока, Андрея Белого» Юлий Айхенвальд, 1918 из статьи «Псевдореволюция»
«Блок в своем преклонении перед властью при изменившихся обстоятельствах готов будет воспевать и ус Вильгельма» Вадим Шершеневич, 1918 из газеты «Раннее утро»
«Довольно циничной гармошки, на которой Ал. Блок похабно ухает свои «Двенадцать», услаждая слух нового хозяина жизни» Анонимный автор, 1918 из журнала «Книжный угол»
«В понедельник, 13 мая общество «Арзамас» объявило «Вечер петроградских поэтов», в числе участников которого значусь и я. Вынужден заявить, что согласия на помещение моего имени я не давал и выступать на вечере с такою программою и с Рюриком Ивневым и Александром Блоком не считаю возможным» Владимир Пяст, 1918 из открытого письма в газету «Дело народа»
после смерти Блока
«Есть ли из нас один, самый зрячий, самый непримиримый, кто не знает за собой, в петербургском плену, хоть тени компромисса, просьбы за кого-нибудь Горькому, что ли, кто не едал корки соломенной из вражьих рук? Я — знаю. И вкус этой корки — пайка проклятого — знаю. И хруст денег советских, полученных за ненужные переводы никому не нужных романов, — тоже знаю. А вот Блок, в последние годы свои, уже отрекся от всего» Зинаида Гиппиус, 1922 из статьи «Мой лунный друг»
И вкус этой корки — пайка проклятого — знаю. И хруст денег советских, полученных за ненужные переводы никому не нужных романов, — тоже знаю. А вот Блок, в последние годы свои, уже отрекся от всего» Зинаида Гиппиус, 1922 из статьи «Мой лунный друг»
«Соловьи всегда правы. Кто поет, тот прав. А Блок, наш пленительный менестрель,— поет. И пусть рассуждения его неубедительны; зато песни его неотразимы» Юлий Айхенвальд, 1922 из книги «Поэты и поэтессы»
«Как должно быть сейчас стыдно тем, кто по поводу «Двенадцати» вопили, что Блок «продался большевикам», Блок, который умер от цинги, умер от голодухи, умер от советского режима. Мы можем сказать прямо: убийца Александра Александровича Блока — Владимир Ильич Ленин» Юрий Никольский, 1921 из газеты «Общее дело»
«Со злобой предвидишь, что большевики устроят ряд демонстраций у свежей могилы Ал. Блока. «Он был наш!» — будут уверять большевики, ссылаясь на отдельные строфы в поэмах «Двенадцать» и «Скифы». Нет, он не был ваш. Он был умучен вами — четко и ясно свидетельствует каждая строфа последних, посмертных стихов поэта» Илья Василевский (Не-Буква), 1921 из газеты «Последние новости»
«Следует все-таки сказать, что между большевизмом стихов Блока и большевизмом декретов Ленина, Троцкого и Дзержинского было столько же общего, сколько общего есть между созвездием Пса и псом лающим» Соломон Поляков-Литовцев, 1921 из газеты «Голос России»
«Блока некоторые ошибочно считают большевиком, но кто его хоть немного знал, тот, конечно, понял, что Блок носил в себе богатейшую сокровищницу мыслей и видений, он перерос и большевизм, и многое другое» Виктор Третьяков, 1921 из газеты «Сегодня»
«»Двенадцать» — не пролог революции и не эпилог ее, не заповедь бунта и не анафема ему, а резкая до крика картина той безумной поры, когда — «пулей палили в Святую Русь»» Иван Савин, 1924 из статьи «Александр Блок. Литературный силуэт»
Литературный силуэт»
«Никогда он не ставил знака равенства между революцией и большевизмом. В том и была его трагедия, что этот знак был поставлен действительностью — вопреки его чаяниям. Трагедия развивалась именно по мере того, как большевизм овладевал революцией — ронял и осквернял ее» Владислав Ходасевич, 1931 из статьи «Ни сны, ни явь»
Спустя 100 лет после выхода поэмы не найдена разгадка последней строфы — Российская газета
В белом венчике из роз — Впереди — Исус Христос.
В белом венчике из роз — Впереди — Исус Христос.
После смерти Блока, оборачивая на него фразу, сказанную им о Пушкине, — погиб не от пули Дантеса, а от «отсутствия воздуха», — говорят: Блок задохнулся от Советской власти.
Из его текстов это не следует.
Хотя даже близкие, искренне сочувствующие ему старые друзья испытывали удивление, испуг и даже полное неприятие неожиданной, выпадающей из своего круга позиции поэта. Не раз Блок слышал от них предостережения — и осуждение своему «левому повороту». Правда, поэма «успела пробить брешь в широкую толпу, ту толпу, которая никогда раньше Блока не читала, — писал Юрий Анненков. — Поэму «Двенадцать» эта толпа опознала по слуху, как родственную ей по своей словесной конструкции, словесной фонетике, которую вряд ли можно было тогда назвать «книжной» и которая скорее приближалась к частушечной форме».
Правда, поэма «успела пробить брешь в широкую толпу, ту толпу, которая никогда раньше Блока не читала, — писал Юрий Анненков. — Поэму «Двенадцать» эта толпа опознала по слуху, как родственную ей по своей словесной конструкции, словесной фонетике, которую вряд ли можно было тогда назвать «книжной» и которая скорее приближалась к частушечной форме».
Но как бы в ответ Анненкову звучит голос той толпы — и самого Блока — из уст известного литературного критика Корнелия Зелинского, а тогда — двадцатилетнего юнца, одержимого левыми идеями:
«Ранней осенью 1918 года я встретил на Невском проспекте Александра Блока. Поэт стоял перед витриной продовольственного магазина, за стеклами которой висели две бумажные полосы. На них были ярко оттиснуты слова: на одной — «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем», а на другой — «Революцьонный держите шаг! неугомонный не дремлет враг!» Под каждой из этих строк стояла подпись: «Александр Блок». Поэт смотрел на эти слова, словно не узнавая их, круглыми спокойно-тревожными глазами.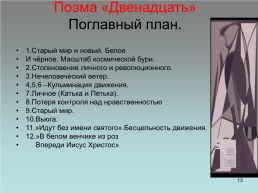 ..
..
— Признаюсь, для нас радость и неожиданность, что и вы вошли в нашу борьбу, — по-мальчишески самоуверенно продолжал я, показывая на плакаты за витриной.
— Да, — смутился Блок, — но в поэме эти слова произносят или думают красногвардейцы. Эти призывы не прямо же от моего имени написаны, — и поэт будто с укоризной посмотрел на меня».
Загадочную концовку поэмы современники пародировали на все лады: «В белом венчике из роз впереди Абрам Эфрос», «в белом венчике из роз Луначарский-Наркомпрос». Но и это тоже — на языке красногвардейцев. А языку и душе Блока в непредсказуемом междоусобии понадобился Иисус Христос. Только ведь он понадобился и власти, чтобы окончательно не развалилась страна. И Блок вошел в советские школьные учебники как поэт революции.
Верование неотменимо, как неизбежно движение вперед. Но мы и через сто лет гадаем, что нас ждет. И кто должен идти впереди.
«Двенадцать» Блока: жанр поэмы — Блок А.А.
Поэма Блока «Двенадцать», жанр которой мы рассмотрим, очень сложна по своей художественной архитектонике. Она полифонична, многоголоса, в ней нет традиционного для поэмы образа лирического героя, прямо выраженного авторского «я». Редуцирован и сюжет, характерный для поэмного жанра, его роль в создании композиционного единства произведения явно понижена. Единство композиции формируется иными художественными средствами: рифмовкой широких образов-символов, переходом от полифонии и ритмической несобранности первых глав, призванных воспроизвести хаос как общее состояние мира, пережившего революцию, к ритмической стройности и «державности» последней главы.
Она полифонична, многоголоса, в ней нет традиционного для поэмы образа лирического героя, прямо выраженного авторского «я». Редуцирован и сюжет, характерный для поэмного жанра, его роль в создании композиционного единства произведения явно понижена. Единство композиции формируется иными художественными средствами: рифмовкой широких образов-символов, переходом от полифонии и ритмической несобранности первых глав, призванных воспроизвести хаос как общее состояние мира, пережившего революцию, к ритмической стройности и «державности» последней главы.
В связи с этим особую сложность и значение приобретают вопросы о жанре и композиции поэмы «Двенадцать». Ее жанровое своеобразие представляет значительную литературоведческую проблему. Возможен традиционный взгляд, определяющий произведение «Двенадцать» Блока как поэму, т.е. произведение лироэпического рода литературы, содержащее стройное повествование о последовательно развивающихся событиях, которые и положены в основу ее сюжета. В таком случае эти события объясняются лирическими средствами, оказываются пропущены сквозь призму сознания лирического героя, чей внутренний мир, чье восприятие этих событий также является значимым предметом изображения в поэме, жанровая природа которой определяется ее положением между двумя родами литературы: лирикой и эпосом. Явлениями эпического плана оказываются сюжет, более или менее разветвленная система персонажей, полифония, т.е. представлен не только голос лирического героя, но и голоса других персонажей поэмы — прохожих на улице, где в нестройный хор сливаются реплики попа, писателя-витии, проституток, красноармейцев. Сюжетом поэмы становится движение красноармейского патруля по улицам ночного Петрограда, кульминацией сюжета — случайное убийство в уличной стычке Катьки, любовницы Петрухи, и его переживания, вызванные этим событием.
Явлениями эпического плана оказываются сюжет, более или менее разветвленная система персонажей, полифония, т.е. представлен не только голос лирического героя, но и голоса других персонажей поэмы — прохожих на улице, где в нестройный хор сливаются реплики попа, писателя-витии, проституток, красноармейцев. Сюжетом поэмы становится движение красноармейского патруля по улицам ночного Петрограда, кульминацией сюжета — случайное убийство в уличной стычке Катьки, любовницы Петрухи, и его переживания, вызванные этим событием.
Но если посмотреть на произведение Блока «Двенадцать» с точки зрения традиционного поэмного жанра, то мы увидим явные отступления от жанровой традиции. Внешний событийный ряд практически не имеет развития, убийство выглядит совершенно случайным, оказывается никак не мотивированным, практически не влияет на дальнейшее развитие событий: отряд продолжает патрулировать ночной город. Образ лирического героя не выражен явно, его восприятие событий не формирует композиционный центр произведения. Такое отступление от жанровой традиции заставляет некоторых исследователей трактовать «Двенадцать» не как поэму, построенную на связанном, последовательном повествовании о неких событиях, а как ряд отдельных эпизодов, соединенных посредством монтажа, т.е. поэтический цикл. Вспомним, что именно цикл, а не отдельное стихотворение, имел для поэзии Блока смыслообразующее и смыслопорождающее значение.
Такое отступление от жанровой традиции заставляет некоторых исследователей трактовать «Двенадцать» не как поэму, построенную на связанном, последовательном повествовании о неких событиях, а как ряд отдельных эпизодов, соединенных посредством монтажа, т.е. поэтический цикл. Вспомним, что именно цикл, а не отдельное стихотворение, имел для поэзии Блока смыслообразующее и смыслопорождающее значение.
В современном литературоведении не сложилось единой, общей точки зрения на то, как в жанровой системе лироэпики XX века соотносятся поэма и стихотворный цикл. Ясно лишь, что эти явления предстают как смежные и соотносимые по своей жанровой природе.
Современный исследователь поэзии Е. Эткинд предложил рассматривать «Двенадцать» как своеобразный поэтический цикл, полагая, что двенадцать глав-эпизодов, составляющих поэму, являются до известной степени самостоятельными. Композиционное единство этого цикла формируется образной и тематической соотнесенностью стихотворений—глав, его составляющих.
Источник: Голубков М.М. Русская литература ХХ в.: Учебное пособие для абитуриентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2003
Книга «Стихотворения. Поэмы» Блок А А
Стихотворения. Поэмы
Огромная сила дарования Александра Блока (1880—1921), лиризм и проникновенность его поэзии, раздумья о судьбе России трагично и неразрывно слились с его личной судьбой — короткой, драматичной, яркой. В книгу вошли избранные стихотворения из трех стихотворных книг поэта, поэмы «Возмездие», «Соловьиный сад», «Двенадцать», «Скифы».
Поделись с друзьями:- Издательство:
- Э
- Год издания:
- 2016
- Место издания:
- Москва
- Язык текста:
- русский
- Тип обложки:
- Твердый переплет+суперобложка
- Формат:
- 84х108 1/32
- Размеры в мм (ДхШхВ):
- 200×130
- Вес:
-
580 гр.

- Страниц:
- 640
- Тираж:
- 2000 экз.
- Код товара:
- 856160
- Артикул:
- ITD000000000825291
- ISBN:
- 978-5-699-91253-7
- В продаже с:
-
19.
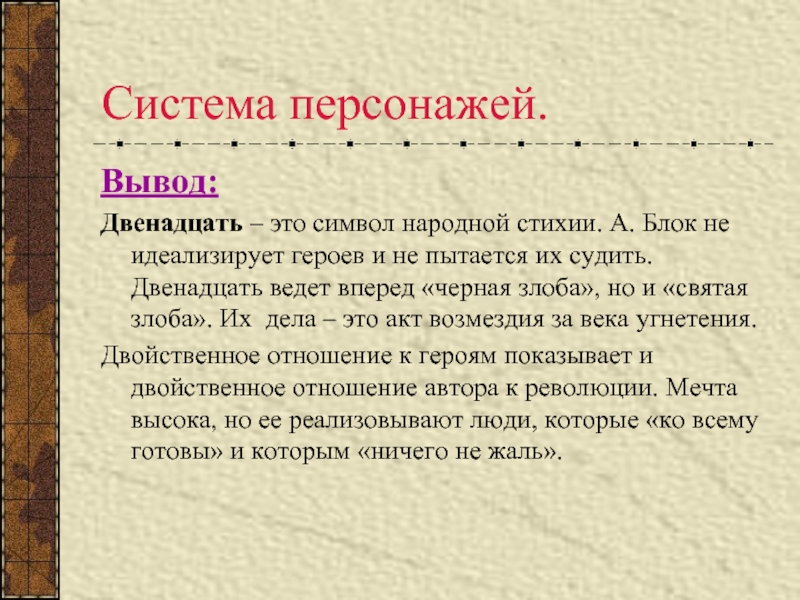 08.2016
08.2016
Огромная сила дарования Александра Блока (1880—1921), лиризм и проникновенность его поэзии, раздумья о судьбе России трагично и неразрывно слились с его личной судьбой — короткой, драматичной, яркой.
В книгу вошли избранные стихотворения из трех стихотворных книг поэта, поэмы «Возмездие», «Соловьиный сад», «Двенадцать», «Скифы». Читать дальше…
Пять способов преодолеть писательский кризис – Poetry4kids.com Кенна Несбитта
«Писательский тупик» — это выражение, описывающее то, что вы чувствуете, когда кажется, что вы не можете писать. Может быть, вы работаете над определенным стихотворением, а потом начинаете чувствовать, что застряли, не зная, как его закончить. Или, может быть, вы садитесь писать и совершенно не можете придумать, о чем писать. В любом случае, авторский блок может быть довольно обескураживающим.
Может быть, вы работаете над определенным стихотворением, а потом начинаете чувствовать, что застряли, не зная, как его закончить. Или, может быть, вы садитесь писать и совершенно не можете придумать, о чем писать. В любом случае, авторский блок может быть довольно обескураживающим.
Хорошая новость заключается в том, что есть множество простых способов вырваться из писательского ступора и снова начать писать.В следующий раз, когда вы почувствуете себя заблокированным, попробуйте один из этих советов:
1. Получить Гуфи
Писательский кризис может заставить вас чувствовать себя очень серьезно, поэтому один из способов вырваться на свободу — это вести себя глупо. Попробуйте написать самое ужасное, нелепое стихотворение в мире. Напишите стихотворение, жалуясь на то, что вы не можете написать стихотворение прямо сейчас из-за всех ваших ужасных проблем. Или напишите свое стихотворение с точки зрения вашей собаки, или вашего обеда, или комочков пыли под вашей кроватью.
2. Составьте список
Иногда полезно на время забыть о написании стихов.Вместо этого просто перечислите все, что вы хотите, чтобы кто-то знал о том, каким будет ваше стихотворение после того, как вы его напишете. Или, если вам не нравится составлять списки, просто начните писать или печатать слова «Это стихотворение будет о…», а затем закончите предложение. Постарайтесь продолжать писать без остановки хотя бы пять минут. Когда вы закончите, у вас будет много идей о том, как закончить стихотворение.
3. Попробуйте что-нибудь другое
Возможно, вам нужно какое-то время писать совершенно по-другому.Вместо того, чтобы писать вольный стих, попробуйте свои силы в рифмовке куплетов. Или вместо того, чтобы сидеть за столом и писать, встаньте. Если вы действительно застряли, встаньте на одну ногу или для разнообразия пишите другой рукой. Или выйдите за пределы своего обычного рабочего места и посидите в парке, на пассажирском сиденье автомобиля, в книжном магазине или библиотеке.
4. Отправляйтесь на прогулку
Физическая активность действительно помогает вырваться из писательской рутины и перезагрузить мозг. Так же как и смена обстановки! Вы можете отправиться на прогулку по своему району, или покататься на велосипеде, или попрыгать на батуте, или даже сделать перерыв на танцы — все, что угодно, чтобы ваше тело двигалось и отвлекло ваш мозг.Вы можете вернуться к своему письму через несколько минут или даже через день, и у вас появятся свежие идеи.
5. Будьте читателем вместо этого
Иногда можно снять напряжение и одновременно вдохновить себя. Как? Подбирая работу другого писателя и наслаждаясь ею. Это даже не обязательно поэзия. Вы можете прочитать короткий рассказ, графический роман или любой другой текст, который напомнит вашему мозгу, на что способен хороший писатель. Чтение может быть отличной разминкой в любое время, когда вы хотите написать стихотворение, или это может быть перерывом от письма, когда ваш разум застрял.
Нужно больше идей для преодоления писательского ступора?
На сайте StudyCorgi.com есть отличная статья/инфографика под названием «Преодоление писательского блока: 11 отличных советов» с еще большим количеством предложений о том, как преодолеть писательский блок.
Независимо от того, что вы решите попробовать для своего писательского блока, имейте в виду, что лучший способ выйти из тупика — это сделать что-то другое. Начните где угодно! Даже очень небольшое изменение может очень помочь, и вы снова будете писать стихи в кратчайшие сроки.
Получил писательский блок? Прочтите это стихотворение ‹ Literary Hub
«Возможно, один из источников недомогания — это то, что я не пишу», — жаловался Филип Ларкин в письме 1971 года. «Я очень чувствую, что мои двадцать или около того стихов не очень хороши, и мне нужны хорошие, все из Свадьбы Троицы стоя, чтобы подбодрить их, только я никак не могу сочинить их как-нибудь». Эдгар Аллан По — согласно дневнику Марии Луизы Шоу — изо всех сил пытался написать «Колокола» в 1847 году и сказал ей: «Мария-Луиза, я должен написать стихотворение; У меня нет чувства, нет настроения, нет вдохновения. Рита Дав говорила о том, как люди предполагают, что, поскольку мы все используем язык — мы «разговариваем каждый день», — поэты должны иметь возможность просто сесть и писать. «Но это другое использование языка; именно звуки языка, способ что-то сказать составляют для меня стихотворение. Нет ничего нового под солнцем, но это то, как вы видите это».
Рита Дав говорила о том, как люди предполагают, что, поскольку мы все используем язык — мы «разговариваем каждый день», — поэты должны иметь возможность просто сесть и писать. «Но это другое использование языка; именно звуки языка, способ что-то сказать составляют для меня стихотворение. Нет ничего нового под солнцем, но это то, как вы видите это».
Все писатели подвержены писательскому кризису, но, возможно, не более остро, чем поэты. Поэты жалуются на периоды засухи, когда ничего не получается; когда стих кажется невозможным, забытым языком.Мэри Рюфл сказала, что писательская борьба требует «терпения и веры», и что писателям нужно признать, что иногда мы «тратим время впустую». Не самая легкая вещь, чтобы принять, я знаю. Но я рекомендую поэтам и писателям прочесть стихотворение 1889 года для неожиданного вдохновения.
Джерард Мэнли Хопкинс написал «Р.Б.» 22 апреля 1889 года. В тот день священник-иезуит закончил рисунок местного ручья из «владений лорда Мэсси» в Дублине.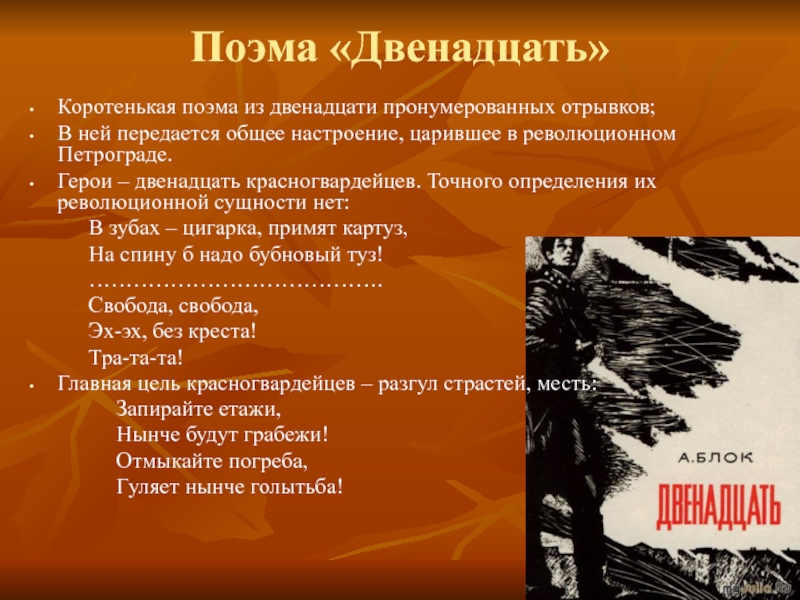 Это было на следующий день после пасхального воскресенья, и он чувствовал себя плохо.Он хранил стихотворение в течение недели, а затем отправил его по почте Р. Б., упомянутому в заголовке: Роберту Бриджесу, его давнему другу. Они познакомились в 1863 году в Оксфорде и начали писать друг другу письма в 1865 году. Несмотря на несколько пауз, их переписка продолжалась более 20 лет. Бриджес, впоследствии ставший британским поэтом-лауреатом, позже собрал и опубликовал стихи Хопкинса в 1918 году. Два близких друга часто расходились во мнениях по поводу католицизма и поэзии, и, несмотря на прохладное предисловие Бриджеса к сборнику стихов Хопкинса, он заслуживает похвалы за публикацию новаторского произведения Хопкинса. необходимая работа.
Это было на следующий день после пасхального воскресенья, и он чувствовал себя плохо.Он хранил стихотворение в течение недели, а затем отправил его по почте Р. Б., упомянутому в заголовке: Роберту Бриджесу, его давнему другу. Они познакомились в 1863 году в Оксфорде и начали писать друг другу письма в 1865 году. Несмотря на несколько пауз, их переписка продолжалась более 20 лет. Бриджес, впоследствии ставший британским поэтом-лауреатом, позже собрал и опубликовал стихи Хопкинса в 1918 году. Два близких друга часто расходились во мнениях по поводу католицизма и поэзии, и, несмотря на прохладное предисловие Бриджеса к сборнику стихов Хопкинса, он заслуживает похвалы за публикацию новаторского произведения Хопкинса. необходимая работа.
В своих письмах к Бриджесу Хопкинс игрив, резок и горд. После того, как Бриджес дал несколько критических советов по поводу своего стихотворения «Крушение Германии», Хопкинс сказал, что его «стих нужно не столько читать, сколько слушать», и советует Бриджесу изучить его объяснения пружинящего ритма. «Я не пишу для публики, — сказал Хопкинс Бриджесу. «Вы моя публика, и я надеюсь обратить вас». «Конвертировать» для Хопкинса имело множество значений, но для Хопкинса все дороги вели к поэзии.
«Я не пишу для публики, — сказал Хопкинс Бриджесу. «Вы моя публика, и я надеюсь обратить вас». «Конвертировать» для Хопкинса имело множество значений, но для Хопкинса все дороги вели к поэзии.
«Сегодня я болен, но это неважно, настроение у меня хорошее», — начал Гопкинс свое письмо другу от 29 апреля.«Кажется, я прилагаю новый сонет. . . Это письмо адресовано вам». Его первая фраза — «Прекрасное наслаждение, о котором думали отцы» — говорит о радости идеи, подразумевая, что известное чувство предшествует поэтической мысли.
Это мягкое прибытие становится немного более резким со следующими словами: «сильный / Шпора, живой и пронизывающий, как пламя духовой трубки». Его звуки перемещаются от f к s и l , к последнему звуку он вернется позже в стихотворении (мы могли бы задаться вопросом, мог ли Хопкинс, погруженный в ужасные задумчивости болезни, подумать об этом звуке из текущую реку, которую он нарисовал в тот же день).
«Вы моя публика, и я надеюсь обратить вас».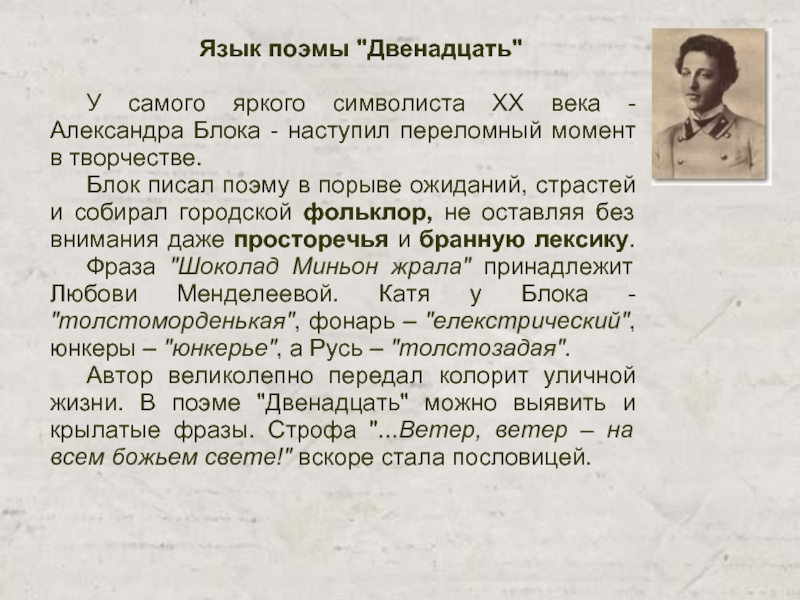 «Конвертировать» для Хопкинса имело множество значений, но для Хопкинса все дороги вели к поэзии.
«Конвертировать» для Хопкинса имело множество значений, но для Хопкинса все дороги вели к поэзии.Вдохновение, описанное в первых двух строках, предупреждает Хопкинс, «вдыхает один раз», но это дыхание «угасает быстрее, чем пришло». Писателям знакомо это чувство: прилив вдохновения, порыв, присущий даже одному предложению, фразе или даже слову творчества. Но потом оно уходит, и мы снова жаждем этого чувства. «Тогда ей девять месяцев, нет лет, девять лет» — так чувствуется отсутствие вдохновения.Хопкинс использовал метафоры рождения и язык в другом месте; годом ранее он сказал, что два стихотворения, «Гирлянда Тома» и «Гарри Пахарь», были «задуманы одновременно». Но это созревание слишком долгое, и теперь это просто «вдова озарения».
В вольте сонета Хопкинс предлагает свое желание: «Сладкий огонь, отец музы, это нужно моей душе; / Я хочу одного восторга вдохновения». Это язык пожара; жалкой жажды. Мы должны помнить, что эти строки не шепчутся в воздухе.Они призываются к своему другу.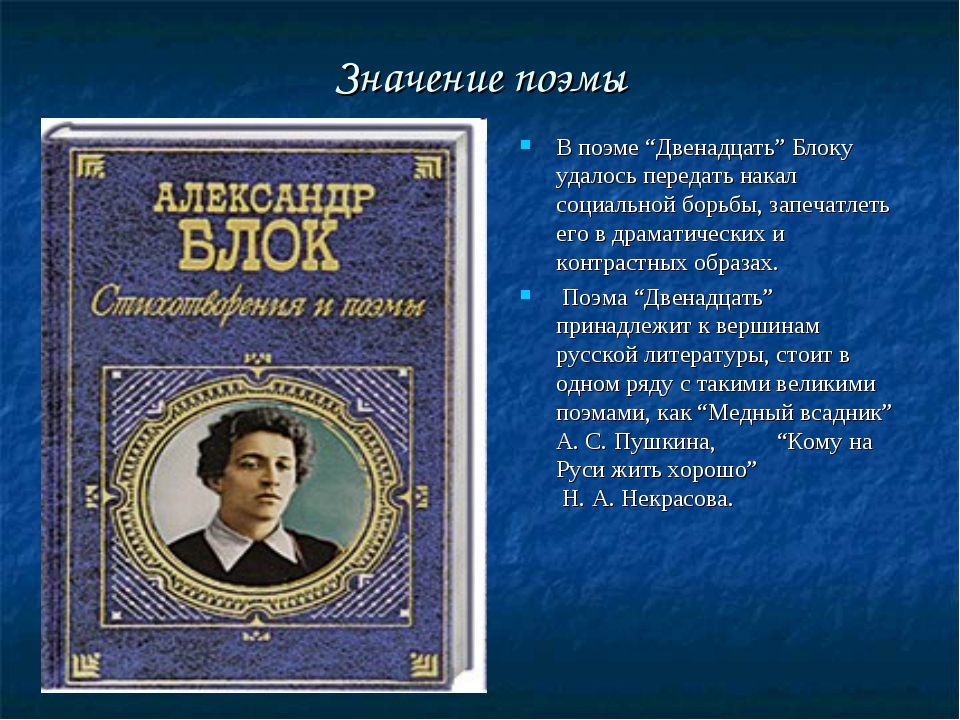 Хотя может быть трудно описать экстаз творения, у всех писателей есть язык для неудач. Затем Хопкинс строит четыре финальных линии с точным темпом:
Хотя может быть трудно описать экстаз творения, у всех писателей есть язык для неудач. Затем Хопкинс строит четыре финальных линии с точным темпом:
О, тогда, если в моих запаздывающих строках ты упустишь
Перекат, подъем, гимн, творение,
Мой зимний мир, что едва дышит этим блаженством
Теперь дает тебе, с некоторыми вздохами, наше объяснение.
Мы чувствуем вздохи в этих строках. Они осторожны и честны. «К Р.Б.” был написан, чтобы запечатлеть борьбу за написание стихотворения, но его мастерство и изящество предполагают, что Хопкинс, как бы он ни был болен, мог придумать трюк для своего друга. Это не мелочь; нет принудительного стиха. Хопкинс написал стихотворение, которое разрушает писательский блок сжатой силой, которую может дать только сонет.
В предисловии своего редактора к сборнику стихов Хопкинса Бриджес сказал, что у его друга было два недостатка: «их можно назвать Странностью и Неизвестностью; и так как первое может вызвать смех, когда писатель серьезен (а этот поэт всегда серьезен), а второе должно препятствовать тому, чтобы его поняли (а этому поэту всегда есть что сказать). Мост может показаться здесь придурком, но он обнажил свою собственную эстетику. Хопкинс принял его восторженную странность, признав, что «без сомнения, моя поэзия ошибается в сторону странности». Тем не менее, для Хопкинса эта странность была заряжена Святым Духом, и Бриджес, скептически относящийся к вере Хопкинса, никогда бы этого не понял. Бриджес проявлял свою любовь к Хопкинсу и другими способами. В конце своего предисловия он говорит: «Прискорбно, что Джерард Хопкинс умер, когда, судя по его последней работе, он начал концентрировать силу всех своих пышных экспериментов в ритме и дикции и бичевать свое искусство в более сдержанный стиль.Стихотворение, которое описывает Бриджес, скорее всего, «К Р.Б.»
Мост может показаться здесь придурком, но он обнажил свою собственную эстетику. Хопкинс принял его восторженную странность, признав, что «без сомнения, моя поэзия ошибается в сторону странности». Тем не менее, для Хопкинса эта странность была заряжена Святым Духом, и Бриджес, скептически относящийся к вере Хопкинса, никогда бы этого не понял. Бриджес проявлял свою любовь к Хопкинсу и другими способами. В конце своего предисловия он говорит: «Прискорбно, что Джерард Хопкинс умер, когда, судя по его последней работе, он начал концентрировать силу всех своих пышных экспериментов в ритме и дикции и бичевать свое искусство в более сдержанный стиль.Стихотворение, которое описывает Бриджес, скорее всего, «К Р.Б.»
«Р.Б.» было последним стихотворением, написанным Джерардом Мэнли Хопкинсом. Две недели спустя Хопкинс сильно заболел; он умер от брюшного тифа в начале июня. «Р.Б.» является одновременно жалобой и извинением за отсутствие у Хопкинса вдохновения и творчества, но сводится к ироническому заключению, что объяснение писательского ступора само по себе является стихотворением.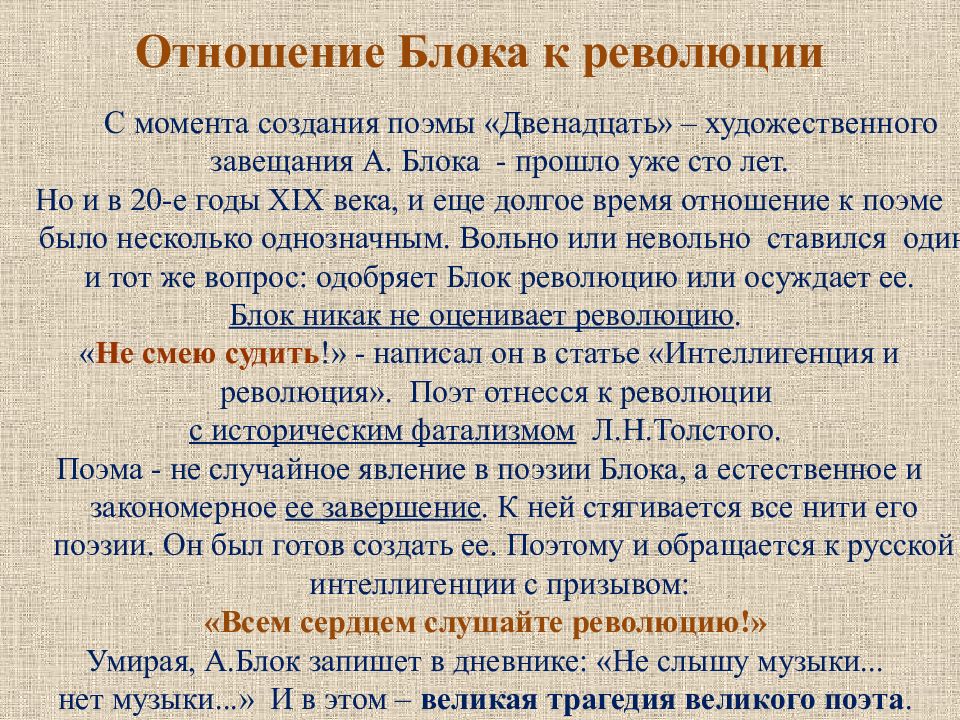 Современные поэты и писатели могли бы научиться у Хопкинса тому, что борьба за писательство сама по себе является формой творчества — урок, который может помочь всем нам продолжать идти вперед перед лицом неудач.
Современные поэты и писатели могли бы научиться у Хопкинса тому, что борьба за писательство сама по себе является формой творчества — урок, который может помочь всем нам продолжать идти вперед перед лицом неудач.
ветеранов движения за гражданские права
Ветераны движения за гражданские праваСтихи Маргарет Блок
Голосуй или умри
Если не голосуешь, не плачь
Справедливость и джайв (историческая поэма американского правосудия)
За моих молодых черных братьев
VOTE OR DIE
(Стихотворение, посвященное Закону об избирательных правах 1865-1965 гг.)
Голосуй или умри всегда будет моим боевым кличем.
Я плачу о давно ушедших рабах
Они жаждали не голосования, а свободы
И они плакали и пели эту грустную песню.
Проснулся сегодня утром с моим
Разум остался на свободе
Проснулся сегодня утром с моим
Разум остался на свободе
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя
Голосуй или умри.«Голосуй или умри» — боевой клич Мэри Энн Кэри.
«Голосуй или умри» всегда было боевым кличем Мэри Энн.
Голосуй или умри.«Голосуй или умри» — таков был боевой клич Аарона Генри
. Он рано вступил в бой.
Он был фармацевтом, а Кларксдейл, штат Миссисипи, был его домом,
Они посадили его в тюрьму и избили
И заставили его ездить на кузове мусоровоза.
Они пытались лишить его достоинства и
Он сказал им, что когда он получит голоса,
Мы все будем свободны.
Голосуй или умри!«Голосуй или умри» — таким был боевой клич Малкольма Икса
. Он недвусмысленно спросил LBJ, что будет
: бюллетень или пуля.
Голосуй или умри!«Голосуй или умри» — таков был боевой клич Хартмона Тернбоу
Он жил в городе Миссисипи в округе Холмс
Они продырявили его парадную дверь
И они подожгли его дом, потому что
Он сказал, что собирается голосовать осенью
Потому что свобода было его желание.
Голосуй или умри!«Голосуй или умри» — таков был боевой клич Дайанн Нэш
. Она боролась за права в Нэшвилле, штат Теннесси.
Она попала в тюрьму по всей стране
Она взяла за руку многих молодых людей
И сказала, что если вы проголосуете, это освободит нас.
Голосуй или умри!«Голосуй или умри» — таков был боевой клич преподобного Дж. Д. Стори.
В 1962 году он занял очень смелую позицию
И дал понять миру, что он не трус
А богобоязненный человек
Он сказал, что «двери церкви (sic) открыты»
И он показал не бойся, потому что
Голос ему был решающим и дорогим.
Голосуй или умри!«Голосуй или умри» — таков был боевой клич Ларри Рубина.
Он приехал в Миссисипи, потому что видел сон
Но его заперли в Холли-Спрингс.
Когда он пошел в суд, он занял позицию
И сказал судье, если вы можете голосовать, то почему не каждый мужчина.
Голосуй или умри!«Голосуй или умри» — таков был боевой клич Сэма Блока
.Когда он отправился в Гринвуд, его избили и бросили в тюрьму.
Его адвокату сказали, что залога не будет.
Он остался в тюрьме и стоял на своем
И он перевернул Гринвуда с ног на голову.
Голосуй или умри!«Голосуй или умри» — таков был боевой клич Джимми Трэвиса.
В Гринвуде ему выстрелили в голову.
Клан думал, что он мертв.
Они были удивлены, что он выжил, а когда проснулся
Он сказал очень громко
Моя голова в крови, но не склонена
Голосуй или умри!«Голосуй или умри» был боевой клич Арнелла Пондера
Они чуть не убили ее в тюрьме Вайнона
Она сказала Ювестеру высоко держать голову
Потому что, когда они выберутся
Она проголосует или умрет.«Голосуй или умри» — таков был боевой клич миссис Фанни Лу Хамер.
Они оказали ей услугу, когда ее выгнали с земли.
Она отправилась в Рулевиль и заняла свою позицию.
Она сказала миру с силой и гордостью
Что ей надоело быть больной и усталой
Ее избили в тюрьме Вайнона
Когда она вышла, она была сильной, но доброй
И она всегда будет петь этот маленький огонек мой.Этот мой маленький огонек
Я позволю ему сиять
Этот мой маленький огонек
Я позволю ему сиять, пусть он сияет, пусть он сияет, пусть он светить.
Голосуй или умри!
Copyright © Маргарет Блок, все права защищены.
ЕСЛИ НЕ ГОЛОСУЕТЕ, НЕ ПЛАЧЬТЕ
Если вы не голосуете, не плачьте
Мы говорили вам раньше голосовать или умереть.Когда дела пойдут совсем плохо, и тебе придется идти пешком
Потому что ты не можешь купить бензин и твоя прогулка больше не такая элегантная и бодрая,
Ну, иди, брат, потому что, если ты не проголосуешь, не плачь.Когда заходишь в магазин, а цены подскочили до небес,
И ты ходишь, ругаешься и жалуешься, и говоришь всем
, что эти цены чертовски высоки
И ты не знаешь, что ты Собираюсь купить,
Ну, если не голосуешь, не плачь.Если вы оказались между молотом и наковальней
И вы не можете платить по ипотечному кредиту, и вам приходится сокращаться до небольшого помещения
И вы чувствуете отвращение и опозоренность и не можете сдержать слезу на глазах,
Ну, если не голосуешь, не плачь.Если вас уволили с работы и вам уже было тяжело
И вы знаете, что они отправили вашу работу в другую страну
И все, что вы можете сделать, это развести руки и спросить Бога, почему?
Ну, если не голосуешь, не плачь.Если вы серьезно заболели и не можете пойти к врачу, потому что не можете оплатить счет
Не говоря уже о покупке этих дорогих таблеток,
И вы чувствуете, что умрете,
Ну, если вы не голосуй, не плачь.Если ты пошла в школу и выполнила все правила
Но ты не можешь получить стипендию или студенческий кредит и должна собрать чемоданы и вернуться домой
И ты вся злая и расстроенная и скажешь маме, что мир просто проходит мимо тебя,
Ну, если не голосуешь, не плачь.Если вы потеряете продовольственные талоны и восьмой раздел
И вы позвоните своему работнику, чтобы все разъяснить
И она скажет вам, что Джон Маккейн урезал ваши льготы и не сказал, почему
И вы тяжело вздохнули,
Что ж, если вы не голосуй, не плачь.
Мы уже сказали вам голосовать или умереть.
Copyright © Маргарет Блок, все права защищены.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ДЖАЙВ
(Историческая поэма американского правосудия)
Справедливости не было в планах Америки, когда они забрали индейца Земля нации,
Как арапахо, апачи, чероки, чокто, навахо и многое другое.
Был ли это справедливый план, когда вы сослали их в отдаленную страну
И заразили их оспой и крапивницей, вы просто знали, что они не выжил бы
Эти несправедливости никогда не могут быть оправданы,
Вы называете это Справедливостью, но это просто другое слово для Джайва.Где была Справедливость, когда рабство было в изобилии,
Возможно, она помогала Старому Хозяину держать Свободу носом к земле.
Они забрали его детей, его культуру, его язык и его личность
, но они не смогли отнять его достоинство.
Мадам Джастис, вам не скрыться, мы обвиняем вас в геноциде.
Вы называете это Справедливостью, но это просто другое слово для Джайва.Справедливости не было рядом, когда пошли все линчевания.
Клан повесил нас и не пытался скрыть
Потому что они знали, что Правосудие не на нашей стороне,
Когда Билли Холлидей пела «Странный фрукт», она пела о мертвых тела, свисающие с тополя.
Она могла петь о тебе или обо мне.
Она знала, что правосудие никогда не восторжествует,
Вы называете это правосудием, но Билли называла это Джайвом.Правосудие идет со знаком доллара, хотя правосудие должно быть слепым.
Я не могу купить Справедливость и оплатить аренду. Я получаю минимальную заработную плату без каких-либо льгот.
Мне кажется, Справедливость только для богатых.
Если у вас нет денег, в правосудии будет отказано.
Вы называете это Справедливостью, но это просто другое слово для Джайва.Если Джастис действительно дальтоник, то почему так много черных и коричневых братьев отбывает срок?
Вы запираете их на каких-то доморощенных фактах, но это всегда было вашим планом нападения.
Лэнгстон Хьюз однажды сказал, что правосудие — это слепая богиня, которой мы, черные, мудры,
Ее повязка прикрывает две гноящиеся язвы, которые когда-то, возможно, были глазами.
Вы называете это Справедливостью, но Лэнгстон назвал это Джайвом.Мадам Джастис, должно быть, очень устала.
Она разрешает копам делать черные профили,
они наблюдают за нами и останавливают без уважительной причины.
Мы чувствуем себя сидящими утками в сезон охоты.
Правосудие пора встать на нашу сторону.
Вы называете это Справедливостью, но это просто другое слово для Джайва.Господин президент, если правосудие действительно не пострадало, то зачем вы создали Патриотический акт?
Ваша национальная безопасность — это скрытая несправедливость
но мистер Буш, в отличие от Джастиса, мы не слепы. У всех нас есть глаза.
Вы называете это правосудием, но это просто другое слово для Джайва.Теперь, миссис Буш, Джастис должен был быть глухим, немым и слепым
, когда вы помогли создать «Ни одного отстающего ребенка».
Вы готовите детей к большому падению.
Миссис Буш, несправедливость к одному — несправедливость ко всем.
Справедливость должна быть на стороне детей.
Вы называете это Справедливостью, но даже дети знают, что это Джайв.Где была Джастис, когда упала Катрина?
Возможно, она пряталась с директором FEMA, этим некомпетентным Майклом Брауном.
Люди в Superdome вознесли молитву в надежде, что FEMA
скоро будет там, но Бушу и Брауну было все равно.
Они хотели, чтобы все они просто уплыли, пока они замышляли, а
солгали и создали непростительную задержку, но кто-то однажды сказал, что
Задержка правосудия означает отказ в правосудии.Вы называете это Справедливостью, но мы все можем узнать Джайв.
Copyright © Маргарет Блок, все права защищены.
ДЛЯ МОИХ МОЛОДЫХ ЧЕРНЫХ БРАТЬЕВ
Ты будешь выдающимся чернокожим
Если у тебя есть цели, мечты и генеральный план.Оставайтесь в школе и не сбивайтесь с пути
Вы можете стать доктором Монтреллом Грином
и однажды стать суперинтендантом.
Он человек, у которого были цели, мечты и генеральный план.
А теперь он выдающийся Черный человек.Не продавайте наркотики и не общайтесь с головорезами.
Единственным способом получить хорошее образование.
Не все вы бандиты, как изображают СМИ.
Ты молод, одарён, красив и Черный.
Ты отличник, но об этом никогда не скажут.
У тебя есть цели, мечты и генеральный план.
И ты станешь выдающимся чернокожим.Не презирайте женщин и не называйте их «Б» и «В»,
Уважайте всех женщин, особенно свою мать;
Она богобоязненная женщина, у которой всегда был план.
Благодаря ей ты такой выдающийся молодой человек.
Будьте положительным образцом для подражания для всех братьев —
Скажите им, чтобы они перестали продавать наркотики и убивать друг друга;
Скажи им, чтобы они верили в Бога и любили друг друга
Потому что вы все прекрасные братья Блэк.Моим братьям из среднего класса,
Поскольку вы все черные,
Почему вы осуждаете их, потому что думаете,
Что они пришли не с той стороны дороги?
Я говорил тебе когда-то, что они молоды,
Они одарены, они красивы и Черны.
Так что извините их, пока они похлопывают себя по спине.План общества состоит в том, чтобы вы провалили задание
, чтобы вы могли оказаться в чьей-нибудь тюрьме.
Ну не нравятся тебе оранжевые комбинезоны
Или переполненные камеры.
Вы успешный человек, и у вас все получится.
Так что скажи им извинить тебя, пока ты портишь их планы,
Потому что ты будешь выдающимся чернокожим.Общество задержит вас и скажет вам ждать,
Но вы должны быть как Иов и стоять на своей вере,
Потому что у Бога есть генеральный план
И вы собираетесь быть выдающимся чернокожим.
Copyright © Маргарет Блок, все права защищены.
Авторские права ©
Webspinner:
webmaster@crmvet. org
org
(пожертвовано трудом)
Поэзия: Элизабет Блок – OmniVerse
Болезнь текста
Тени,
только деревьев. Процветающий ветер в поклоне сделал стену, на, для, и потемнел моментом в бассейне, который отражал и подозревал сам свет. Птицы, то ли летя, то ли пятнышко мягкое, медленно порхают, по полу спальни ночных грёз, шарят — бормочут что — оставляли головы поперек пути.
Идти, свет, что, как не посылать?
Одинокий, зелено-серый, шатающийся по дому, зажгите стену напротив. Места пустые. Были такие части каким-то фаном.
Но их вместе собери.
Она хочет Whirl
из никуда
Она встает, темно.
Жужжание маленькой головы, она думала, что знает,
она думала, может быть, это был еще один день, чтобы не начинать, а петь,
она хотела, чтобы это изо рта, вкус, ожидающий в, кто это зовет ее
возможно, никто не расскажет вам о головокружительном танце; Она движется сквозь слои шума, какой шум, мы еще не знаем, человек плохой, что ее забрал, сейчас не мертв, но в ее голове она говорит, что один из виду,
сейчас тоже.
Это-было-это предварительное, постепенное, когда идет спуск вниз по берегу моря в углубление, со знанием лежащих опасностей — этого пути? Для леденцов, часто облегчение легких, эффективность при аффектах, опиум внутри содержится, шумно отвергая союз, подозрительно.
Назад к ультрафиолетовому взрыву, маяк извлечен, центрифуга
титтл.
***
Это стихотворение взято из готовящегося поэтического манускрипта «Целлулоидные приветствия».Траур по целлулоидному кино — это траур по дислексии особого типа. Дислексия всегда самобытна и добра. Все, от загрузки камеры до потери в монтажной комнате и переделки изображения, чтобы оно не проецировалось наизнанку или вверх ногами, — это процесс отмены фактической съемки, которая его создала. Когда я заканчивал свой роман, я начал отвлекать себя, снимая 16-миллиметровые пленки, и это было настолько неврологически сложно (не говоря уже о технической стороне), что я начал думать об этом как о целом процессе, как о прекрасном «дефекте», из-за которого «искусство » лучше.
Я хотел снимать литературные фильмы, фильмы о модернистском тексте (не истории, а структуре предложений), которые могли бы иметь такой же неврологический эффект или эффект «накуривания». Итак, я прочитал (еще раз) и направил (или не направил) «На маяк» Вирджинии Вульф, грудной дискант Лесли Скалапино и этого хитрого сэра Томаса де Куинси. Это возможно? В моем стихотворении эти призраки, возможно, делают стихотворение страдающим или истеричным. Я работаю не для того, чтобы быть хорошим.
***
Элизабет Блок является автором отмеченного наградами романа «Жест во времени » (Spuyten Duyvil) и многих других коротких произведений практически во всех жанрах и смешанных жанрах, в том числе в публикации, финансируемой Фондом Ланнана. One Less Magazine и HOW2 взяли интервью у Элизабет о ее писательской деятельности, издательском деле, кинопроизводстве и художественном процессе. Недавно она опубликовала новое предисловие к переизданию Признаний святого Августина (Signet Classics, Penguin Press). Она получила стипендию Дорис Робертс/Уильяма Гойена в области национальной фантастики от Фонда Кристофера Ишервуда и множество других наград и грантов. Ее работы появлялись на KQED и нескольких других общественных радиостанциях, исполнялись на сцене, в общественных автобусных остановках, использовались в фильмах и экспериментальной музыке.Элизабет выступала в Калифорнийском клубе Содружества, исполняла свои произведения в Соединенных Штатах (At City Lights Books, Elliot Bay Books, Shaman Drum Books, Discrete Reading Series и т. д.). Элизабет широко демонстрировала свои 16-миллиметровые фильмы в США и Британской Колумбии, например, в Архиве фильмов антологии, Музее современного искусства | Денвер, Гарвардский киноархив, кинофестиваль антиматерии, Афинский международный кинофестиваль и т. д. Вторая книга Элизабет, сборник стихов, Целлулоидные приветствия , скоро появится на BlazeVOX. Болезнь текста Вот здесь отрывок из книги.
Она получила стипендию Дорис Робертс/Уильяма Гойена в области национальной фантастики от Фонда Кристофера Ишервуда и множество других наград и грантов. Ее работы появлялись на KQED и нескольких других общественных радиостанциях, исполнялись на сцене, в общественных автобусных остановках, использовались в фильмах и экспериментальной музыке.Элизабет выступала в Калифорнийском клубе Содружества, исполняла свои произведения в Соединенных Штатах (At City Lights Books, Elliot Bay Books, Shaman Drum Books, Discrete Reading Series и т. д.). Элизабет широко демонстрировала свои 16-миллиметровые фильмы в США и Британской Колумбии, например, в Архиве фильмов антологии, Музее современного искусства | Денвер, Гарвардский киноархив, кинофестиваль антиматерии, Афинский международный кинофестиваль и т. д. Вторая книга Элизабет, сборник стихов, Целлулоидные приветствия , скоро появится на BlazeVOX. Болезнь текста Вот здесь отрывок из книги.
Эволюция моего блока | Поэзия вслух
Джейкоб Саенс
В детстве я катался на велосипеде по блоку
с коричневой шваброй, ниспадающей
в обесцвеченный хвост,
золото как под золотым светом,
как цвета Благородных Рыцарей
‘стучит по углам, беззаботно
с цветами, которые я носил — коротышка
, слишком маленькая, чтобы с ней воевать, и слишком коричневая
, чтобы быть в тупике.
Белые рыцари стали коричневыми
Короли по-прежнему показывают черные и золотые
по углам теперь коронованы,
блок ответвление под брендом
с короной граффити на дверях гаража
пешками.
Будучи подростком, я мог сиять
короной, ходить без
избитого обычая,
воевал с моим двоюродным братом
который забрал Два-Шесть,
набор в следующем блоке
в черном цвете и в бежевом цвете.
Но я предпочитал игры бандам,
книги мошенникам в шляпах
криво влево или вправо
борьба за участок, блок
на место и знак с кровью
мальчиков, которые не знали лучшего
способа повзрослеть, чем бросить
корону и ни за что.
Источник: Поэзия (сентябрь 2010 г.)
Поэт Био
Поэт и редактор Джейкоб Саенс родился в Чикаго и вырос в Сисеро, штат Иллинойс. Он получил степень бакалавра писательского мастерства в Колумбийском колледже в Чикаго. Его первый сборник стихов Throwing the Crown (Copper Canyon Press, 2018) был удостоен премии American Poetry Review/Honickman First Book Prize 2018 года.
Саенс был редактором Columbia Poetry Review и помощником редактора RHINO.Он работает ассистентом по комплектованию в библиотеке Колумбийского колледжа и читал свои стихи в ряде чикагских заведений. Стипендиат CantoMundo, он также получил стипендию Letras Latinas Residency Fellowship и стипендию Ruth Lilly Poetry Fellowship. Увидеть больше этого поэта
Его первый сборник стихов Throwing the Crown (Copper Canyon Press, 2018) был удостоен премии American Poetry Review/Honickman First Book Prize 2018 года.
Саенс был редактором Columbia Poetry Review и помощником редактора RHINO.Он работает ассистентом по комплектованию в библиотеке Колумбийского колледжа и читал свои стихи в ряде чикагских заведений. Стипендиат CantoMundo, он также получил стипендию Letras Latinas Residency Fellowship и стипендию Ruth Lilly Poetry Fellowship. Увидеть больше этого поэтаЕще от этого поэта
Холдинг Корт
Сегодня я стал Королем
Двора без инкрустированной
бриллиантами короны, возложенной на
мою потную голову.Вместо этого
моими отметинами королевской власти
была футболка, драпирующая
мое тело, как халат, пропитанный
шампанским и боль
в моем правом колене — признак
битвы.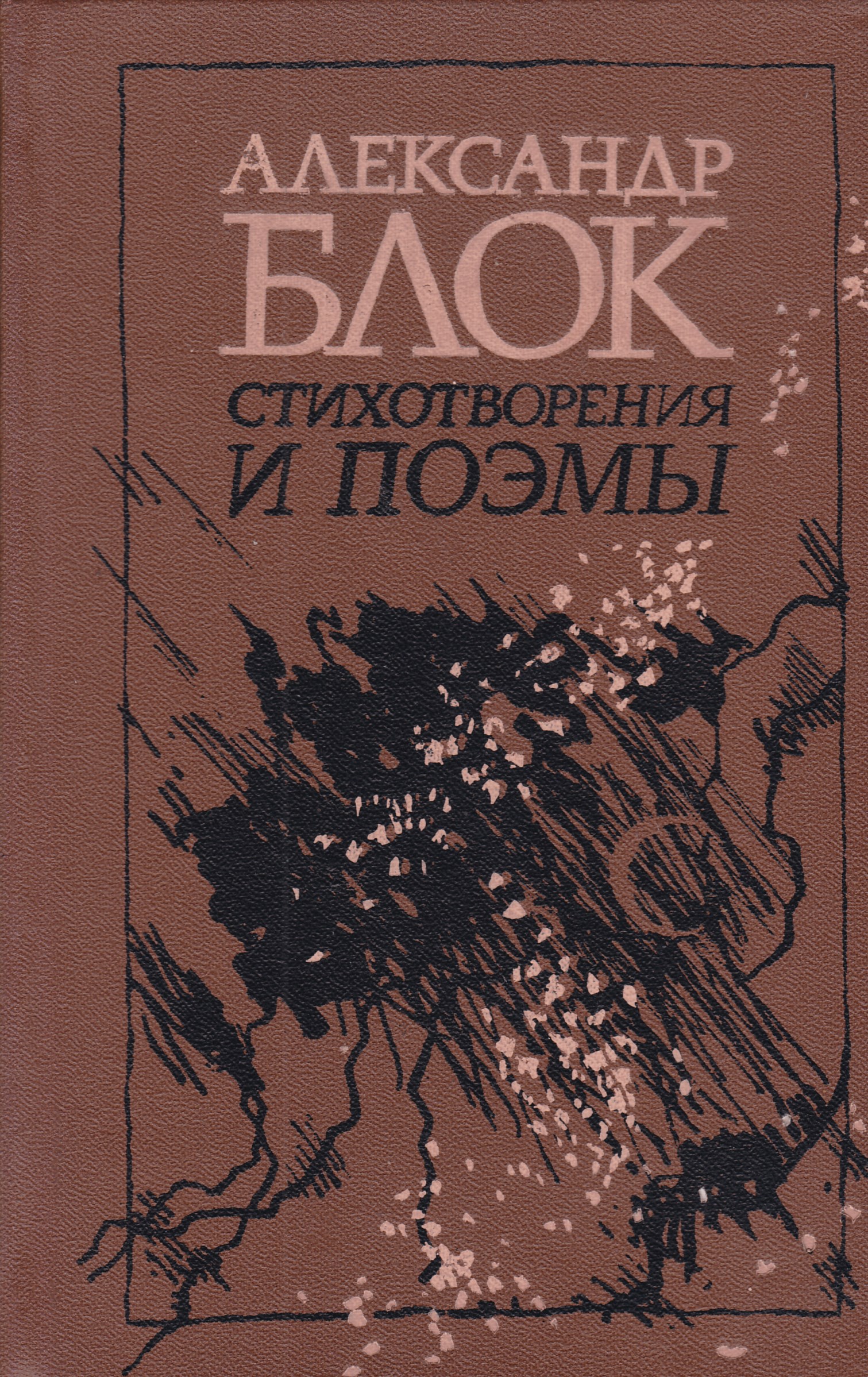 ..
..
Джейкоб Саенс
Больше стихов о социальных комментариях
Память зерна
Ветка из косточки падает
с дуба моей бабушки Тельмы
для меня.
Что ты знаешь о магии? e1 спрашивает.
E сгибает старое тело вниз, превращает
ветвь поперечного рычага в
крест, надевает его мне на шею.
Я привязан к правому плечу Черной реки,
Вспоминая свою…
Марланда Декин-Разумная душа
- Жизнь
- Отношения
- Социальные комментарии
Еще одна антипастораль
Я хочу записать то, что пробудила гора.
Мой полный рот травы.
Моя любопытная история. Я хочу стоять на месте, но обнаруживаю, что перемещаюсь патч за патчем.
У меня блеет в горле. Здесь мне не хватает слов. Ты понимаешь? я…
Виви Фрэнсис
- Жизнь
- Природа
- Социальные комментарии
Чип от старого блока — определение идиомы
«Скол от старого блока» — отличный пример идиомы — короткой фразы, которую нельзя понять по отдельным словам, и ее нужно изучать в контексте.Эта идиома — умный способ указать на сходство между двумя или, возможно, более людьми. Кроме того, как и некоторые из самых интересных идиом, его можно использовать как отрицательно, так и положительно.
Исследовать Фрагмент старого блока
Значение фразы «Скол от старого блока»
«Скол от старого блока» — это интересная идиома, которая используется для обозначения кого-то, похожего на их родителя, или человека, который оказал влияние на их жизнь. «Блок» — это источник, человек, который обучал, учил или воспитывал кого-то другого. «Чип» — их протеже, ребенок или ученик. Последний настолько похож на первый, что они кажутся идентичными по текстуре, цвету и материалу. Они — осколки одного и того же куска камня.
«Блок» — это источник, человек, который обучал, учил или воспитывал кого-то другого. «Чип» — их протеже, ребенок или ученик. Последний настолько похож на первый, что они кажутся идентичными по текстуре, цвету и материалу. Они — осколки одного и того же куска камня.
Когда использовать «Чип от старого блока»
Фразеологизм «обломок старого блока» следует использовать в повседневных разговорах между друзьями, родственниками и близкими коллегами. Это разговорный язык, то есть он обычно не появляется в формальной или возвышенной речи, такой как реальная речь, академическая статья или деловая обстановка (хотя, конечно, всегда есть исключения).Эту фразу можно использовать как в положительном, так и в отрицательном смысле, как это часто бывает с более неясными идиомами. Кто-то может сравнивать одного человека с другим, чтобы сказать, что их сходство вызывает восхищение или презрение. Если кто-то «откалывает» сомнительный «блок», это совсем другое, чем если бы он «откалывал» морально порядочный или интересный «блок».
Примеры предложений с фразой «Чип со старого блока»
- Это Джерри. Он просто чип от старого блока.
- Ты видел Марджи и ее маму? Она действительно чип от старого блока.
- После того, как мои друзья познакомились с моим отцом, они всегда говорят мне, что я крошка из прошлого.
- Ты рад, что ты стал чипом из старого блока?
- Не знаю, как еще тебе это сказать, Адам, но ты всего лишь щепка из старого блока. Ты действительно не мог быть больше похож на своего отца.
- Проведя так много времени с моим инструктором, я чувствую, что стал чипом из старого блока.
Почему писатели используют «чип от старого блока?»
Эта идиома, как и другие, используется в диалогах в рассказах и романах. Это способ передачи определенного состояния, с которым читатель должен быть знаком. Большинство носителей английского языка поймут, что автор пытается передать, когда прочитают фразу «чип со старого блока». Это достаточно распространено, чтобы можно было уверенно использовать его в письменном диалоге и чувствовать, что каждый поймет то, что пытается сказать.Эта фраза может помочь в некоторых обстоятельствах сделать диалог более реалистичным или правдоподобным. Персонажи могут показаться настоящими, реальными людьми, если они используют слова и фразы, узнаваемые читателем. Но писатели также прекрасно понимают, что эта идиома, как и многие другие, может быть прочитана как клише и неинтересна, на самом деле выполняя противоположное тому, что пытается сделать автор.
Это достаточно распространено, чтобы можно было уверенно использовать его в письменном диалоге и чувствовать, что каждый поймет то, что пытается сказать.Эта фраза может помочь в некоторых обстоятельствах сделать диалог более реалистичным или правдоподобным. Персонажи могут показаться настоящими, реальными людьми, если они используют слова и фразы, узнаваемые читателем. Но писатели также прекрасно понимают, что эта идиома, как и многие другие, может быть прочитана как клише и неинтересна, на самом деле выполняя противоположное тому, что пытается сделать автор.
Происхождение «чипа от старого блока»
Как и почти все идиомы, «обломок старого блока» имеет сложное и не совсем понятное происхождение.Он также прошел несколько итераций с использованием похожих, хотя и не идентичных слов. Например, одна из первых итераций фразы встречается в проповедях, томе Роберта Сандерсона, опубликованном в 1621 году. Строка гласит:
Разве я не дитя того же Адама… чип того же блока, с ним?
Здесь используется фраза «чип того же блока», но смысл тот же. Еще одну итерацию можно найти в « » Джона Мильтона «Извинение против» — скромное опровержение антирекламы против протестанта против Смектимнууса. В этой книге Милтон пишет:
Еще одну итерацию можно найти в « » Джона Мильтона «Извинение против» — скромное опровержение антирекламы против протестанта против Смектимнууса. В этой книге Милтон пишет:
Как ты теперь выглядишь Чипом старого блока
Эта фраза немного отличается от той, что встречается в проповедях Сандерсона , и той, которая используется сегодня. Милтон использует «из старого блока», а не «из того же» или «от старого». Только совсем недавно эта фраза постоянно использовалась как «от старого блока». В 1870 году современную версию можно найти в The Athens Messenger. Строка гласит:
Дети видят лицемерие своих родителей, видят отсутствие у них честности и учатся их жульничать… Ребенок слишком часто становится щепкой из старого блока.
Связанные идиомы
РодственныеПозолоченный аукционный блок | 4Колонки
Позолоченный аукционный блок Эндрю Чан «Мои слезы встретились с твоими в канаве / Америка»: новый сборник стихов Шейна МакКрэя.
Позолоченный аукционный блок , Шейн МакКрей, 92 страницы, 23 доллара
• • •
В стихах Шейна МакКрея язык давит на уста так же тяжело, как и на разум.Попробуйте прочитать любой из семи сборников, которые он опубликовал за последние девять лет, и вы можете почувствовать одышку и боль в челюсти, независимо от того, читали ли вы вслух или нет. В то время как века поэтической традиции привели нас к идеализации формы искусства как чего-то сродни музыке, МакКрэй регулярно переворачивает наши представления о сладкозвучности, произнося строчку за строчкой так, как будто ее проталкивают сквозь зубы. Его интерес к языковому отчуждению едва ли нов; неровный синтаксис, необъяснимые повторы и неортодоксальная или несуществующая пунктуация — распространенные стратегии современных писателей, стремящихся денатурализировать властные структуры, заложенные в языке.Тем не менее, что движет Маккреем в выборе стиля, так это желание изменить перспективу, поскольку он втягивает нас в неудобную близость с самыми разрушительными штаммами нашего американского жаргона.
Его последняя книга, «Позолоченный аукционный блок », начинается как широкое обращение к нации, с резкостью, которая перекликается с мрачной инаугурационной речью Дональда Трампа, произнесенной в январе 2017 года. Сам президент появляется как повторяющийся голос; в нем Маккрей нашел не только свою музу, но и своего конкурента, кого-то столь же способного, как и он, превращать предложения в неудобные и неузнаваемые формы.Обращение к самой актуальной теме больше не является гарантированным поводом для удивления в мире поэзии — отчасти потому, что теперь более широко признано, что «актуальное» для одного человека является «повседневным» для другого, — но это не сделало такой проект, как этот, менее сложная задача. Эпиграфы нескольких стихотворений переосмысливают пресловутые оплошности Трампа — его описание Фредерика Дугласа как «человека, который проделал потрясающую работу», его беспечно-снисходительное восхваление «малообразованных». МакКрэй делает это таким образом, что выдвигает на первый план дилемму писателя: как разоблачить речь, которая уже настолько обнажена в своей токсичности, последствия которой уже прочесаны бесчисленными комментаторами? И как подражать уродству сегодняшнего политического дискурса, не отказываясь полностью от лирической красоты?
Как и в лучших произведениях Маккрея, искра в этих новых стихах кроется не в их начале, которое иногда склоняется к деспотическому, а в их пугающе элегантных развязках.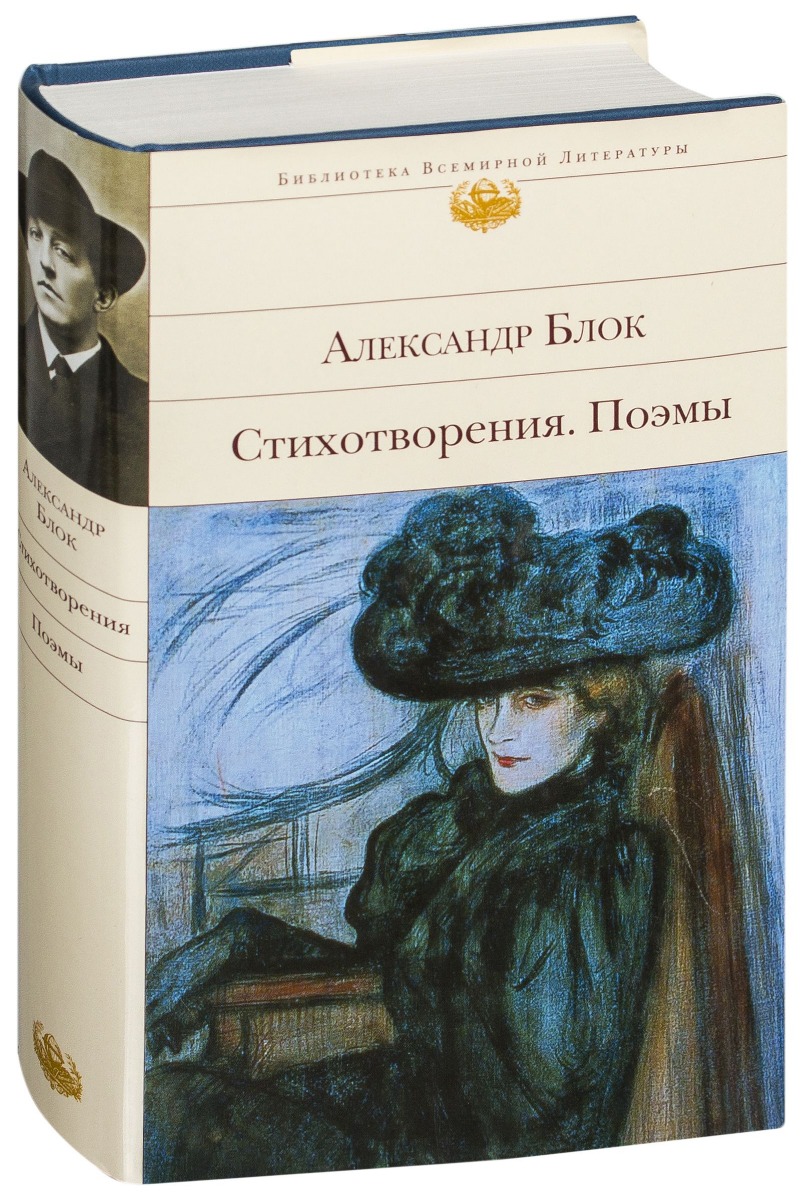 Несмотря на всю свою тягу к непрозрачности, МакКрей знает, как написать последние строки, которые пронзают сердце и погружают нас в внезапное восприятие. Один из ярких моментов книги, «Ненависть», рассматривает любовь как ковер, выдернутый из-под нас: когда говорящий наблюдает за сценой флирта молодого нациста с девушкой, он «боится / Что, если бы они любили друг друга другое я бы увидел. В «Progiveness Grief» Маккрей размышляет, как и в прошлом, о своих отношениях с бабушкой-расисткой, которая его воспитала, и о том, как он, пусть и ошибочно, цеплялся за «вред, который вы причинили мне» как за эмблему. любви.И, наконец, в конце книги он приходит к какому-то резкому антиафоризму: «Мы живем и умираем врозь вместе». Здесь любовь — это знание, слишком искаженное, чтобы полностью его усвоить, которое привязывает нас к угнетателям, не менее человечным, чем мы сами.
Несмотря на всю свою тягу к непрозрачности, МакКрей знает, как написать последние строки, которые пронзают сердце и погружают нас в внезапное восприятие. Один из ярких моментов книги, «Ненависть», рассматривает любовь как ковер, выдернутый из-под нас: когда говорящий наблюдает за сценой флирта молодого нациста с девушкой, он «боится / Что, если бы они любили друг друга другое я бы увидел. В «Progiveness Grief» Маккрей размышляет, как и в прошлом, о своих отношениях с бабушкой-расисткой, которая его воспитала, и о том, как он, пусть и ошибочно, цеплялся за «вред, который вы причинили мне» как за эмблему. любви.И, наконец, в конце книги он приходит к какому-то резкому антиафоризму: «Мы живем и умираем врозь вместе». Здесь любовь — это знание, слишком искаженное, чтобы полностью его усвоить, которое привязывает нас к угнетателям, не менее человечным, чем мы сами.
Маккрей, рожденный от белой матери и черного отца («моя кожа / смуглая, но смуглая, как будто я итальянец / чаще всего люди думают, что я мексиканец»), показывает нам, как идеи, управляющие нашей жизнью, выходят за рамки границы, в которые мы пытаемся их вместить. Он особенно красноречив, наблюдая с почти богословской строгостью, как привычные понятия — особенно дихотомии «черного» и «белого», «любви» и «ненависти» — становятся все более аморфными в несправедливом обществе. В этих новых стихах он вспоминает прежние страстные призывы к этому потрепанному старому мифу «Америка» всеми, от Лэнгстона Хьюза до Аллена Гинзберга, используя имя нации как цель для своего сочувствия («мои слезы встретились с твоими в канаве / Америка ») и его презрение («Америка, я смеюсь, ты меня слышишь / Я смеюсь, когда слышу, как ты говоришь, что ты не был / Расистом»).Вторя своему предшественнику, сборнику Tour de Force 2017 года In the Language of My Captor , центральным элементом которого является раздел наполовину стихами, наполовину прозой, написанный частично с точки зрения приемного сына Джефферсона Дэвиса смешанной расы, — Позолоченный Аукционный блок населен призрачными фигурами влиятельных белых мужчин: помимо Трампа есть камеи Джо Арпайо и Джеффа Сешнса.
Он особенно красноречив, наблюдая с почти богословской строгостью, как привычные понятия — особенно дихотомии «черного» и «белого», «любви» и «ненависти» — становятся все более аморфными в несправедливом обществе. В этих новых стихах он вспоминает прежние страстные призывы к этому потрепанному старому мифу «Америка» всеми, от Лэнгстона Хьюза до Аллена Гинзберга, используя имя нации как цель для своего сочувствия («мои слезы встретились с твоими в канаве / Америка ») и его презрение («Америка, я смеюсь, ты меня слышишь / Я смеюсь, когда слышу, как ты говоришь, что ты не был / Расистом»).Вторя своему предшественнику, сборнику Tour de Force 2017 года In the Language of My Captor , центральным элементом которого является раздел наполовину стихами, наполовину прозой, написанный частично с точки зрения приемного сына Джефферсона Дэвиса смешанной расы, — Позолоченный Аукционный блок населен призрачными фигурами влиятельных белых мужчин: помимо Трампа есть камеи Джо Арпайо и Джеффа Сешнса.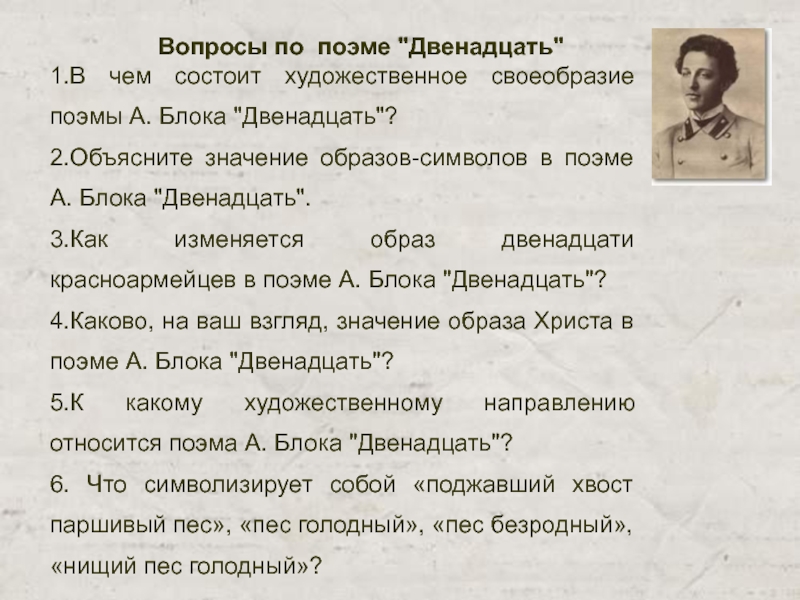 Обрывки игры слов с заиканием дополнительно подкрепляются отсылками к стереотипным среднеамериканским условиям: Walmart, Wendy’s, торговый центр в Остине.
Обрывки игры слов с заиканием дополнительно подкрепляются отсылками к стереотипным среднеамериканским условиям: Walmart, Wendy’s, торговый центр в Остине.
Письмо, которое вращается вокруг столь многих архетипов — «аукционный блок» в заголовке появляется в связи с расистским столкновением спикера (предположительно, самого МакКрэя) во время преподавания в Оберлине — рискует показаться предопределенным, даже если оно направлено на дестабилизацию как мы понимаем его предметы. Но, конечно же, этот застой — одна из его великих тем, заставляющая его перемещаться между фиксированными представлениями, ограничивающими его мир, и субъективными реалиями, которые могут поставить их под сомнение.Как и его самое раннее влияние, Сильвия Плат из Ариэль , Маккрей имеет близость к нервным настроениям психодрамы, но в этом ограниченном диапазоне подход удивительно подвижен. Как и в других его книгах, здесь вы найдете множество стилей и приемов, включая исповеди от первого лица, исторически укоренившиеся монологи и (в «Адской поэме», самом длинном и наименее убедительном разделе книги) экстравагантно воображаемое адское видение. в котором птицы лают ругательства, а гигантский жук произносит хвастовство в стиле Трампа.
в котором птицы лают ругательства, а гигантский жук произносит хвастовство в стиле Трампа.
Временами вы можете почувствовать, как МакКрей пытается расширить масштаб изображения угнетения, вырвать его из типичных автобиографических и социологических рамок и увидеть в нем сложную космологию. Тем не менее, что подпитывает его самые захватывающие моменты, так это интенсивность тихим голосом, ощущение рассказчика, пытающегося вырвать личные, иногда постыдные истины из языка, который так часто оказывается неадекватным для передачи внутренней жизни цветных людей. Хотя Позолоченный аукционный блок более непоследовательна, чем предыдущая работа МакКрэя (изрядное количество которой поражает), кумулятивное воздействие по-прежнему является мощным фактором, с которым нужно считаться.Немногим поэтам его поколения удавалось проскальзывать между таким количеством разных регистров американского английского — плоскостью и пустотой трамповских инвектив; античные ритмы рассказов о рабах; грубая эмоциональная откровенность большей части современной политической литературы; надломленная гиперреактивность культуры социальных сетей — к такому тревожному эффекту.