Записки на манжетах | это… Что такое Записки на манжетах?
Запи́ски на манже́тах — частично автобиографическая[1]повесть, написанная Михаилом Булгаковым в 1922—1923 годах. При жизни писателя повесть ни разу не публиковалась целиком, в настоящее время часть текста утеряна.
Содержание
|
Сюжет
Основным мотивом «Записок на манжетах» стала проблема отношений писателя и власти.[2] В автобиографической повести достаточно подробно описана жизнь Булгакова на Кавказе и первые месяцы его пребывания в Москве, вплоть до практически дословного описания диспута об А. С. Пушкине (Владикавказ, лето 1920) и намерения эмигрировать.
Сохранившийся в настоящее время текст разделён на две части (в первоначальной редакции повесть состояла из трёх частей).
Первая часть начинается с разговора главного героя (прототипа Булгакова), больного тифом, и его знакомого, беллетриста Юрия Слёзкина, о необходимости открытия подотдела искусств в газете. Главный герой становится заведующим литературной частью (завлито).
Главный герой становится заведующим литературной частью (завлито).
В пятой главе «Камер-юнкер Пушкин» подробно описывается диспут о Пушкине, состоявшийся летом 1920 года во Владикавказе. В этом эпизоде главный герой берёт верх над оппонентом, предлагающим «Пушкина выкинуть в печку», однако после этого подвергается многочисленным нападкам в газете.
Между тем во Владикавказ заезжают Рюрик Ивнев и Осип Мандельштам. Главный герой читает статью «О чеховском юморе» и получает предложение написать статью о Пушкине; однако из-за художницы, изобразившей Пушкина похожим на Ноздрёва (персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души»), «Пушкинский вечер» проваливается. Литературные вечера запрещают.
Главный герой принимает предложение помощника присяжного поверенного написать революционную пьесу «из туземной жизни». За пьесу автор получает сто тысяч и мечтает на эти деньги бежать во Францию, однако эмиграция срывается из-за нехватки средств. Некоторое время герой путешествует по Кавказу, затем решает вернуться домой, в Москву, где получает должность секретаря в Лито.
В главе «Неожиданный кошмар» в повесть вводятся элементы мистики. Герой, однажды утром не найдя в привычном месте Лито, замечает на стенах огненные надписи — цитаты из повести Гоголя «Нос». На следующий день оказывается, что за час до его прихода отдел был перенесён в другое помещение.
На протяжении всей части, описывающей приключения в Москве, перед героем стоит проблема отсутствия денег и возможности заниматься литературной деятельностью.
Повесть заканчивается ликвидацией Лито.
Автобиографические мотивы
В главе «Камер-юнкер Пушкин» Булгаков довольно точно передал суть высказываний его оппонента, главного редактора владикавказской газеты «Коммунист» Г. И. Астахова. Отчёт, помещенный в «Коммунисте», приводит слова Астахова:
«Пушкин — типичный представитель либерального дворянства, пытавшегося „примирить“ рабов с царем… И мы с спокойным сердцем бросаем в революционный огонь его полное собрание сочинений, уповая на то, что если там есть крупинки золота, то они не сгорят в общем костре с хламом, а останутся.
»[3]
Возражения Булгакова, в повести переданные пушкинскими словами «ложная мудрость мерцает и тлеет перед солнцем бессмертным ума…», в статье «Коммуниста» с подзаголовком «Волк в овечьей шкуре» описываются так:
«С большим „фонтаном“ красноречия и с большим пафосом говорил второй оппонент — литератор Булгаков. <…> Пушкин был „и ночь и лысая гора“ приводит Булгаков слова поэта Полонского, и затем — творчество Пушкина божественно, лучезарно; Пушкин — полубог, евангелист, интернационалист (sic!). <…> Все было выдержано у литератора Булгакова в духе несколько своеобразной логики буржуазного подголоска и в тезисах и во всех ухищрениях вознести Пушкина.»
В «Записках на манжетах» Булгаков дословно привёл отзывы оппонентов: «Я — „волк в овечьей шкуре“. Я — „господин“. Я — „буржуазный подголосок“».
«Революционная пьеса», о которой пишет Булгаков в главе «Бежать. Бежать!» — «Сыновья муллы».
В 1921 году Булгаков имел намерение эмигрировать и именно с этой целью добирался от Владикавказа до Батума, однако эмиграция не состоялась из-за отсутствия у Булгакова денег, чтобы заплатить капитану судна, идущего в Константинополь. (Описывается это в той же главе «Бежать. Бежать!».)
(Описывается это в той же главе «Бежать. Бежать!».)
Первая жена Булгакова Т. Н. Лаппа в своих «Воспоминаниях» подтверждает намерение писателя эмигрировать: «Тогда Михаил говорит: „Я поеду за границу. Но ты не беспокойся, где бы я ни был, я тебя выпишу, вызову“. <…> Ходили на пристань, в порт он ходил, всё искал кого-то, чтоб его в трюме спрятали или ещё как, но тоже ничего не получалось, потому что денег не было».[4]
Публикации
Впервые напечатано: часть первая — литературное приложение к газете «Накануне», 18 июня 1922 года, Берлин — Москва (с купюрами, отмеченными точками). Републикована с разночтениями, изъятиями и добавлениями: альманах «Возрождение», Москва, 1923 (№ 2). Отрывки из первой части перепечатаны (с некоторыми добавлениями): «Бакинский рабочий», 1 января 1924.
Вторая часть повести опубликована: «Россия», Москва, 1923 год (№ 5).
Обе части впервые опубликованы вместе (по текстам «Возрождения» и «России» с добавлением пропущенных фрагментов из «Накануне» и «Бакинского рабочего»): Театр, Москва, 1987 год (№ 6).
Существовал более полный текст «Записок на манжетах», который Булгаков читал на собрании литературного общества «Никитинские субботники» в Москве 30 декабря 1922 года и 4 января 1923 года.
В протоколе заседания 30 декабря 1922 года зафиксировано:
Михаил Афанасьевич в своем предварительном слове указывает, что в этих записках, состоящих из 3-х частей, изображена голодная жизнь поэта где-то на юге (называя главного героя «Записок на манжетах» поэтом, Булгаков стремился создать впечатление, что он не столь автобиографичен, как это казалось слушателям). Писатель приехал в Москву с определенным намерением составить себе литературную карьеру. Главы из 3-й части Михаил Афанасьевич и читает. [1]
19 апреля 1923 года Булгаков получил проект договора АО «Накануне» об отдельном издании повести, однако десятый параграф проекта (о сокращении текста по требованию цензуры) вызвал возражения писателя.
«Записки на манжетах» в Берлине так и не вышли, и рукописи или корректуры этого издания не сохранились. В незаконченной повести «Тайному другу» (1929) Булгаков описал финал этой истории: «Три месяца я ждал выхода рукописи и понял, что она не выйдет. Причина мне стала известна, над повестью повис нехороший цензурный знак. Они долго с кем-то шушукались и в Москве, и в Берлине».
В незаконченной повести «Тайному другу» (1929) Булгаков описал финал этой истории: «Три месяца я ждал выхода рукописи и понял, что она не выйдет. Причина мне стала известна, над повестью повис нехороший цензурный знак. Они долго с кем-то шушукались и в Москве, и в Берлине».
Булгаков пытался опубликовать повесть также в издательстве «Недра» (написал письмо секретарю П. Н. Зайцеву), однако публикация не состоялась.
Известный сегодня текст повести не включает в себя третью часть, предположительно описывающую московские сцены.[5]
Неизвестно содержание неопубликованной большей части текста «Записок на манжетах», вызвавшей основные цензурные претензии.
Примечания
- ↑ 1 2 «Записки на манжетах» на официальном сайте М. Булгакова
- ↑ Этика, эстетика, поэтика, философия произведений М. А. Булгакова
- ↑ «Булгаковская Энциклопедия»
- ↑ Воспоминания о Михаиле Булгакове.
 Е. С. Булгакова, Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерская. М., 2006
Е. С. Булгакова, Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерская. М., 2006 - ↑ Письмо М. Булгакова секретарю «Недр» П. Н. Зайцеву от 26 мая 1924 г.
Ссылки
- «Записки на манжетах» на lib.ru
- «Булгаковская Энциклопедия»
- Создание «Записок на манжетах»
- Статья И. Л. Галинской о философии произведений Булгакова
Записки на манжетах — Художественная литература
Оглавление
- Полный текст
- Часть первая
- I
- II. Что мы будем делать?!
- III. Лампадка
- IV. Вот он — подотдел
- V. Камер-юнкер Пушкин
- VI. Бронзовый воротник
- VII. Мальчики в коробке
- VIII. Сквозной ветер
- IX. История с великими писателями
- X. Портянка и черная мышь
- XI. Не хуже Кнута Гамсуна
- XII. Бежать, бежать!
- XIII
- XIV. Домой
- Часть вторая
- I. Московская бездна. Дювлам
- II. Дом № 4, 6-й подъезд, 3-й этаж, кв. 50, комната 7
- III.
 После горького я первый человек
После горького я первый человек - IV. Я включаю Лито
- V. Первые ласточки
- VI. Мы развиваем энергию
- VII. Неожиданный кошмар
- VIII. 2-й подъезд, 1-й этаж, кв. 23, ком. 40
- IX. Полным ходом
- X. Деньги! деньги!
- XI. О том, как нужно есть
- XII. Гроза. Снег
- Комментарии. В. И. Лосев
- Сноски автора
- Сноски составителя
Плавающим, путешествующим
и страждущим писателям русским
I
Сотрудник покойного «Русского слова»[1], в гетрах и с сигарой, схватил со стола телеграмму и привычными профессиональными глазами прочел ее в секунду от первой строки до последней.
Его рука машинально выписала сбоку: «В 2 колонки», но губы неожиданно сложились дудкой:
— Фью‑ю!
Он помолчал. Потом порывисто оторвал четвертушку и начертал:
До Тифлиса сорок миль…
Кто продаст автомобиль?
Сверху: «Маленький фельетон», сбоку: «Корпус», снизу: «Грач».
И вдруг забормотал, как диккенсовский Джингль[2]:
— Тэк‑с. Тэк‑с!.. Я так и знал!.. Возможно, что придется отчалить. Ну, что ж! В Риме у меня шесть тысяч лир. Credito Italiano[3]. Что? Шесть… И в сущности, я — итальянский офицер! Да‑с! Finita la comedia!{1}
И, еще раз свистнув, двинул фуражку на затылок и бросился в дверь — с телеграммой и фельетоном.
— Стойте! — завопил я, опомнившись. — Стойте! Какое Credito? Finita?! Что? Катастрофа[4]?!
Но он исчез.
Хотел выбежать за ним… но внезапно махнул рукой, вяло поморщился и сел на диванчик. Постойте, что меня мучит? Credito непонятное? Сутолока? Нет, не то… Ах да! Голова! Второй день болит. Мешает. Голова! И вот тут, сейчас, холодок странный пробежал по спине. А через минуту — наоборот: тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки. Простудился. Проклятый февральский туман[5]! Лишь бы не заболеть!.. Лишь бы не заболеть!.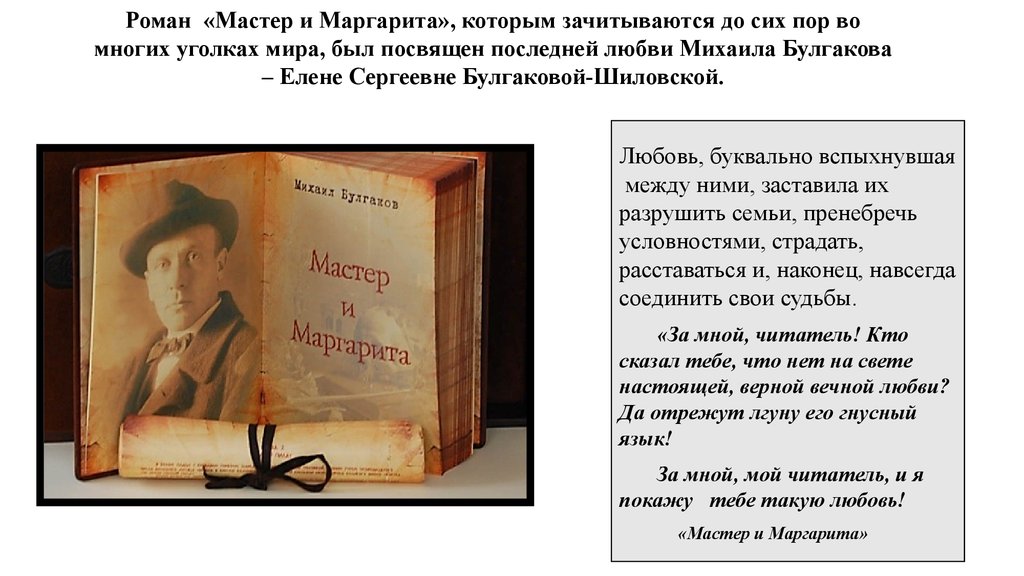 .
.
Чужое все, но, значит, я привык за полтора месяца. Как хорошо после тумана! Дома. Утес и море в золотой раме. Книги в шкафу. Ковер на тахте шершавый, никак не уляжешься, подушка жесткая, жесткая… Но ни за что не встал бы. Какая лень! Не хочется руку поднять. Вот полчаса уже думаю, что нужно протянуть ее, взять со стула порошок с аспирином, и все не протяну…
— Мишуня, поставьте термометр!
— Ах, терпеть не могу!.. Ничего у меня нет…
Боже мой, Боже мой, Бо-о-же мой! Тридцать восемь и девять… да уж не тиф ли, чего доброго[6]? Да нет. Не может быть! Откуда?! А если тиф?! Какой угодно, но только не сейчас! Это было бы ужасно[7]… Пустяки. Мнительность. Простудился, больше ничего. Инфлюэнца. Вот на ночь приму аспирин и завтра встану как ни в чем не бывало!
Тридцать девять и пять!
— Доктор, но ведь это не тиф? Не тиф? Я думаю, это просто инфлюэнца? А? Этот туман…
— Да, да… Туман. Дышите, голубчик… Глубже… Так!..
— Доктор, мне нужно по важному делу… Ненадолго. Можно?
Можно?
— С ума сошли!..
Пышет жаром утес, и море, и тахта. Подушку перевернешь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ничего… и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду! И в случае чего — еду! Еду! Не надо распускаться! Пустячная инфлюэнца… Хорошо болеть. Чтобы был жар. Чтобы все забылось. Полежать, отдохнуть, но только, храни Бог, не сейчас!.. В этой дьявольской суматохе некогда почитать… А сейчас так хочется… Что бы такое? Да. Леса и горы. Но не эти, проклятые, кавказские. А наши, далекие… Мельников-Печерский. Скит[8] занесен снегом. Огонек мерцает, и баня топится… Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полок. Вмиг полегчало бы… А потом — голым кинуться в сугроб… Леса! Сосновые, дремучие… Корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже… Какое хорошее, солидное, государственное слово. — по-не-же! Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит. И хор монашек поет нежно и складно:
Взбранной Воеводе победительная[9]!. .
.
Ах нет! Какие монашки! Совсем их там нет! Где бишь монашки? Черные, белые, тонкие, васнецовские[10]?..
— Ла-риса Леонтьевна[11], где мо-наш-ки?!
— …Бредит… бредит, бедный!..
— Ничего подобного. И не думаю бре-дить. Монашки! Ну что вы, не помните, что ли? Ну, дайте мне книгу. Вон, вон с третьей полки. Мельников-Печерский…
— Мишуня, нельзя читать!..
— Что‑с? Почему нельзя? Да я завтра же встану! Иду к Петрову. Вы не понимаете. Меня бросят[12]! Бросят!
— Ну хорошо, хорошо, встанете! Вот книга.
Милая книга. И запах у нее старый, знакомый. Но строчки запрыгали, запрыгали, покривились. Вспомнил. Там, в скиту, фальшивые бумажки делали, романовские. Эх, память у меня была! Не монашки, а бумажки…
Сашки, канашки мои!..
— Лариса Леонтьевна… Ларочка! Вы любите леса и горы? Я в монастырь уйду. Непременно! В глушь, в скит. Лес стеной, птичий гомон, нет людей… Мне надоела эта идиотская война! Я бегу в Париж, там напишу роман, а потом в скит. Но только завтра пусть Анна разбудит меня в восемь. Поймите, еще вчера я должен был быть у него[13]… Пой-мите!
Но только завтра пусть Анна разбудит меня в восемь. Поймите, еще вчера я должен был быть у него[13]… Пой-мите!
— Понимаю, понимаю, молчите!
Туман. Жаркий красноватый, туман. Леса, леса… и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная хрустальная струя. Только нужно доползти. А там, напьешься — и снимет как рукой! Но мучительно ползти по хвое, она липкая и колючая. Глаза, открыть — вовсе не хвоя, а простыня.
— Гос-по-ди! Что это за простыня… Песком, что ли, вы ее посыпали?.. Пи-ить!
— Сейчас, сейчас!..
— А‑ах, теплая, дрянная!
— …ужасно. Опять сорок и пять!
— …пузырь со льдом…
— Доктор! Я требую… немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться в России… Если не отправите, извольте дать, мне мой бра… браунинг! Ларочка‑а! Достаньте!..
— Хорошо, Хорошо, Достанем. Не волнуйтесь!..
Тьма. Просвет. Тьма… просвет. Хоть убейте, не помню…
Голова! Голова! Нет монашек, взбранной воеводе, а демоны трубят и раскаленными крючьями рвут, череп. Го-ло-ва!..
Го-ло-ва!..
Просвет… тьма. Просв… нет, уже больше нет! Ничего не ужасно, и все — все равно. Голова не болит. Тьма и сорок один и одна[14] .….….….….….
.….….….….….….….….….….….….….….
II. Что мы будем делать?!
Беллетрист Юрий Слезкин[15] сидел в шикарном, кресле. Вообще все в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-то диким диссонансом. Голова, оголенная тифом, была точь-в-точь описанная Твеном мальчишкина голова (яйцо, посыпанное перцем). Френч, молью обгрызенный, и под мышкой — дыра. На ногах — серые обмотки. Одна — длинная, другая — короткая. Во рту — двухкопеечная трубка. В глазах — страх с тоской в чехарду играют.
— Что же те-перь бу-дет с на-ми? — спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут.
— Что? Что?
Я повернулся на кровати и тоскливо глянул в окно, за которым тихо шевелились еще обнаженные ветви. Изумительное небо, чуть тронутое догорающей зарей, ответа, конечно, не дало. Промолчал и Слезкин, кивая обезображенной головой. Прошелестело платье в соседней комнате. Зашептал женский голос:
Промолчал и Слезкин, кивая обезображенной головой. Прошелестело платье в соседней комнате. Зашептал женский голос:
— Сегодня ночью ингуши будут грабить город…
Слезкин дернулся в кресле и поправил:
— Не ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра с утра.
Нервно отозвались флаконы за стеной.
— Боже мой! Осетины?! Тогда это ужасно!
— Ка-кая разница?
— Как какая?! Впрочем, вы не знаете наших нравов. Ингуши, когда грабят, то… они грабят. А осетины — грабят и убивают…
— Всех будут убивать? — деловито спросил Слезкин, пыхтя зловонной трубочкой.
— Ах, Боже мой! Какой вы странный! Не всех… Ну, кто вообще… Впрочем, что ж это я! Забыла. Мы волнуем больного.
Прошумело платье. Хозяйка склонилась ко мне.
— Я не вол-нуюсь…
— Пустяки, — сухо отрезал Слезкин, — пустяки!
— Что? Пустяки?
— Да это… Осетины там и другое. Вздор, — он выпустил клуб дыма.
Изнуренный мозг вдруг запел:
Мама! Мама! Что мы будем делать[16]?!
— В самом деле. Что мы бу-дем де-лать?
Что мы бу-дем де-лать?
Слезкин усмехнулся одной правой щекой. Подумал. Вспыхнуло вдохновение.
— Подотдел искусств откроем[17]!
— Это… что такое?
— Что?
— Да вот… подудел?
— Ах нет. Под-от-дел!
— Под?
— Угу!
— Почему под?
— А это… Видишь ли, — он шевельнулся, — есть отнаробраз[18] или обнаробраз. От. Понимаешь? А у него подотдел. Под. Понимаешь?!
— Наро-браз. Дико-браз. Барбюс. Барбос.
Взметнулась хозяйка.
— Ради Бога, не говорите с ним! Опять бредить начнет…
— Вздор! — строго сказал Юра. — Вздор! И все эти мингрельцы, имери[19]… Как их? Черкесы. Просто дураки!
— Ка-кие?
— Просто бегают. Стреляют. В луну. Не будут грабить…
— А что с нами? Бу-дет?
— Пустяки. Мы откроем…
— Искусств?
— Угу! Все будет. Изо. Лито. Фото. Тео.
— Не по-ни-маю.
— Мишенька, не разговаривайте! Доктор…
— Потом объясню! Все будет! Я уж заведовал. Нам что? Мы аполитичны. Мы — искусство!
Нам что? Мы аполитичны. Мы — искусство!
— А жить?
— Деньги за ковер будем бросать!
— За какой ковер?..
— Ах, это у меня в том городишке, где я заведовал, ковер был на стене. Мы, бывало, с женой, как получим жалование, за ковер деньги бросали. Тревожно было. Но ели. Ели хорошо. Паек.
— А я?
— Ты завлито будешь. Да.
— Какой?
— Мишуня! Я вас прошу!..
III. Лампадка
Ночь плывет. Смоляная, черная. Сна нет. Лампадка трепетно светит. На улицах где-то далеко стреляют. А мозг горит. Туманится.
Мама! Мама!! Что мы будем делать?!
Строит Слезкин там. Наворачивает. Фото. Изо. Лито. Тео. Тео. Изо. Лизо. Тизо. Громоздит фотографические ящики. Зачем? Лито — литераторы. Несчастные мы! Изо. Физо. Ингуши сверкают глазами, скачут на конях. Ящики отнимают. Шум. В луну стреляют. Фельдшерица колет ноги камфарой: третий приступ!..
— О‑о! Что же будет?! Пустите меня! Я пойду, пойду, пойду…
— Молчите, Мишенька, милый, молчите!
После морфия исчезают ингуши. Колышется бархатная ночь. Божественным глазком светит лампадка и поет хрустальным голосом:
Колышется бархатная ночь. Божественным глазком светит лампадка и поет хрустальным голосом:
— Ма-а-ма. Ма-а-ма!
IV. Вот он — подотдел
Солнце. За колесами пролеток — пыльные облака… В гулком здании ходят, выходят… В комнате, на четвертом этаже, два шкафа с оторванными дверцами, колченогие столы. Три барышни с фиолетовыми губами — то на машинках громко стучат, то курят.
С креста снятый, сидит в самом центре писатель[20] и из хаоса лепит подотдел. Тео. Изо. Сизые актерские лица лезут на него. И денег требуют.
После возвратного — мертвая зыбь. Пошатывает и тошнит. Но я заведываю. Зав. Лито. Осваиваюсь.
— Завподиск[21]. Наробраз. Литколлегия.
Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищном галифе. Вонзается в группы, и те разваливаются. Как миноноска, режет воду. На кого ни глянет — все бледнеют. Глаза под стол лезут. Только барышням — ничего! Барышням — страх не свойствен.
Подошел.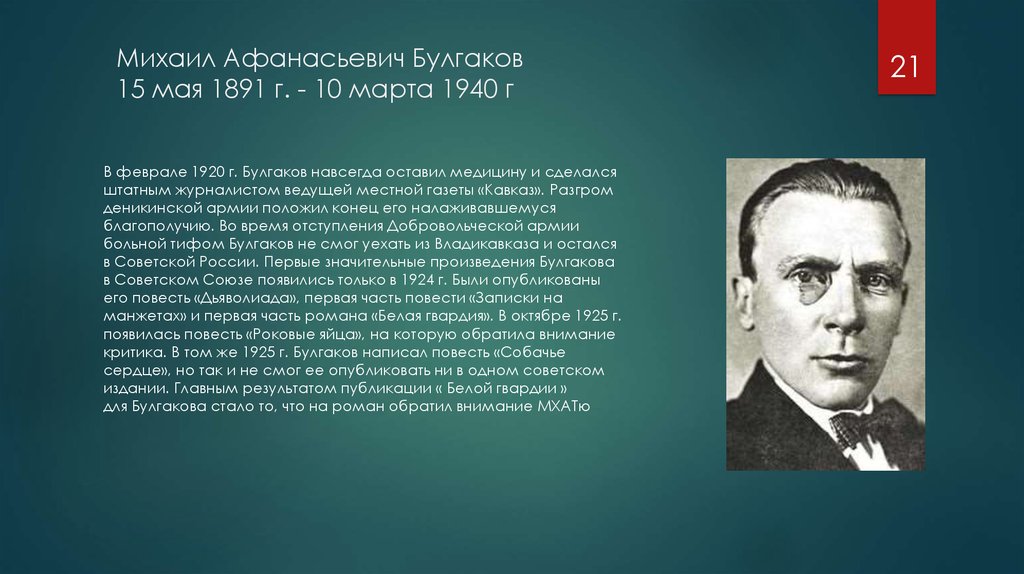 Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа — кристалл!
Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа — кристалл!
Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно.
[1]Сотрудник покойного «Русского слова»… — Исследователи предполагают, что Булгаков в данном случае имел в виду Н. Н. Покровского (дипломата и журналиста, сотрудничавшего в «Русском слове»), редактировавшего в то время владикавказские газеты «Кавказ» и «Кавказская жизнь» (Булгаков входил в состав сотрудников этих газет), но активнейшим (даже ведущим) сотрудником «Русского слова» был и А. В. Амфитеатров, также участвовавший в издании владикавказских газет (попутно заметим, что А. В. Амфитеатров, находясь в эмиграции, выступал с самыми жесткими статьями в адрес «вождей пролетариата»; в самый острый момент схватки между Сталиным и Троцким Амфитеатров так характеризовал их борьбу: «Ибо для нас, опытных, дело сводится к тому, что, как говорит Иван Федорович Карамазов: — Гад жрет другую гадину» (Возрождение. 1927. 10 декабря). Представляет интерес вообще весь состав сотрудников владикавказских газет. Для этого мы приведем выдержку из газеты «Кавказ» (1920. №2. 16 февраля): «Газета выходит при ближайшем участии Григория Петрова, Юрия Слезкина, Евгения Венского, Н. Покровского. Сотрудники газеты: А. В. Амфитеатров, Евгений Венский, Евграф Дольский, Александр Дроздов, Григорий Петров, Н. Покровский, Юрий Слезкин, Дмитрий Цензор, Михаил Булгаков… и др. Редактор Н. Покровский».
1927. 10 декабря). Представляет интерес вообще весь состав сотрудников владикавказских газет. Для этого мы приведем выдержку из газеты «Кавказ» (1920. №2. 16 февраля): «Газета выходит при ближайшем участии Григория Петрова, Юрия Слезкина, Евгения Венского, Н. Покровского. Сотрудники газеты: А. В. Амфитеатров, Евгений Венский, Евграф Дольский, Александр Дроздов, Григорий Петров, Н. Покровский, Юрий Слезкин, Дмитрий Цензор, Михаил Булгаков… и др. Редактор Н. Покровский».
[2]…как диккенсовский Джингль… — Джингль — персонаж романа Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837), предпочитавший в общении «телеграфный стиль». Позже Булгаков прекрасно сыграл роль судьи в инсценировке «Пиквикского клуба» на сцене Художественного театра.
[3]Credito Italiano — крупный банк «Итальянский кредит».
[4]Что? Катастрофа?! — Так в одном возгласе Булгаков раскрывает крах белого движения на Кавказе.
[5]Проклятый февральский туман! — О «февральском тумане» 1920 г. Булгаков так писал в «Необыкновенных приключениях доктора» (глава «Великий провал»): «Хаос. Станция горела. Потом несся в поезде. Швыряло последнюю теплушку… Безумие какое-то. И сюда накатилась волна… Я сыт по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно быть идиотом…»
[6]…да уж не тиф ли, чего доброго? — Из воспоминаний Т. Н. Лаппа: «Михаил работал в военном госпитале. Вскоре его отправили в Грозный… Потом его часть перебросили в Беслан. В это время он начал писать небольшие рассказы и очерки в газеты. А зимой 1920 г. он приехал из Пятигорска и сразу слег. Я обнаружила у него в рубашке насекомое. Все стало ясно — тиф. Я бегала по городу — нашла врача, который взялся лечить коллегу. Но вскоре белые стали уходить из города…»
[7]…только не сейчас! Это было бы ужасно… — Конечно, при нормальных обстоятельствах Булгаков ушел бы вместе со своей частью из Владикавказа. Т. Н. Лаппа не раз рассказывала, что он ругал ее за то, что она не отправила его, больного, со своими. Но это было бы гибельно для Булгакова. Т. Н. Лаппа продолжает: «Несколько раз к нам врывались вооруженные люди, требуя доктора и предлагая для больного транспорт. Но я не позволила увезти тяжелобольного Михаила, хотя рисковала и своей и его жизнью».
Т. Н. Лаппа не раз рассказывала, что он ругал ее за то, что она не отправила его, больного, со своими. Но это было бы гибельно для Булгакова. Т. Н. Лаппа продолжает: «Несколько раз к нам врывались вооруженные люди, требуя доктора и предлагая для больного транспорт. Но я не позволила увезти тяжелобольного Михаила, хотя рисковала и своей и его жизнью».
[8]Леса и горы… Мельников-Печерский. Скит… — П. И. Мельников-Печерский (1818—1883) в своих романах «В лесах» и «На горах» красочно описал жизнь старообрядцев в дальних скитах.
[9]Взбранной Воеводе победительная!.. — Булгаков превосходно знал Евангелие и богослужебные тексты, используя их в своих произведениях. В данном случае писатель приводит начальные слова первого кондака Акафиста Пресвятой Богородице: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавлынеся от злых, благодарственная восписуем Ти рабы Твои, Богородице; но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная».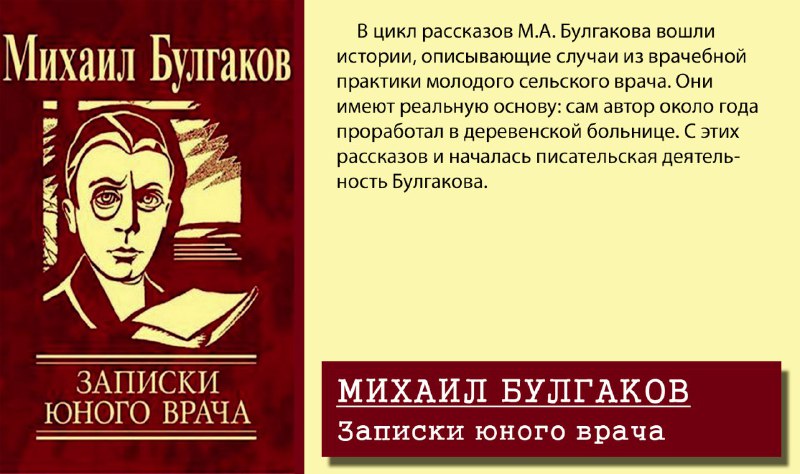
[10]…монашки… васнецевские?.. — Великий русский живописец В. М. Васнецов (1848—1926) особо был дорог киевлянам как художник, возглавлявший росписи величественного Князь-Владимирского собора в Киеве. Им же были прекрасно иллюстрированы и названные книги П. И. Мельникова-Печерского.
[11]— Лариса Леонтьевна… — Лариса Гаврилова, хозяйка дома, где снимали комнату Булгаковы, помогала Т. Н. Лаппа в уходе за больным.
[12]Меня бросят! Бросят! — Булгаков не мог, конечно, впрямую описать весь трагизм своего положения и обозначает его отдельными фразами и возгласами. Между тем жизнь его висела на волоске, поскольку в городе его многие знали как белого офицера и корреспондента белогвардейских газет.
[13]Поймите, еще вчера я должен был быть у него… — Булгаков постоянно говорит о какой-то важной встрече… Об этом же упоминала и Т. Н. Лаппа, но суть не раскрыла.
Лаппа, но суть не раскрыла.
[14]Тьма и сорок один и одна… — Через год Булгаков писал своему двоюродному брату Константину: «Мы расстались с тобой приблизительно год назад. Весной я заболел возвратным тифом, и он приковал меня… Чуть не издох, потом летом опять хворал». Т. Н. Лаппа: «Пришли красные войска. Михаил тяжело перенес болезнь и очень медленно поправлялся. В первое время… он не мог даже самостоятельно передвигаться. И, вооружившись палочкой, под руку со мной, преодолевал небольшие расстояния».
[15]Беллетрист Юрий Слезкин… — Слезкин Юрий Львович (1885—1947), известный писатель, прогремевший еще до революции своим романом «Ольга Ор». В его дневнике, хранящемся в отделе рукописей Российской государственной библиотеки и пока не опубликованном, за исключением отрывков, есть такие примечательные слова: «С Мишей Булгаковым я знаком с зимы 1920 г. Встретились мы во Владикавказе при белых. Он был военным врачом и сотрудничал в газете в качестве корреспондента. Когда я заболел сыпным тифом, его привели ко мне в качестве доктора. Он долго не мог определить моего заболевания, а когда узнал, что у меня тиф, — испугался до того, что боялся подойти близко, и сказал, что не уверен в себе… позвали другого.
Он был военным врачом и сотрудничал в газете в качестве корреспондента. Когда я заболел сыпным тифом, его привели ко мне в качестве доктора. Он долго не мог определить моего заболевания, а когда узнал, что у меня тиф, — испугался до того, что боялся подойти близко, и сказал, что не уверен в себе… позвали другого.
[16]Мама! Мама! Что мы будем делать?! — Булгаков приводит слова популярной в те годы песенки, которая исполнялась и в киевском театре-кабаре «Кривой Джимми»:
[17]Подотдел искусств откроем! — В дневнике Ю. Л. Слезкина: «Белые ушли — организовался ревком, мне поручили заведование подотделом искусств. Булгакова я пригласил в качестве зав. литературной секцией».
[18]…отнаробраз… — отдел народного образования.
[19]И все эти мингрельцы, имери… — Мингрелы, имеретинцы, кахетинцы, картлийцы, сваны, хевсуры — грузинские народности.
[20]С креста снятый, сидит в самом центре писатель… — Эта фраза в какой-то степени проясняет ситуацию с Ликоспасовым-Ликоспастовым — одним из героев «Записок покойника», прототипом которого стал благообразный Юрий Слезкин.
[21]Завподиск — заведующий подотделом искусств.
«Записки на манжете» Михаила Булгакова рецензия – рассказы с фронта | Михаил Булгаков
Одна из непреходящих литературных загадок: почему Иосиф Сталин не уничтожил Михаила Булгакова? Правда, немногие из произведений Булгакова увидели свет при его жизни, но вряд ли это могло помочь писателю, особенно тому, кто так бесстрашно — или безрассудно — выставлял напоказ нелепости коммунистического режима. Один из рассказов здесь, впервые переведенный на английский язык (насколько я могу судить, очень хорошо, Роджером Кокреллом), высмеивает благонамеренную политику большевиков по просвещению масс с помощью рассказа солдата. что он думает о постановке оперы Верди «Травиата» его заставляют посещать (лучше бы он пошел в цирк).
Потом этот директор открыл перед ним какую-то книгу, посмотрел на нее и начал размахивать белой палочкой… И действительно, этот директор казался далеко не последним образованный человек на месте, потому что он делал сразу два дела: читал книгу и размахивал палкой.
Нормальной процедурой для русского писателя, который хотел высмеять систему, было прежде всего убраться к чертям из Советского Союза.
Булгаков наиболее известен своими длинными, более похожими на басни произведениями Мастер и Маргарита и Роковые яйца (название которого вы узнаете из длинного информативного послесловия к Заметки на манжете , содержит многослойный каламбур, настолько непереводимый, что диву даешься, сколько его сути может сохраниться на английском языке). Эти рассказы, однако, были написаны заранее, в начале 1920-х гг.; и, за одним или двумя исключениями, мало склонности к басне или (если использовать этот термин в широком смысле) к сюрреализму.
Что примечательно в Булгакове, так это то, что ему удается сохранять определенную ироническую дистанцию в своих повествованиях, которая ничуть не умаляет актуальности или правдивости того, что он должен сообщить. Это читается так, как будто он спешит все это записать, но он делает это таким образом, что отражает абсурдную черную комедию каждой ситуации. И так Булгаков изобретает свой авангардизм: как будто нет времени или смысла в литературных условностях.
Это очень хорошее место для начала знакомства с Булгаковым, если вы раньше не читали ни одной его работы. Вся его маниакальная энергия здесь; и так, во многом, его талант (в то время он еще раздумывал, не бросить ли свою медицинскую карьеру). Дело еще и в его значительной интеллектуальной честности как писателя: он, так сказать, антипропагандист. Есть версия, что именно эта храбрость поразила и позабавила Сталина и уберегла писателя от ГУЛАГа или тюремной камеры.
Чтобы заказать Notes on a Cuff за 6,39 фунтов стерлингов, посетите сайт bookshop.theguardian.com или позвоните по телефону 0330 333 6846.
Дьяволиада и другие рассказы
Михаил Булгаков
Перевод Hugh Aplin
Alma Classics
в мягкой обложке, 164 PP, ISBN: 9781847494726, 2016
Примечания на манжете и другие истории
от Mikhail Bulgakov
Перевод Roger Cockerel
Alma Classick
Papeback 192 Ppp. , 2014
Эти две красивые и самобытные книги в мягкой обложке являются частью серии, посвященной творчеству русского мастера Михаила Булгакова. Некоторые рассказы в Notes on a Cuff впервые появляются на английском языке, так что это настоящая находка для булгаковцев. Кроме того, обе книги содержат ценный текстовый аппарат: фотографии (Михаил был франтом), заметки и заключительный раздел о жизни и творчестве Булгакова.
Кроме того, обе книги содержат ценный текстовый аппарат: фотографии (Михаил был франтом), заметки и заключительный раздел о жизни и творчестве Булгакова.
Финансовые проблемы Булгакова на протяжении всей его жизни и его во многом бесплодная борьба за признание (при жизни было опубликовано очень мало его произведений, в том числе «Мастер и Маргарита» ) чрезвычайно суровы для нас сегодня, когда так много внимания уделяется достижению целей: в эпоху, когда мы рассчитываем на успех как на более или менее неизбежный, в неудачах можно винить только отдельного человека. Если бы Булгаков пошел на больший компромисс, он бы меньше страдал, но разве это не молчаливое ожидание сегодняшнего дня?
Разум Булгакова был пропитан литературой; он смотрит на мир через призму литературных аллюзий, например, на Достоевского, Гоголя, Некрасова, Пушкина и Толстого, у которых он также черпал вдохновение для своих произведений. Чем больше узнаешь о его борьбе со сталинскими цензорами и тайной полицией, о запутанной бюрократии тоталитарного государства и его упорстве на пропагандистской функции искусства, тем больше понимаешь, насколько уместным — реалистичным даже — было инстинктивное обращение Булгакова к мечтам и аллегориям. в том, что сегодня назвали бы «магическим реализмом». Если использовать пример из совершенно другого контекста, то это все равно, что обнаружить, что Синклер Льюис, далеко не циничный сатирик своего собственного общества, на самом деле был его беспристрастным наблюдателем.
в том, что сегодня назвали бы «магическим реализмом». Если использовать пример из совершенно другого контекста, то это все равно, что обнаружить, что Синклер Льюис, далеко не циничный сатирик своего собственного общества, на самом деле был его беспристрастным наблюдателем.
Записки на манжете и другие рассказы содержит в основном фрагментарные и незначительные произведения начала 1920-х годов: рассказы и публицистические очерки, написанные в то время, когда Булгаков пытался зарекомендовать себя как писатель (в этом он так и не преуспел усилия, несмотря на некоторый успех с пьесами, написанными для театра). Notes on a Cuff поэтому не является хорошим началом для читателей, плохо знакомых с Булгаковым, и больше подходит для преданных учеников.
Изюминкой сборника для меня являются одноименная повесть Записки на манжете и Убийца , последняя из которых построена более условно, чем большинство других произведений, но пробуждает хаос и нравственный ужас русской Гражданские войны чем-то напоминают Белая гвардия, замечательный роман, написанный двумя годами ранее . Также иллюстрирует одну из ключевых тем булгаковского творчества : путь интеллектуала от размышлений к действию при столкновении со злом.
Также иллюстрирует одну из ключевых тем булгаковского творчества : путь интеллектуала от размышлений к действию при столкновении со злом.
Рассказ Заметки на манжете явно вдохновлен собственным журналистским опытом Булгакова и содержит великолепную сцену, в которой рассказчик ищет свой офис (пропавший за одну ночь) в лабиринтообразном здании с явными аллегорическими резонансами и кошмарными ассоциациями. Здесь неизбежно вспоминается Кафка, но Кафки описывает современную бюрократию, неумолимую в своей рациональности и безличности, тогда как булгаковский мир наполнен враждебностью, мелкими тиранами и всякого рода иррациональностью.
До этого чтения я читал Булгакова только во французском переводе, который включает версию Барбары Назарофф Le Feu du Khan Tougaï ( The Fire of the Khans ) и J’ai tué ( The Murderer). ), оба из которых переведены здесь Роджером Кокреллом. Оба переводчика отлично справляются с переводом этих историй на ясный и понятный язык.
С другой стороны, примечания переводчика к рассказам в Notes on a Cuff часто носят формальный характер – в случае с первым рассказом Notes on a Cuff это может сбить с толку. Например, примечание к заголовку «Не хуже Кнута Гамсуна» сообщает нам, что Гамсун (1859–1952) был «норвежским писателем». Если сочли нужным сообщить нам об этом, то почему бы не упомянуть еще, что Гамсун написал в 1890 году роман под названием « Голод », который тогда объяснял бы булгаковскую шутку в единственной строке текста под заголовком: «Я голодаю…» ? В этом и других случаях полезно было бы узнать, что это был за писатель или поэт: русская литература того времени была очагом различных школ и течений, так что просто сказать, что Осип Мандельштам, например, был «поэтом» вряд ли информативен.
Точно так же, хотя большая часть биографии представлена в конце книги, было бы также полезно включить короткий абзац контекстуализации для каждой из частей либо в основной текст, либо в качестве предварительного примечания. Французский перевод обеспечивает эту контекстуализацию, так что истории не остаются в своего рода социальном и эстетическом вакууме.
Французский перевод обеспечивает эту контекстуализацию, так что истории не остаются в своего рода социальном и эстетическом вакууме.
Другой рецензируемый том, Diaboliad and Other Stories , снова содержит второстепенные фрагменты, кроме рассказа Дьяволиада сама по себе, которая вместе с Собачье сердце вызывает в воображении тот же мир, что и шедевр Булгакова, Мастер и Маргарита . Однако, боюсь, у меня возникли проблемы с переводом Хью Аплина Diaboliad , который создает впечатление, что он больше склоняется к букве, чем к духу оригинала. Такие конструкции, как «С отрывистым лязгом он сбежал [по лестнице]» и «Снизу навстречу ему слышны шаги» не только звучат странно и утомительно, но и служат для передачи боевого и все более отчаявшегося Короткова (центральная персонаж) как несколько отстраненная и безличная фигура. Сравните исполнение тех же предложений Франсуазой Фламан: «Он бежал вниз [по лестнице], его каблуки стучали на каждой ступеньке»; «Он услышал звук шагов снизу» (мой английский перевод). Французская версия дает читателю ощущение предприимчивости Короткова и его преднамеренности, что поощряет наше участие в том, что часто является чрезвычайно забавной историей; английская версия имеет тенденцию запирать нас снаружи, равнодушных и безразличных. Очень жаль.
Французская версия дает читателю ощущение предприимчивости Короткова и его преднамеренности, что поощряет наше участие в том, что часто является чрезвычайно забавной историей; английская версия имеет тенденцию запирать нас снаружи, равнодушных и безразличных. Очень жаль.
Подтвержденные любители Михаила Булгакова захотят прочитать эти сборники для полноты картины. Другие захотят сначала прочитать основные произведения: Белая гвардия и Мастер и Маргарита в частности.
О рецензенте: Джек Мессенджер — британский писатель и рецензент художественной литературы, который также ведет блоги о писательстве, фильмах и обо всем, что ему интересно. Он редактирует Interventions, Международный журнал постколониальных исследований, и в настоящее время является читателем материалов для Red Line, онлайн-литературного журнала. Его роман «Долгое путешествие домой» разошелся по агентам и издателям. Его можно найти в его блоге http://jackmessenger.co.

