Вариант 2 » Незнайка — варианты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 2022
Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания 1.1—1.3.
Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река ещё не замерзала, и её свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече» — отвечал он. — «Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окружённой бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирды сена, полузанесённые снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она» ,— отвечал ямщик указывая на деревушку, и с этим словом мы в неё въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.
С одной стороны стояли три или четыре скирды сена, полузанесённые снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она» ,— отвечал ямщик указывая на деревушку, и с этим словом мы в неё въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.
Никто не встретил меня. Я пошёл в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зелёного мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка» — отвечал инвалид, — наши дома». Я вошёл в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая своё занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, — сказала она, — он пошёл в гости к отцу Герасиму; да всё равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, — сказал он, — вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», — продолжал неутомимый вопрошатель.
У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая своё занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, — сказала она, — он пошёл в гости к отцу Герасиму; да всё равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, — сказал он, — вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», — продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки» — сказала ему капитанша, — ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя… (держи-ка руки прямее…). А ты, мой батюшка, — продолжала она, обращаясь ко мне, — не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведён за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да ещё при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».
«Полно врать пустяки» — сказала ему капитанша, — ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя… (держи-ка руки прямее…). А ты, мой батюшка, — продолжала она, обращаясь ко мне, — не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведён за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да ещё при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».
А.С. Пушкин «Капитанская дочка»
— А, чай, много с вами бывало приключений? — сказал я, подстрекаемый любопытством.
— Как не бывать! бывало…
Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку — желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел; я вытащил из чемодана два походных стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» Это восклицание подало мне большие надежды.
Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» Это восклицание подало мне большие надежды.
Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), вот изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой — этому скоро пять лет. Раз осенью пришёл транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нём мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно… ну да мы с вами будем жить по-приятельски… Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и, пожалуйста, — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.
— А как его звали? — спросил я Максима Максимыча.
— Его звали… Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен.
«За мной, мой читатель…»: ОГЭ по литературе
1.1.1. Как описание комнаты коменданта характеризует её хозяев? (по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка») «Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро.
Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро.
Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира.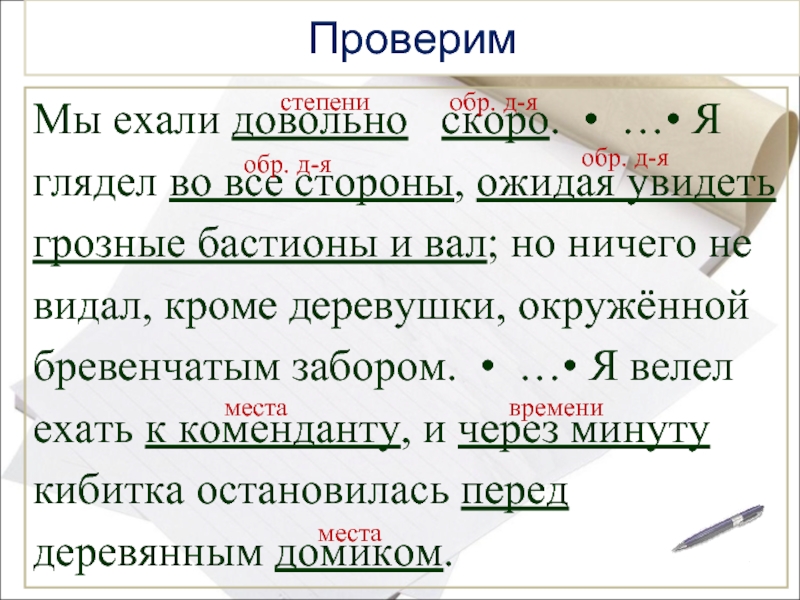 Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка», — отвечал инвалид: — «наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет» — сказала она; — «он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством.
Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка», — отвечал инвалид: — «наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет» — сказала она; — «он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством.
При описании комнаты коменданта рассказчик замечает чистоту и старинное убранство дома, что характеризует хозяев как людей, придерживающихся традиций и обычаев. Офицерский диплом в рамке сообщает читателю о военном звании коменданта. Висевшие на стене картинки, изображающие взятие крепости, тоже свидетельствуют о военной службе хозяев, простоте их быта и нравов. Катя Л.
Офицерский диплом в рамке сообщает читателю о военном звании коменданта. Висевшие на стене картинки, изображающие взятие крепости, тоже свидетельствуют о военной службе хозяев, простоте их быта и нравов. Катя Л.
1.1.3. Сравните приведённый фрагмент с эпизодом из романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» (фрагмент повести «Бэла»). Чем похожи изображённые в них ситуации?
«— А, чай, много с вами бывало приключений? — сказал я, подстрекаемый любопытством.
— Как не бывать! бывало… Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку — желание, свойственное всем путешествующим, и записывающим людям. Между тем чай поспел; я вытащил из чемодана два походных стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» Это восклицание подало мне большие надежды… Раз осенью пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно… ну да мы с вами будем жить по-приятельски… Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Макси-мыч, и, пожалуйста, — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости. — А как его звали? — спросил я Максима Максимыча. — Его звали… Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен». В приведённых фрагментах оба главных героев – Пётр Гринёв и Печорин – молодые офицеры, переведённые на службу в крепость (гарнизон).
Раз осенью пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно… ну да мы с вами будем жить по-приятельски… Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Макси-мыч, и, пожалуйста, — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости. — А как его звали? — спросил я Максима Максимыча. — Его звали… Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен». В приведённых фрагментах оба главных героев – Пётр Гринёв и Печорин – молодые офицеры, переведённые на службу в крепость (гарнизон). Гринёв знакомится с капитаншей, и впоследствии они становятся приятелями. Печорина встречает Максим Максимыч, штабс-капитан, с которым герой тоже «заживёт по-приятельски». По приезде обоих героев предупреждают, что пребывание на службе будет скучным. «… не печалься, что тебя упекли в наше захолустье… Стерпится, слюбится», — успокаивает Гринёва капитанша. Также Максим Максимыч и капитан Мироном – типичные образы «маленького человека» в литературе, скромные и достойные офицеры русской армии.
Гринёв знакомится с капитаншей, и впоследствии они становятся приятелями. Печорина встречает Максим Максимыч, штабс-капитан, с которым герой тоже «заживёт по-приятельски». По приезде обоих героев предупреждают, что пребывание на службе будет скучным. «… не печалься, что тебя упекли в наше захолустье… Стерпится, слюбится», — успокаивает Гринёва капитанша. Также Максим Максимыч и капитан Мироном – типичные образы «маленького человека» в литературе, скромные и достойные офицеры русской армии. «Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою, девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничто в природе не могло быть лучше их. Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный Бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще.
Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный Бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще.

 Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, козаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, кракаиье; все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем ночном воздухе и доходило до слуха гармоническим. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянною блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летели по темному небу.
Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, козаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих. Они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, кракаиье; все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем ночном воздухе и доходило до слуха гармоническим. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянною блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летели по темному небу. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!» Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что козаков было тринадцать человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина!., и не пробуйте — вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта». Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающей в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали далее путь».
По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: «Смотрите, детки, вон скачет татарин!» Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что козаков было тринадцать человек. «А ну, дети, попробуйте догнать татарина!., и не пробуйте — вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта». Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающей в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть след свой, и тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали далее путь». В приведённом фрагменте текста подробно описывается степь – «бесконечная, вольная и прекрасная». Автор, как и казаки, восхищается её природой, растительным и животным миром, особенно дикими птицами, будто сравнивая их с героями произведения.
Картины природы сопутствуют описанию казаков, потому что степь – это их родина и дом, в котором они привыкли спать под открытым небом и на сырой земле, «слушая бесчисленный мир насекомых…» А при изображении поляков не используется описание природы, ведь эта земля им не принадлежит, степь не может быть схожа с их переживаниями и чувствами. Даша К., 9Б
1.1.2. Какова роль детали в поведении доктора Вернера: «Он против обыкновения не протянул мне руки»? (по роману «Герой нашего времени»)
«Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, хрипя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.
Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! — одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ей руку.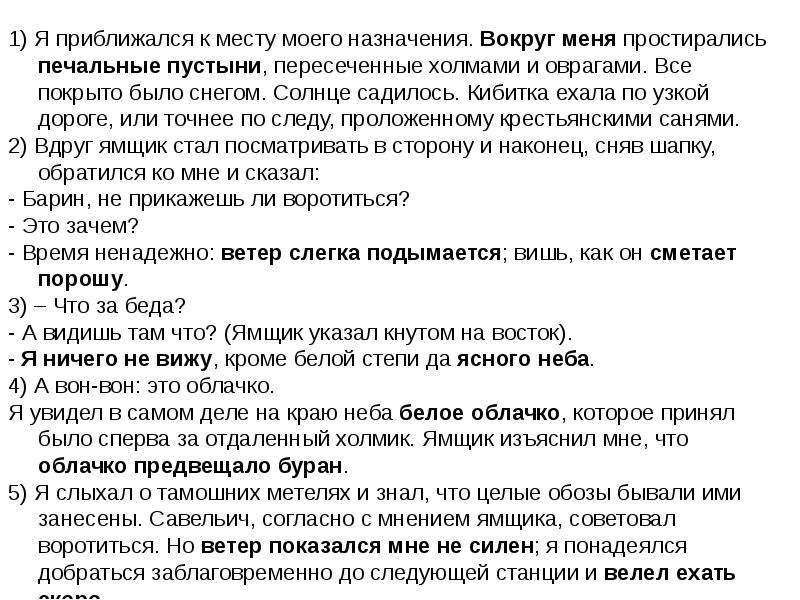 .. Я молился, проклинал, плакал, смеялся… нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей… И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте… Оставалось пять верст до Ессентуков — казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь. Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод — напрасно: едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду; попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал.
.. Я молился, проклинал, плакал, смеялся… нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей… И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте… Оставалось пять верст до Ессентуков — казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь. Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод — напрасно: едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду; попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал. И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие — исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горячую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться. Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула-пистолета и пустой желудок. Все к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.
И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие — исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горячую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться. Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула-пистолета и пустой желудок. Все к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих. Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо. Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук — и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огни в строеньях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, в доме княгини было темно. Взошел доктор: лоб у него был нахмурен; и он, против обыкновения, не протянул мне руки. — Откуда вы, доктор? — От княгини Лиговской; дочь ее больна — расслабление нервов… Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал… как бишь его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь.
Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо. Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук — и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огни в строеньях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, в доме княгини было темно. Взошел доктор: лоб у него был нахмурен; и он, против обыкновения, не протянул мне руки. — Откуда вы, доктор? — От княгини Лиговской; дочь ее больна — расслабление нервов… Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал… как бишь его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь. Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку… и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень — и он вышел. Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..»
Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку… и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень — и он вышел. Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..»Художественная деталь в поведении доктора Вернера («…не протянул руки») показывает отношение героя к Печорину и передаёт серьёзность разговора. Ведь после дуэли между героями возникло недопонимание, доктор не мог поверит в смерть Грушницкого. Из-за этого проявляет холодность по отношению к Печорину, который отвечает тем же, не пожав руки на прощание. Настя Н., 9Б
1.1.3. Сравните приведённый фрагмент с фрагментом из повести И.С.Тургенева «Ася».
 Чем различаются герои?
Чем различаются герои?«Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, хрипя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге. Солнце уже спряталось в чёрной туче, отдыхавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не застать уже её в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! — одну минуту, ещё одну минуту видеть её, проститься, пожать ей руку… Я молился, проклинал, плакал, смеялся… нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять её навеки Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей… И между тем я всё скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте.
 .. Оставалось пять вёрст до Ессентуков — казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь. Всё было бы спасено, если б у моего коня достало сил ещё на десять минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дёргаю за повод — напрасно: едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду; попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнурённый тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребёнок заплакал. И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слёз и рыданий; я думал, грудь моя разорвётся; вся моя твёрдость, всё моё хладнокровие — исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горячую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно.
.. Оставалось пять вёрст до Ессентуков — казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь. Всё было бы спасено, если б у моего коня достало сил ещё на десять минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дёргаю за повод — напрасно: едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду; попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнурённый тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребёнок заплакал. И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слёз и рыданий; я думал, грудь моя разорвётся; вся моя твёрдость, всё моё хладнокровие — исчезли как дым. Душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горячую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне ещё надобно? — её видеть? — зачем? не всё ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.
Чего мне ещё надобно? — её видеть? — зачем? не всё ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведённая без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок. Всё к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принуждён на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих. Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо. Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворённого окна, расстегнул архалук — и горный ветер освежил грудь мою, ещё не успокоенную тяжёлым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, её осеняющих, мелькали огни в строеньях крепости и слободки.
 На дворе у нас всё было тихо, в доме княгини было темно. Взошёл доктор: лоб у него был нахмурен; и он, против обыкновения, не протянул мне руки. Откуда вы, доктор? От княгини Лиговской; дочь её больна — расслабление нервов… Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за её дочь. Ей всё этот старичок рассказал… как бишь его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришёл вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь. Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку… и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень, — и он вышел. Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности.
На дворе у нас всё было тихо, в доме княгини было темно. Взошёл доктор: лоб у него был нахмурен; и он, против обыкновения, не протянул мне руки. Откуда вы, доктор? От княгини Лиговской; дочь её больна — расслабление нервов… Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за её дочь. Ей всё этот старичок рассказал… как бишь его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришёл вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь. Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку… и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень, — и он вышел. Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..»
Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..» «В Кёльне я напал на след Гагиных; я узнал, что они поехали в Лондон; я пустился вслед за ними; но в Лондоне все мои розыски остались тщетными. Я долго не хотел смириться, долго упорствовал, но я должен был отказаться, наконец, от надежды настигнуть их. И я не увидел их более — я не увидел Аси. Тёмные слухи доходили до меня о нём, но она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она. Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидал за границей, в вагоне железной дороги, женщину, лицо которой живо напомнило мне незабвенные черты… но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Ася осталась в моей памяти той самой девочкой, какою я знавал её в лучшую пору моей жизни, какою я её видел в последний раз, наклонённой на спинку низкого деревянного стула. Впрочем, я должен сознаться, что я не слишком долго грустил по ней; я даже нашёл, что судьба хорошо распорядилась, не соединив меня с Асей; я утешался мыслию, что я, вероятно, не был бы счастлив с такой женой.
 Я был тогда молод — и будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, и ещё лучше, ещё прекраснее?.. Я знавал других женщин, — но чувство, возбуждённое во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовию устремлённых на меня глаз, ни на чьё сердце, припавшее к моей груди, не отвечало моё сердце таким радостным и сладким замиранием! Осуждённый на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, её записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издаёт слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле…» В романе «Герой нашего времени» главный герой Печорин понимает, что «гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно», в этом он похож на Гагина из повести «Ася».
Я был тогда молод — и будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, и ещё лучше, ещё прекраснее?.. Я знавал других женщин, — но чувство, возбуждённое во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовию устремлённых на меня глаз, ни на чьё сердце, припавшее к моей груди, не отвечало моё сердце таким радостным и сладким замиранием! Осуждённый на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, её записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издаёт слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле…» В романе «Герой нашего времени» главный герой Печорин понимает, что «гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно», в этом он похож на Гагина из повести «Ася». Печорин торопится в Пятигорск, чтобы догнать Веру, но на полпути его конь падает. Герой начинает рассуждать о своей жизни и понимает, что глупо бежать за ушедшим счастьем. Гагин упускает своё счастье, испугавшись мнения общества, и потом жалеет об этом. Каждая девушка кажется ему Асей, но позже герой осознаёт, что такой, как она, больше нет. Настя Н., 9Б
Печорин торопится в Пятигорск, чтобы догнать Веру, но на полпути его конь падает. Герой начинает рассуждать о своей жизни и понимает, что глупо бежать за ушедшим счастьем. Гагин упускает своё счастье, испугавшись мнения общества, и потом жалеет об этом. Каждая девушка кажется ему Асей, но позже герой осознаёт, что такой, как она, больше нет. Настя Н., 9Б1.1.2. Какую роль в приведённом эпизоде играет описание внешности Вулича? <…> мы засиделись у майора С*** очень долго; разговор, против обыкновения, был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro или contra1. — Всё это, господа, ничего не доказывает, — сказал старый майор, — ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми вы подтверждаете свои мнения. — Конечно, никто! — сказали многие, — но мы слышали от верных людей.
 .. — Всё это вздор! — сказал кто-то, — где эти верные люди, видевшие список, на котором означен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчёт в наших поступках? В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени. Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, чёрные волосы, чёрные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, — всё это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи. Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, которых прелесть трудно постигнуть, не видав их, он никогда не волочился.
.. — Всё это вздор! — сказал кто-то, — где эти верные люди, видевшие список, на котором означен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчёт в наших поступках? В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени. Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, чёрные волосы, чёрные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, — всё это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи. Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, которых прелесть трудно постигнуть, не видав их, он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали. Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зелёным столом он забывал всё и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк; ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк»! — кричал Вулич, не подымаясь,одному из самых горячих понтёров. — «Идёт семёрка», — отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью; карта была дана. Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтёра. — Семёрка дана! — закричал он, увидав его наконец в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля, и, подойдя ближе, он вынул свой кошелёк и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа.
Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали. Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зелёным столом он забывал всё и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк; ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк»! — кричал Вулич, не подымаясь,одному из самых горячих понтёров. — «Идёт семёрка», — отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью; карта была дана. Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтёра. — Семёрка дана! — закричал он, увидав его наконец в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля, и, подойдя ближе, он вынул свой кошелёк и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Когда поручик Вулич подошёл к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки. — Господа! — сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного), —господа, к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнию, или каждому из нас заранее назначена роковая минута… Кому угодно? — Не мне, не мне! — раздалось со всех сторон, — вот чудак! придёт же в голову!.. — Предлагаю пари, — сказал я шутя. — Утверждаю, что нет предопределения, — сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев, всё, что было у меня в кармане. — Держу, — отвечал Вулич глухим голосом.
Когда поручик Вулич подошёл к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки. — Господа! — сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного), —господа, к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнию, или каждому из нас заранее назначена роковая минута… Кому угодно? — Не мне, не мне! — раздалось со всех сторон, — вот чудак! придёт же в голову!.. — Предлагаю пари, — сказал я шутя. — Утверждаю, что нет предопределения, — сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев, всё, что было у меня в кармане. — Держу, — отвечал Вулич глухим голосом. 1 Pro или contra — за или против Описание внешности Вулича помогает читателю понять внутренний мир героя. Такие детали портрета как «проницательные глаза», «холодная улыбка» передают психологическое состояние поручика, его отстранённость и обособленность от окружающих.
 Эпитеты «торжественный взгляд» и «печальная улыбка» показывают серьёзность и холодность характера Вулича. Катя Л.,9 класс
Эпитеты «торжественный взгляд» и «печальная улыбка» показывают серьёзность и холодность характера Вулича. Катя Л.,9 класс1. Как, исходя из данного фрагмента, можно охарактеризовать отношение героев друг к другу? 2. Какие черты характера Фамусова проявляются в его репликах в приведённой сцене?
3. Сопоставьте рассматриваемую сцену комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» с эпизодом из романа А.С. Пушкина «Дубровский». Чем различаются ситуации, описанные в этих фрагментах?
A! Александр Андреич, просим, Чацкий Вы заняты? Да, разные дела на память в книгу вносим, Забудется, того гляди. Вы что-то не весёлы стали; Скажите, отчего? Приезд не в пору мой? Уж Софье Павловне какой Не приключилось ли печали?.. У вас в лице, в движеньях суета. Ах! батюшка, нашёл загадку: Не весел я!.. В мои лета Не можно же пускаться мне вприсядку! Никто не приглашает вас; Я только что спросил два слова Об Софье Павловне: быть может, нездорова? Тьфу, Господи прости! Пять тысяч раз Твердит одно и то же! То Софьи Павловны на свете нет пригоже, То Софья Павловна больна.
 Скажи, тебе понравилась она? Обрыскал свет; не хочешь ли жениться? Меня не худо бы спроситься, Ведь я ей несколько сродни; По крайней мере, искони Отцом недаром называли. Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали? Сказал бы я, во-первых: не блажи, Именьем, брат, не управляй оплошно, А, главное, поди-тка послужи. Служить бы рад, прислуживаться тошно. (А.С. Грибоедов. «Горе от ума»)
Скажи, тебе понравилась она? Обрыскал свет; не хочешь ли жениться? Меня не худо бы спроситься, Ведь я ей несколько сродни; По крайней мере, искони Отцом недаром называли. Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали? Сказал бы я, во-первых: не блажи, Именьем, брат, не управляй оплошно, А, главное, поди-тка послужи. Служить бы рад, прислуживаться тошно. (А.С. Грибоедов. «Горе от ума») Кирила Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. При появлении Марьи Кириловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным. – Подойди сюда, Маша, – сказал Кирила Петрович, – скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает. Маша остолбенела, смертная бледность покрыла её лицо. Она молчала. Князь к ней подошёл, взял её руку и с видом тронутым спросил: согласна ли она сделать его счастие. Маша молчала. – Согласна, конечно, согласна, – сказал Кирила Петрович, – но знаешь, князь, девушке трудно выговорить это слово.
 Ну, дети, поцалуйтесь и будьте счастливы. Маша стояла неподвижно, старый князь поцеловал её руку, вдруг слёзы побежали по её бледному лицу. Князь слегка нахмурился. – Пошла, пошла, пошла, – сказал Кирила Петрович, – осуши свои слёзы и воротись к нам веселёшенька. Они все плачут при помолвке, – продолжал он, обратясь к Верейскому, – это у них уж так заведено… Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом. (А.С. Пушкин. «Дубровский»)
Ну, дети, поцалуйтесь и будьте счастливы. Маша стояла неподвижно, старый князь поцеловал её руку, вдруг слёзы побежали по её бледному лицу. Князь слегка нахмурился. – Пошла, пошла, пошла, – сказал Кирила Петрович, – осуши свои слёзы и воротись к нам веселёшенька. Они все плачут при помолвке, – продолжал он, обратясь к Верейскому, – это у них уж так заведено… Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом. (А.С. Пушкин. «Дубровский»)2. В обоих фрагментах представлены схожие ситуации: отец намеревается выгодно выдать замуж свою дочь, не считаясь с её чувствами. Так, Фамусов после расспросов Чацкого о Софье спрашивает у него: «…не хочешь ли жениться?» Герой проявляет не столько заботу о дочери, сколько мечтает о богатом муже для неё и собственном самоутверждении, положении в обществе, поэтому даёт практические советы Чацкому: «… поди-тка послужи».
В романе Пушкина в отличие от комедии Грибоедова отец уже принял решение за дочь, не спросив её согласия: «Вот тебе жених.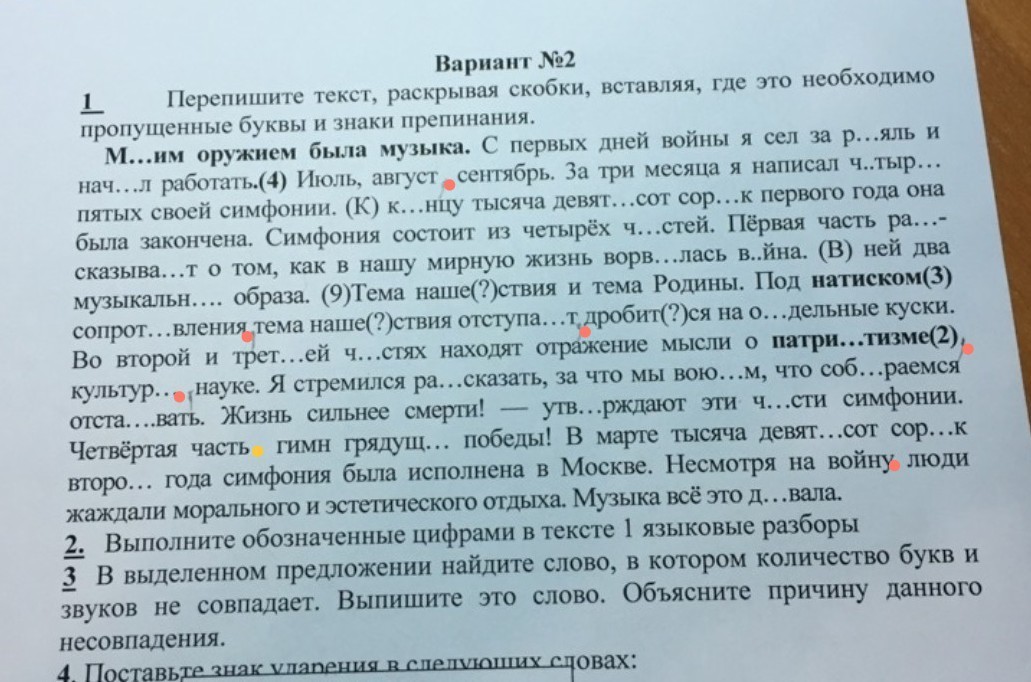 ..» Троекурова волнуют не чувства Маши, а денежный вопрос: «Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом».
..» Троекурова волнуют не чувства Маши, а денежный вопрос: «Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом».
Оренбург. Командировочный отчет
Февраль 2008 г.
В Оренбург попасть нелегко – туда летают исключительно «Оренбургские авиалинии» на «тушках» далеко не первой свежести. Монополия, однако. Полдня просидели в аэропорту из-за поломки самолета. Протекает бензобак. «Он сам прохудился, ми его даже не проковиривали».
Из Москвы лететь 2 часа. На те же два часа в Оренбурге время опережает московское, как и на всем Урале. Впрочем, по какой-то странной случайности Оренбург отнесли к Поволжскому Федеральному округу – такой неуклюжей была попытка в очередной раз реформировать административное устройство нашей необъятной страны.
Когда я был в Оренбурге, здесь как раз снимали очередной костюмированный сериал по мотивам «Капитанской дочки» Александра Сергеевича. Кто-то всегда находится рядом с великим… Не смогу сказать вам точно, что именно снимали – я давно уже не смотрю телевизор, зато довелось посмотреть Оренбург.
Кто-то всегда находится рядом с великим… Не смогу сказать вам точно, что именно снимали – я давно уже не смотрю телевизор, зато довелось посмотреть Оренбург.
«Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика. «Недалече, – отвечал он. – Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой – скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» – спросил я с удивлением. «Да вот она», – отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

А.С. Пушкин «Капитанская дочка»
Городов, чьи названия заканчиваются на -бург, в России по меньшей мере 3: один был назван в честь Петра I, известного «западника», прорубившего окно в Европу. Второму досталось имя его женушки, не слишком стыдливой немки, и суждено ему было стать воротами в Сибирь. В третьем начинался путь в Среднюю Азию, но кто таков этот загадочный Орен?
На самом деле, Оренбург первоначально был основан на реке Орь и без премудрствования, но на немецкий лад назван «городом на реке Орь». Затем его вместе с именем перенесли на новое место, ниже по реке Яик. А потом – еще раз, еще западнее, и опять под тем же названием. В итоге нынешний Оренбург оказался почти в 300 км от реки, по которой когда-то был назван.
Река Яик после Пугачевского восстания была переименована в Урал, ибо императрица Екатерина без содрогания не могла слышать это грозное имя.
Грозный Урал скован льдом… Впрочем, в черте Оренбурга он кажется небольшой речушкой.
Кстати, о немцах… Какое-то время назад властями города было принято решение превратить местный ЦПКиО в образцовый музей под открытым небом с несколько фамильярным названием «Салют, Победа!» (имеется ввиду, разумеется, победа в Великой Отечественной войне).
В Оренбург свезли целую кучу всякой военной техники и даже умудрились воткнуть в землю как бы подбитый немецкий бомбардировщик. Вот так неожиданно для себя авторы идеи почти реализовали мечту Адольфа Гитлера «выбомбить из войны последний большевистский район за Уралом». Но мы-то с вами знаем, что у Гитлера ни физических, ни даже теоретических шансов долететь до Урала на бомбардировщике не было! Поэтому, каким бы циником я бы вам не показался, все же санитарный поезд – самый справедливый и верный экспонат в этом музее под открытым небом.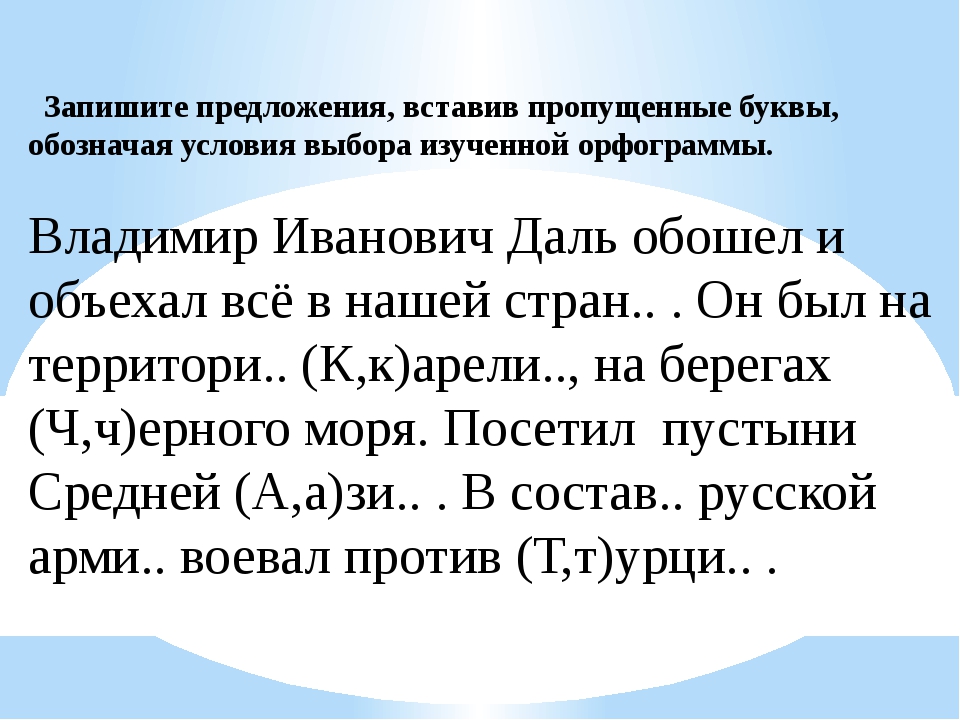
По реке Урал проходит граница между Европой и Азией. Естественно, она отмечена монументами внушительных размеров.
Мост через реку Урал
Но из Европы в Азию можно перебраться не только по мосту: в Оренбурге действует канатная дорога. Жаль, что времени у нас было совсем чуть-чуть, иначе я обязательно бы покатался!
Приглашение в свадебное путешествие из Европы в Азию
Короткая деловая поездка приблизилась к концу. Надо было купить в качестве сувенира оренбургский пуховый платок и ехать в аэропорт.
Оренбург оставил чувство легкой недосказанности – кажется, он не торопился открыться передо мной. Впрочем, свободного времени почти не было, да и холода стояли вполне южноуральские – температура уверенно держалась на отметке в минус 30 (так что пуховые платки местным казачкам весьма кстати!).
Наверное, придется вернуться сюда снова!
Похожие отчеты:
Глава III Крепость. Повести
Глава III
Крепость
Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку:
Зарядим картечью пушку.
Солдатская песня
Старинные люди, мой батюшка.
Недоросль[47]
Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика. «Недалече, – отвечал он. – Вон уж видна». – Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» – спросил я с удивлением. «Да вот она», – отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.
Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика. «Недалече, – отвечал он. – Вон уж видна». – Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» – спросил я с удивлением. «Да вот она», – отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.
Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне.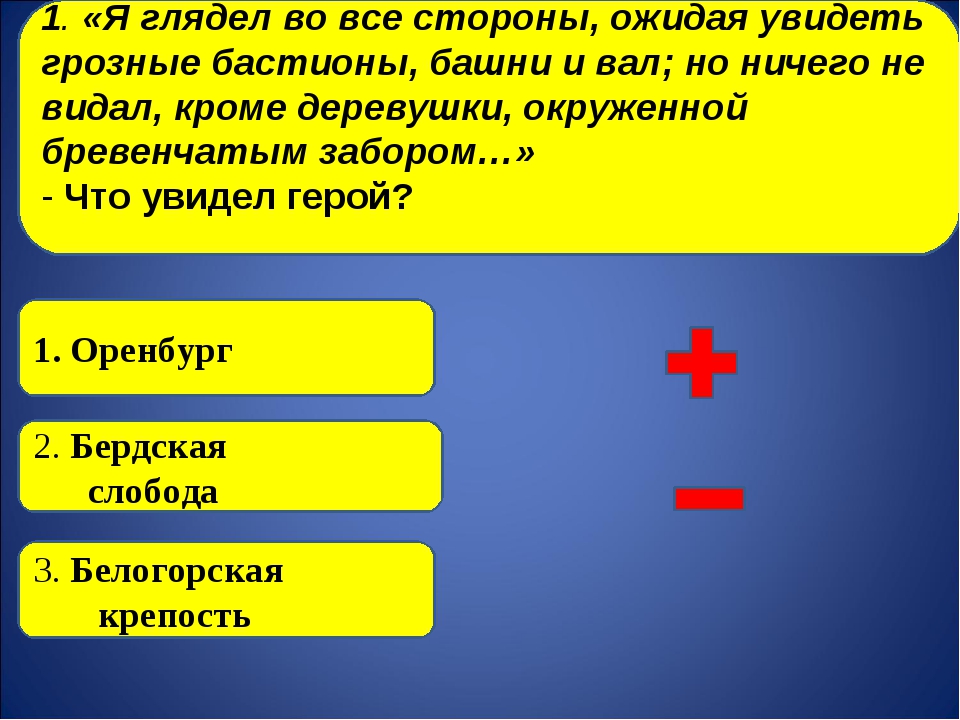 «Войди, батюшка, – отвечал инвалид, – наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова[48], также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» – спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, – сказала она, – он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством.
«Войди, батюшка, – отвечал инвалид, – наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова[48], также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» – спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, – сказала она, – он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, – сказал он, – вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, – продолжал он, – зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», – продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки, – сказала ему капитанша, – ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя… (держи-ка руки прямее…). А ты, мой батюшка, – продолжала она, обращаясь ко мне, – не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».
«Смею спросить, – сказал он, – вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, – продолжал он, – зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», – продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки, – сказала ему капитанша, – ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя… (держи-ка руки прямее…). А ты, мой батюшка, – продолжала она, обращаясь ко мне, – не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».
В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимыч! – сказала ему капитанша. – Отведи г. офицеру квартиру, да почище». – «Слушаю, Василиса Егоровна, – отвечал урядник. – Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» – «Врешь, Максимыч, – сказала капитанша, – у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи г. офицера… как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, все ли благополучно?»
– Отведи г. офицеру квартиру, да почище». – «Слушаю, Василиса Егоровна, – отвечал урядник. – Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» – «Врешь, Максимыч, – сказала капитанша, – у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи г. офицера… как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, все ли благополучно?»
– Все, слава Богу, тихо, – отвечал казак, – только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.
– Иван Игнатьич! – сказала капитанша кривому старичку. – Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с Богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру.
Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы, довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи Владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»
Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи Владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»
На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня, – сказал он мне по-французски, – что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». – Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.
– Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.
Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь, – прибавил он, – нечего вам смотреть».
Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! – сказала комендантша. – Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» – Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава Богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». – Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? – сказала ему жена. – Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». – «А слышь ты, Василиса Егоровна, – отвечал Иван Кузмич, – я был занят службой: солдатушек учил». – «И, полно! – возразила капитанша. – Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь.
Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! – сказала комендантша. – Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» – Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава Богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». – Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? – сказала ему жена. – Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». – «А слышь ты, Василиса Егоровна, – отвечал Иван Кузмич, – я был занят службой: солдатушек учил». – «И, полно! – возразила капитанша. – Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да Богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».
Сидел бы дома да Богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».
Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли! – сказала она, – ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка, да слава Богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости Бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою». – Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, – сказал я довольно некстати, – что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». – «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» – спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», – отвечал я. «Пустяки! – сказал комендант. – У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы – народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». – «И вам не страшно, – продолжал я, обращаясь к капитанше, – оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» – «Привычка, мой батюшка, – отвечала она. – Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи Господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».
«Пустяки! – сказал комендант. – У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы – народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». – «И вам не страшно, – продолжал я, обращаясь к капитанше, – оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» – «Привычка, мой батюшка, – отвечала она. – Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи Господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».
– Василиса Егоровна прехрабрая дама, – заметил важно Швабрин. – Иван Кузмич может это засвидетельствовать.
– Да, слышь ты, – сказал Иван Кузмич, – баба-то не робкого десятка.
– А Марья Ивановна? – спросил я, – так же ли смела, как и вы?
– Смела ли Маша? – отвечала ее мать. – Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.
До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.
Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРесТекст песни А. С. Пушкин
Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече, — отвечал он. — Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.
Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече, — отвечал он. — Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.
Belogorsky Fortress was forty versts from Orenburg. The road ran along the steep bank of Yaik. The river was not yet freezing, and its leaden waves sadly blackened in monotonous banks, covered with white snow. Behind them stretched the Kirghiz steppes. I plunged into meditations, mostly sad. Garrison life had little appeal for me. I tried to imagine Captain Mironov, my future boss, and pictured him as a strict, angry old man who knew nothing but his service and was ready to imprison me for bread and water for every trifle. Meanwhile, the beginning of the dusk. We drove pretty soon. «Are you far from the fortress?» I asked my coachman. «Not far off,» he answered. «I can see it.» I looked in all directions, expecting to see formidable bastions, towers and a rampart; But I did not see anything, except for the village, surrounded by a log fence. On one side were three or four hay stacks half-covered with snow; on the other hand, a twisted mill, with its wings flat, lazily lowered. «Where is the fortress?» I asked in surprise. «Yes, here it is,» answered the coachman, pointing to the village, and with that word we drove into it. At the gate I saw an old cast-iron cannon; The streets were cramped and crooked; the huts are low, and the rest is covered with straw. I ordered to go to the commandant, and a minute later the tent stopped in front of a wooden house, built in a high place, near the wooden church.
«Where is the fortress?» I asked in surprise. «Yes, here it is,» answered the coachman, pointing to the village, and with that word we drove into it. At the gate I saw an old cast-iron cannon; The streets were cramped and crooked; the huts are low, and the rest is covered with straw. I ordered to go to the commandant, and a minute later the tent stopped in front of a wooden house, built in a high place, near the wooden church.
Урок русского языка в 7 классе на тему «Повторение и обобщение темы «Причастие».»
Русский язык. 7 класс. Урок № 32.
Повторение и обобщение темы «Причастие».
Задание № 1: от данных глаголов образуйте (на слух) действительные причастия настоящего времени; суффиксы выделите.
(1) Беспокоиться, (2) беречь, (3) гладить, (4) губить, (5) дремать, (6) ездить, (7) ехать, (8) искать, (9) катать, (10) катить.
Ключ:
(1) Беспокоиться — беспокоящийся,
(2) беречь — берегущий,
(3) гладить — гладящий,
(4) губить — губящий,
(5) дремать — дремлющий,
(6) ездить — ездящий,
(7) ехать — едущий,
(8) искать — ищущий,
(9) катать — катающий,
(10) катить — катящий.
Задание № 2: образуйте действительные причастия: 1) настоящего времени — от глаголов несовершенного вида, 2) прошедшего времени — от глаголов совершенного вида; суффиксы выделите:
(1) Видеть, (2) обидеть, (3) зависеть, (4) решать, (5) решить, (6) решаться, (7) решиться, (8) бросать, (9) бросить, (10) броситься, (11) рассказывать, (12) рассказать, (13) пробовать, (14) воспитывать, (15) воспитаться, (16) улыбаться, (17) улыбнуться, (18) увлекать, (19) увлечься.
Ключ:
Задание № 3: из данного перечня выпишите только те глаголы, от которых страдательные причастия образуются с помощью суффикса «-т-»:
(1) Мыть, (2) читать, (3) вить, (4) видеть, (5) мять, (6) вести, (7) посеять, (8) тронуть, (9) тереть, (10) унести, (11) запечь, (12) запереть, (13) раскрасить, (14) молоть, (15) осветить, (16) колоть, (17) сжать, (18) убедить, (19) прославить.
Ключ:
(1) Мыть — мытый, (3) вить — витый, (5) мять — мятый, (8) тронуть — тронутый, (9) тереть — тертый, (12) запереть — запертый, (14) молоть — молотый, (16) колоть — колотый, (17) сжать — сжатый.
Задание № 4: (а) выпишите из текста страдательные причастия прошедшего времени вместе с теми существительными, с которыми они согласованы; (б) укажите вид причастий:
(1) Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте близ деревянной же церкви. (2) Круглые, низкие холмы, распаханные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между ними; между лозняками сверкает речка, в четырех местах перехваченная плотинами. (3) Слышится неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. (4) От камней поднимается в небо синий туман, насыщенный сладким запахом золотых цветов. (5) Запущенный барский дом стоял на большой дороге, окруженный плоскими безотрадными полями. (6) В доме покоробленные полы качались, шаги и звуки раздавались резко. (7) След вывел на небольшую, зажатую кустарниками полянку.
Ключ:
(1) (Перед) выстроенным (совершенный вид) домиком. (2) распаханные (совершенный вид) и засеянные (совершенный вид) холмы, перехваченная (совершенный вид) речка. (3) облитые (совершенный вид) деревья. (4) насыщенный (совершенный вид) туман. (5) Запущенный (совершенный вид) дом, окруженный (совершенный вид) дом. (6) покоробленные (совершенный вид) полы. (7) зажатую (совершенный вид) полянку.
Задание № 5: спишите текст, подчеркивая грамматическую основу, одиночные причастия и причастные обороты как члены предложения; у причастий определите падеж; составьте схему предложения № 4:
(1) Иохим долго искал подходящую для дудки иву. (2) У лениво струящейся речки нашел он густо разросшиеся кусты ивняка. (3) Он вынул из-за голенища привязанный на ремешок складной ножик, окинул внимательным взором задумчиво шептавшиеся кусты и решительно подошел к тонкому прямому стволу, качавшемуся над размытой кручей. (4) Дудка вышла на славу; в этот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели.
(2) У лениво струящейся речки нашел он густо разросшиеся кусты ивняка. (3) Он вынул из-за голенища привязанный на ремешок складной ножик, окинул внимательным взором задумчиво шептавшиеся кусты и решительно подошел к тонкому прямому стволу, качавшемуся над размытой кручей. (4) Дудка вышла на славу; в этот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели.
Ключ:
(1) Иохим долго искал подходящую для дудки иву. (2) У лениво струящейся речки нашел он густо разросшиеся кусты ивняка. (3) Он вынул из-за голенища привязанный на ремешок складной ножик, окинул внимательным взором задумчиво шептавшиеся кусты и решительно подошел к тонкому прямому стволу, качавшемуся над размытой кручей.
(4) Дудка вышла на славу; в этот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели.
[ ]; [ , , и ].
Задание № 1: от данных глаголов образуйте (на слух) действительные причастия настоящего времени; суффиксы выделите.
Задание № 2: образуйте действительные причастия: 1) настоящего времени — от глаголов несовершенного вида, 2) прошедшего времени — от глаголов совершенного вида; суффиксы выделите:
(1) Видеть, (2) обидеть, (3) зависеть, (4) решать, (5) решить, (6) решаться, (7) решиться, (8) бросать, (9) бросить, (10) броситься, (11) рассказывать, (12) рассказать, (13) пробовать, (14) воспитывать, (15) воспитаться, (16) улыбаться, (17) улыбнуться, (18) увлекать, (19) увлечься.
Задание № 3: из данного перечня выпишите только те глаголы, от которых страдательные причастия образуются с помощью суффикса «-т-»:
(1) Мыть, (2) читать, (3) вить, (4) видеть, (5) мять, (6) вести, (7) посеять, (8) тронуть, (9) тереть, (10) унести, (11) запечь, (12) запереть, (13) раскрасить, (14) молоть, (15) осветить, (16) колоть, (17) сжать, (18) убедить, (19) прославить.
Задание № 4: (а) выпишите из текста страдательные причастия прошедшего времени вместе с теми существительными, с которыми они согласованы; (б) укажите вид причастий:
(1) Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте близ деревянной же церкви. (2) Круглые, низкие холмы, распаханные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между ними; между лозняками сверкает речка, в четырех местах перехваченная плотинами. (3) Слышится неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. (4) От камней поднимается в небо синий туман, насыщенный сладким запахом золотых цветов. (5) Запущенный барский дом стоял на большой дороге, окруженный плоскими безотрадными полями. (6) В доме покоробленные полы качались, шаги и звуки раздавались резко. (7) След вывел на небольшую, зажатую кустарниками полянку.
(3) Слышится неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. (4) От камней поднимается в небо синий туман, насыщенный сладким запахом золотых цветов. (5) Запущенный барский дом стоял на большой дороге, окруженный плоскими безотрадными полями. (6) В доме покоробленные полы качались, шаги и звуки раздавались резко. (7) След вывел на небольшую, зажатую кустарниками полянку.
Задание № 5: спишите текст, подчеркивая грамматическую основу, одиночные причастия и причастные обороты как члены предложения; у причастий определите падеж; составьте схему предложения № 4:
(1) Иохим долго искал подходящую для дудки иву. (2) У лениво струящейся речки нашел он густо разросшиеся кусты ивняка. (3) Он вынул из-за голенища привязанный на ремешок складной ножик, окинул внимательным взором задумчиво шептавшиеся кусты и решительно подошел к тонкому прямому стволу, качавшемуся над размытой кручей. (4) Дудка вышла на славу; в этот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели.
(4) Дудка вышла на славу; в этот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Задание № 1: от данных глаголов образуйте (на слух) действительные причастия настоящего времени; суффиксы выделите.
Задание № 2: образуйте действительные причастия: 1) настоящего времени — от глаголов несовершенного вида, 2) прошедшего времени — от глаголов совершенного вида; суффиксы выделите:
(1) Видеть, (2) обидеть, (3) зависеть, (4) решать, (5) решить, (6) решаться, (7) решиться, (8) бросать, (9) бросить, (10) броситься, (11) рассказывать, (12) рассказать, (13) пробовать, (14) воспитывать, (15) воспитаться, (16) улыбаться, (17) улыбнуться, (18) увлекать, (19) увлечься.
Задание № 3: из данного перечня выпишите только те глаголы, от которых страдательные причастия образуются с помощью суффикса «-т-»:
(1) Мыть, (2) читать, (3) вить, (4) видеть, (5) мять, (6) вести, (7) посеять, (8) тронуть, (9) тереть, (10) унести, (11) запечь, (12) запереть, (13) раскрасить, (14) молоть, (15) осветить, (16) колоть, (17) сжать, (18) убедить, (19) прославить.
Задание № 4: (а) выпишите из текста страдательные причастия прошедшего времени вместе с теми существительными, с которыми они согласованы; (б) укажите вид причастий:
(1) Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте близ деревянной же церкви. (2) Круглые, низкие холмы, распаханные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между ними; между лозняками сверкает речка, в четырех местах перехваченная плотинами. (3) Слышится неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. (4) От камней поднимается в небо синий туман, насыщенный сладким запахом золотых цветов. (5) Запущенный барский дом стоял на большой дороге, окруженный плоскими безотрадными полями. (6) В доме покоробленные полы качались, шаги и звуки раздавались резко. (7) След вывел на небольшую, зажатую кустарниками полянку.
(3) Слышится неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. (4) От камней поднимается в небо синий туман, насыщенный сладким запахом золотых цветов. (5) Запущенный барский дом стоял на большой дороге, окруженный плоскими безотрадными полями. (6) В доме покоробленные полы качались, шаги и звуки раздавались резко. (7) След вывел на небольшую, зажатую кустарниками полянку.
Задание № 5: спишите текст, подчеркивая грамматическую основу, одиночные причастия и причастные обороты как члены предложения; у причастий определите падеж; составьте схему предложения № 4:
(1) Иохим долго искал подходящую для дудки иву. (2) У лениво струящейся речки нашел он густо разросшиеся кусты ивняка. (3) Он вынул из-за голенища привязанный на ремешок складной ножик, окинул внимательным взором задумчиво шептавшиеся кусты и решительно подошел к тонкому прямому стволу, качавшемуся над размытой кручей. (4) Дудка вышла на славу; в этот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели.
(4) Дудка вышла на славу; в этот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Задание № 1: от данных глаголов образуйте (на слух) действительные причастия настоящего времени; суффиксы выделите.
Задание № 2: образуйте действительные причастия: 1) настоящего времени — от глаголов несовершенного вида, 2) прошедшего времени — от глаголов совершенного вида; суффиксы выделите:
(1) Видеть, (2) обидеть, (3) зависеть, (4) решать, (5) решить, (6) решаться, (7) решиться, (8) бросать, (9) бросить, (10) броситься, (11) рассказывать, (12) рассказать, (13) пробовать, (14) воспитывать, (15) воспитаться, (16) улыбаться, (17) улыбнуться, (18) увлекать, (19) увлечься.
Задание № 3: из данного перечня выпишите только те глаголы, от которых страдательные причастия образуются с помощью суффикса «-т-»:
(1) Мыть, (2) читать, (3) вить, (4) видеть, (5) мять, (6) вести, (7) посеять, (8) тронуть, (9) тереть, (10) унести, (11) запечь, (12) запереть, (13) раскрасить, (14) молоть, (15) осветить, (16) колоть, (17) сжать, (18) убедить, (19) прославить.
Задание № 4: (а) выпишите из текста страдательные причастия прошедшего времени вместе с теми существительными, с которыми они согласованы; (б) укажите вид причастий:
(1) Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте близ деревянной же церкви. (2) Круглые, низкие холмы, распаханные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между ними; между лозняками сверкает речка, в четырех местах перехваченная плотинами. (3) Слышится неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. (4) От камней поднимается в небо синий туман, насыщенный сладким запахом золотых цветов. (5) Запущенный барский дом стоял на большой дороге, окруженный плоскими безотрадными полями. (6) В доме покоробленные полы качались, шаги и звуки раздавались резко. (7) След вывел на небольшую, зажатую кустарниками полянку.
(3) Слышится неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. (4) От камней поднимается в небо синий туман, насыщенный сладким запахом золотых цветов. (5) Запущенный барский дом стоял на большой дороге, окруженный плоскими безотрадными полями. (6) В доме покоробленные полы качались, шаги и звуки раздавались резко. (7) След вывел на небольшую, зажатую кустарниками полянку.
Задание № 5: спишите текст, подчеркивая грамматическую основу, одиночные причастия и причастные обороты как члены предложения; у причастий определите падеж; составьте схему предложения № 4:
(1) Иохим долго искал подходящую для дудки иву. (2) У лениво струящейся речки нашел он густо разросшиеся кусты ивняка. (3) Он вынул из-за голенища привязанный на ремешок складной ножик, окинул внимательным взором задумчиво шептавшиеся кусты и решительно подошел к тонкому прямому стволу, качавшемуся над размытой кручей. (4) Дудка вышла на славу; в этот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели.
(4) Дудка вышла на славу; в этот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели.
С помощью каких художественных средств в приведённом эпизодераскрывается характер Пугачёва? Капитанская дочка.
Я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жилья или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения мятели…. Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик!» — закричал я — «смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться.
«А бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место: — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк или человек.
Я приказал ехать на незнакомый предмет, который стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком.
«Гей, добрый человек!» — закричал ему ямщик. «Скажи, не знаешь ли где дорога?»
«Сторона мне знакомая» — отвечал дорожный — «слава богу, исхожена изъезжена вдоль и поперек»…
Его хладнокровие ободрило меня. Дорожный же сел на облучок, сказав ямщику: «Слава богу, жильё недалеко; сворачивай в право да поезжай». «А почему думаешь ты, что жильё не далече?» — спросил я его. «А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал дорожный, — и дымом пахнуло; знать, деревня близко. Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать…
Дорожный же сел на облучок, сказав ямщику: «Слава богу, жильё недалеко; сворачивай в право да поезжай». «А почему думаешь ты, что жильё не далече?» — спросил я его. «А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал дорожный, — и дымом пахнуло; знать, деревня близко. Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать…
Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи сударь: приехали, постоялый двор…
«Где же вожатый? спросил я у Савельича.
«Здесь, ваше благородие», — отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати, и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. — Что, брат, прозяб?»
Я предложил вожатому нашему чашку чаю; он слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился.
«Ваше благородие, сделайте мне такую милость, — прикажите поднести стакан вина; чай не наше питье». Я с охотой исполнил его желание. Он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом…
Я с охотой исполнил его желание. Он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом…
Проснувшись поутру, я увидел, что буря утихла. Лошади были запряжены. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помочь, и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился.
«Полтину на водку!» — сказал он, — «за что это? За то, что ты же изволил одвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать».
Я не мог спорить с Савельичем. «Хорошо — сказал я хладнокровно; — если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Дай ему мой зайчий тулуп».
«Помилуй, батюшка Петр Андреич!» — сказал Савельич. — «Зачем ему твой зайчий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке».
«Это, старинушка, уж не твоя печаль, — сказал мой бродяга, — пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое дело не спорить и слушаться.
«Бога ты не боишься, разбойник!» — отвечал ему Савельич сердитым голосом. — «Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои
— «Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои
окаянные плечища. Зайчий тулуп почти
новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!»
Однако зайчий тулуп явился. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырости, был для него узок. Однако он кое-как умудрился, и надел его, распоров по швам.
Бродяга проводил меня до кибитки и сказал с поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». — Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о зайчьем тулупе.
– На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее да обогрейся.
Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.
На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.
Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.
– Где же вожатый? – спросил я у Савельича.
«Здесь, ваше благородие», – отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат, прозяб?» – «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у целовальника: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость, – прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе, – сказал он, – опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком – да мимо. Ну, а что ваши?»
Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость, – прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе, – сказал он, – опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком – да мимо. Ну, а что ваши?»
– Да что наши! – отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. – Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте. – «Молчи, дядя, – возразил мой бродяга, – будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» – При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.
Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по-тамошнему, умет, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решился убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул как убитый.
Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по-тамошнему, умет, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решился убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул как убитый.
Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помочь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку! – сказал он, – за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. «Хорошо, – сказал я хладнокровно;– если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».
«Полтину на водку! – сказал он, – за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. «Хорошо, – сказал я хладнокровно;– если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».
– Помилуй, батюшка Петр Андреич! – сказал Савельич. – Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке.
– Это, старинушка, уж не твоя печаль, – сказал мой бродяга, – пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.
– Бога ты не боишься, разбойник! – отвечал ему Савельич сердитым голосом.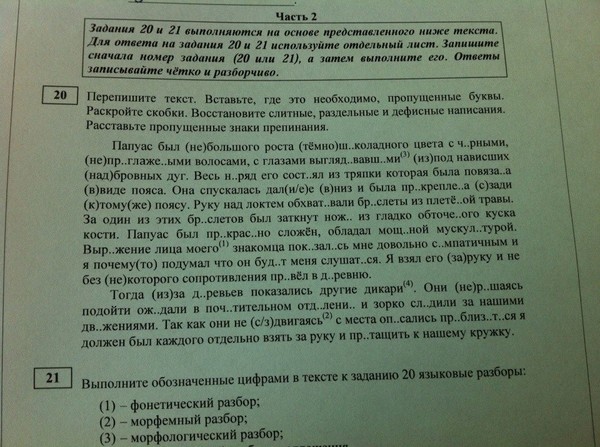 – Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища.
– Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища.
– Прошу не умничать, – сказал я своему дядьке;– сейчас неси сюда тулуп.
– Господи владыко! – простонал мой Савельич. – Заячий тулуп почти новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!
Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле, тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». – Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе.
Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой! – сказал он. – Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еше твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» – Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «„Милостивый государь Андрей Карлович*, надеюсь, что ваше превосходительство“… Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. „ваше превосходительство не забыло“… гм… „и… когда… покойным фельдмаршалом Мин… походе… также и… Каролинку“… Эхе, брудер! так он еше помнит стары наши проказ? „Теперь о деле… К вам моего повесу“… гм… „держать в ежовых рукавицах“… Что такое ешовы рукавиц? Это должно быть русска поговорк… Что такое „дершать в ешовых рукавицах“?» – повторил он, обращаясь ко мне.

– Это значит, – отвечал я ему с видом как можно более невинным, – обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.
«Гм, понимаю… „и не давать ему воли“ нет, видно ешовы рукавицы значит не то… „При сем… его паспорт“… Где ж он? А, вот… „отписать в Семеновский“… Хорошо, хорошо: всё будет сделано… „Позволишь без чинов обнять себя и… старым товарищем и другом“ – a! наконец догадался… и прочая и прочая… Ну, батюшка, – сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, – всё будет сделано: ты будешь офицером переведен в *** полк*, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня».
«Час от часу не легче! – подумал я про себя, – к чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В *** полк и в глухую крепость на границу киргиз-кайсацких степей!. .» Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.
.» Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.
Глава III
Крепость
Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку:
Зарядим картечью пушку.
Солдатская песня.
Старинные люди, мой батюшка.
Недоросль.*
Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика. «Недалече, – отвечал он. – Вон уж видна». – Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» – спросил я с удивлением. «Да вот она», – отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.
Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика. «Недалече, – отвечал он. – Вон уж видна». – Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» – спросил я с удивлением. «Да вот она», – отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.
Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка, – отвечал инвалид – наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова*, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» – спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, – сказала она;– он пошел в гости к отцу Герасиму; да всё равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством.
«Войди, батюшка, – отвечал инвалид – наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова*, также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» – спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, – сказала она;– он пошел в гости к отцу Герасиму; да всё равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, – сказал он – вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, – продолжал он, – зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», – продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки, – сказала ему капитанша;– ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя… (держи-ка руки прямее…). А ты, мой батюшка, – продолжала она, обращаясь ко мне, – не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».
«Смею спросить, – сказал он – вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, – продолжал он, – зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», – продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки, – сказала ему капитанша;– ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя… (держи-ка руки прямее…). А ты, мой батюшка, – продолжала она, обращаясь ко мне, – не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».
В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимыч! – сказала ему капитанша. – Отведи г. офицеру квартиру, да почище». – «Слушаю, Василиса Егоровна, – отвечал урядник. – Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» – «Врешь, Максимыч, – сказала капитанша;– у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи г. офицера… как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, всё ли благополучно?»
– Отведи г. офицеру квартиру, да почище». – «Слушаю, Василиса Егоровна, – отвечал урядник. – Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» – «Врешь, Максимыч, – сказала капитанша;– у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи г. офицера… как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, всё ли благополучно?»
– Всё, слава богу, тихо, – отвечал казак;– только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.
– Иван Игнатьич! – сказала капитанша кривому старичку. – Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру.
Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы, довольно опрятной, разделенной надвое перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»
Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»
На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня, – сказал он мне по-французски, – что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». – Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрии вызвался идти со мною вместе.
– Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрии вызвался идти со мною вместе.
Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь, – прибавил он, – нечего вам смотреть».
Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! – сказала комендантша. – Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» – Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». – Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? – сказала ему жена. – Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». – «А слышь ты, Василиса Егоровна, – отвечал Иван Кузмич, – я был занят службой: солдатушек учил». – «И, полно! – возразила капитанша. – Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь.
Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! – сказала комендантша. – Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» – Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». – Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? – сказала ему жена. – Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». – «А слышь ты, Василиса Егоровна, – отвечал Иван Кузмич, – я был занят службой: солдатушек учил». – «И, полно! – возразила капитанша. – Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».
Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».
Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли! – сказала она, – ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка, да слава богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою». – Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, – сказал я довольно некстати, – что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». – «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» – спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», – отвечал я. «Пустяки! – сказал комендант. – У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы – народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». – «И вам не страшно, – продолжал я, обращаясь к капитанше, – оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» – «Привычка, мой батюшка, – отвечала она. – Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».
«Пустяки! – сказал комендант. – У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы – народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». – «И вам не страшно, – продолжал я, обращаясь к капитанше, – оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» – «Привычка, мой батюшка, – отвечала она. – Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».
– Василиса Егоровна прехрабрая дама, – заметил важно Швабрин. – Иван Кузмич может это засвидетельствовать.
– Да, слышь ты, – сказал Иван Кузмич;– баба-то не робкого десятка.
– А Марья Ивановна? – спросил я, – так же ли смела, как и вы?
– Смела ли Маша? – отвечала ее мать. – Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.
А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.
Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.
Глава IV
Поединок
– Ин изволь, и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!*
Княжнин.
Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечностию. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился.
Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился.
Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда вечерком иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первою вестовщицею во всем околодке. С А. И.Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.
Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.
Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван незапным междуусобием.
Я уже сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки:
Мысль любовну истребляя,*
Тщусь прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!
Но глаза, что мя пленили,
Всеминутно предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.
Ты, узнав мои напасти,
Сжалься, Маша, надо мной,
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.
– Как ты это находишь? – спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.
– Почему так? – спросил я его, скрывая свою досаду.
– Потому, – отвечал он, – что такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплетцы.
Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозою. «Посмотрим, – сказал он, – сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?»
– Не твое дело, – отвечал я нахмурясь, – кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.
Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.
С помощью каких художественных средств в приведённом эпизоде
раскрывается характер Пугачёва?
– Где же вожатый? – спросил я у Савельича.
«Здесь, ваше благородие», – отвечал мне голос сверху. Я взглянул на
полати и увидел чёрную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат,
прозяб?» – «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что
греха таить? заложил вечор у целовальника: мороз показался не велик». В эту
минуту хозяин вошёл с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему
чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне
замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч.
В чёрной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и
бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское.
Волоса были обстрижены в кружок; на нём был оборванный армяк и
татарские шаровары. Я поднёс ему чашку чаю; он отведал и поморщился.
«Ваше благородие, сделайте мне такую милость, – прикажите поднести
стакан вина; чай не наше казацкое питьё». Я с охотой исполнил его желание.
Я с охотой исполнил его желание.
Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошёл к нему и, взглянув ему в
лицо: «Эхе, – сказал он, – опять ты в нашем краю! Отколе бог принёс?»
Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал,
конопли клевал; швырнула бабушка камушком – да мимо. Ну, а что ваши?»
– Да что наши! – отвечал хозяин, продолжая иносказательный
разговор. – Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях,
черти на погосте.
«Молчи, дядя, – возразил мой бродяга, – будет дождик, будут и грибки;
а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор
за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» При сих
словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом
поклонился мне и воротился на полати.
Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после
уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что
усмирённого после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого
Савельич слушал с видом большого
неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на
вожатого. Постоялый двор, или, по-тамошнему, умёт, находился в стороне, в
степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую
пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении
пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я
расположился ночевать и лёг на лавку. Савельич решился убраться на печь;
хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул как убитый.
Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла.
Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи.
Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас
такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал
торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились
совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную
помощь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился.
Савельич нахмурился.
«Полтину на водку! – сказал он, – за что это? За то, что ты же изволил
подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних
полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придётся голодать». Я не
мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в
полном его распоряжении. Мне было досадно, однако ж, что не мог
отблагодарить человека, выручившего меня если не из беды, то, по крайней
мере из очень неприятного положения. «Хорошо, – сказал я хладнокровно, –
если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он
одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».
– Помилуй, батюшка Пётр Андреич! – сказал Савельич. – Зачем ему
твой заячий тулуп? Он его пропьёт, собака, в первом кабаке.
– Это, старинушка, уж не твоя печаль, – сказал мой бродяга, – пропью
ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то
барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.
– Бога ты не боишься, разбойник! – отвечал ему Савельич сердитым
голосом. – Ты видишь, что дитя ещё не смыслит, а ты и рад его обобрать,
простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на
свои окаянные плечища.
– Прошу не умничать, – сказал я своему дядьке, – сейчас неси сюда
тулуп.
– Господи Владыко! – простонал мой Савельич. – Заячий тулуп почти
новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!
Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать.
В самом деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него
узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич
чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно
доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким
поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас Господь за вашу
добродетель. Век не забуду ваших милостей». Он пошёл в свою сторону, а я
отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро
позабыл о вчерашней вьюге, о своём вожатом и о заячьем тулупе.
(А.С. Пушкин, «Капитанская дочка»). Пожалуйста)
Когда Долли Мэдисон приняла командование Белым домом | История
Когда британцы приблизились к Белому дому, Долли Мэдисон приказала убрать портрет Джорджа Вашингтона Гилберта Стюарта. Фонд Монпелье В годы, предшествовавшие второй войне Америки с Великобританией, президент Джеймс Мэдисон не смог помешать своему скупому министру финансов Альберту Галлатину блокировать резолюции Конгресса о расширении вооруженных сил страны.Соединенные Штаты начали конфликт 18 июня 1812 года, не имея армии, заслуживающей упоминания, и флота, состоящего из горстки фрегатов и флота канонерских лодок, большинство из которых было вооружено одной пушкой. В 1811 году Конгресс проголосовал за упразднение Банка Соединенных Штатов Александра Гамильтона, что сделало почти невозможным для правительства привлечение денег. Хуже всего то, что британцы и их европейские союзники вступили в бой (и в конечном итоге победили) наполеоновскую Францию в битвах по всей Европе в 1812 и 1813 годах, а это означало, что Соединенным Штатам придется сражаться с самой грозной армией и флотом в мире в одиночку.
В марте 1813 года Галлатин сказал президенту: «У нас едва ли хватит денег, чтобы продержаться до конца месяца». Вдоль канадской границы американские армии потерпели сокрушительные поражения. Огромная британская военно-морская эскадра блокировала американское побережье. В Конгрессе жители Новой Англии высмеивали «мистера Уайта». Война Мэдисона», а губернатор Массачусетса отказался разрешить кому-либо из ополченцев штата присоединиться к кампании в Канаде. Мэдисон заболел малярией, а престарелый вице-президент Элбридж Джерри настолько ослабел, что Конгресс начал спорить о том, кто станет президентом, если оба мужчины умрут.Единственными хорошими новостями стали победы крошечного американского флота над одиночными британскими военными кораблями.
Белый дом Долли Мэдисон был одним из немногих мест в стране, где продолжали процветать надежда и решимость. Хотя она родилась квакером, Долли считала себя бойцом. «Я всегда выступала за то, чтобы сражаться при нападении», — писала она своему двоюродному брату Эдварду Коулзу в письме от мая 1813 года, в котором обсуждалась возможность британского нападения на город. Настроение поднялось, когда известие об американской победе над британским фрегатом «Македонянин » у Канарских островов достигло столицы во время бала, устроенного в декабре 1812 года в честь решения Конгресса наконец увеличить флот.Когда на бал прибыл молодой лейтенант с флагом побежденного корабля, старшие морские офицеры выставили его напоказ по полу, а затем положили к ногам Долли.
Настроение поднялось, когда известие об американской победе над британским фрегатом «Македонянин » у Канарских островов достигло столицы во время бала, устроенного в декабре 1812 года в честь решения Конгресса наконец увеличить флот.Когда на бал прибыл молодой лейтенант с флагом побежденного корабля, старшие морские офицеры выставили его напоказ по полу, а затем положили к ногам Долли.
На светских мероприятиях Долли стремился, по словам одного наблюдателя, «разрушить столь ожесточенные тогда злопамятные чувства между федералистами и республиканцами». Члены Конгресса, утомленные руганью друг друга в течение дня, казалось, расслабились в ее присутствии и даже были готовы обсуждать компромисс и примирение. Почти все их жены и дочери были союзницами Долли.Днем Долли была неутомимой гостьей, оставляя свои визитные карточки по всему городу. Перед войной большинство ее вечеринок привлекало около 300 человек. Теперь посещаемость выросла до 500 человек, и молодые люди стали называть их «выжимками».
Долли, несомненно, испытывала стресс от управления этими переполненными залами. «У меня кружится голова!» — призналась она другу. Но она сохраняла то, что наблюдатель назвал ее «безжалостной невозмутимостью», даже когда новости были плохими, как это часто случалось. Критики высмеивали президента, называя его «Маленький Джемми» и возрождая клевету о том, что он импотент, подчеркивая поражения на полях сражений, в которых он руководил.Но Долли казался невосприимчивым к такой клевете. И если президент выглядел так, как будто он одной ногой в могиле, Долли расцвела. Все больше и больше людей начали присваивать ей новый титул: первая леди, первая жена президента США, получившая такое звание. Долли создала полугосударственный офис, а также уникальную роль для себя и тех, кто последует за ней в Белом доме.
Она уже давно преодолела робость, с которой почти десятилетие назад поднимала вопросы о политике в своих письмах к мужу, и оба отбросили за борт любую мысль о том, что женщине не следует думать о столь щекотливом предмете. В первое лето своего президентства в 1809 году Мэдисон был вынужден спешно вернуться в Вашингтон после отпуска в Монпелье, своем поместье в Вирджинии, оставив Долли. В записке, которую он написал ей после возвращения в Белый дом, он сказал, что намеревается поставить ее в известность о разведывательных данных, только что полученных из Франции. И он прислал ей утреннюю газету, в которой была статья на эту тему. В письме два дня спустя он обсуждал недавнее выступление британского премьер-министра; ясно, что Долли стал политическим партнером президента.
В первое лето своего президентства в 1809 году Мэдисон был вынужден спешно вернуться в Вашингтон после отпуска в Монпелье, своем поместье в Вирджинии, оставив Долли. В записке, которую он написал ей после возвращения в Белый дом, он сказал, что намеревается поставить ее в известность о разведывательных данных, только что полученных из Франции. И он прислал ей утреннюю газету, в которой была статья на эту тему. В письме два дня спустя он обсуждал недавнее выступление британского премьер-министра; ясно, что Долли стал политическим партнером президента.
Британцы были непреклонны в своей решимости снова превратить американцев в послушных колонистов. Побежденные американской морской победой на озере Эри 10 сентября 1813 года и поражением своих индийских союзников на Западе почти месяц спустя, британцы сосредоточили свои атаки на побережье от Флориды до залива Делавэр. Снова и снова их десантные группы высаживались на берег, чтобы грабить дома, насиловать женщин и сжигать общественную и частную собственность. Командовал этими операциями сэр Джордж Кокберн, напыщенный краснолицый контр-адмирал, которого многие считали столь же высокомерным, сколь и безжалостным.
Командовал этими операциями сэр Джордж Кокберн, напыщенный краснолицый контр-адмирал, которого многие считали столь же высокомерным, сколь и безжалостным.
Несмотря на то, что многие жители Вашингтона начали собирать семьи и мебель, Долли в переписке того времени продолжал настаивать на том, что ни одна британская армия не может приблизиться к городу ближе чем на 20 миль. Но барабанный бой новостей о более ранних высадках — британские войска разграбили Гавр-де-Грас, штат Мэриленд, 4 мая 1813 года и попытались захватить остров Крейни, недалеко от Норфолка, штат Вирджиния, в июне того же года — усилили критику президента. Некоторые утверждали, что сама Долли планировала бежать из Вашингтона; если Мэдисон попытается также покинуть город, угрожали критики, президент и город «падут» вместе.Долли написал в письме другу: «Я ничуть не встревожен этими вещами, но испытываю полное отвращение и полон решимости остаться с ним».
17 августа 1814 года большой британский флот бросил якорь в устье реки Патаксент, всего в 35 милях от столицы страны. На борту находились 4000 солдат-ветеранов под командованием крутого профессионального солдата генерал-майора Роберта Росса. Вскоре они без единого выстрела сошли на берег в Мэриленде и начали медленное и осторожное наступление на Вашингтон.Поблизости не было ни одного обученного американского солдата, который мог бы им противостоять. Все, что мог сделать президент Мэдисон, это вызвать тысячи ополченцев. Командиром этих нервных дилетантов был бриг. Генерал Уильям Уиндер, которого Мэдисон назначил в основном потому, что его дядя, губернатор Мэриленда, уже собрал значительное ополчение штата.
На борту находились 4000 солдат-ветеранов под командованием крутого профессионального солдата генерал-майора Роберта Росса. Вскоре они без единого выстрела сошли на берег в Мэриленде и начали медленное и осторожное наступление на Вашингтон.Поблизости не было ни одного обученного американского солдата, который мог бы им противостоять. Все, что мог сделать президент Мэдисон, это вызвать тысячи ополченцев. Командиром этих нервных дилетантов был бриг. Генерал Уильям Уиндер, которого Мэдисон назначил в основном потому, что его дядя, губернатор Мэриленда, уже собрал значительное ополчение штата.
Некомпетентность Уиндер стала очевидной, и все больше и больше друзей Долли убеждали ее бежать из города. К настоящему времени тысячи вашингтонцев толпились на дорогах.Но Долли, чья решимость остаться с мужем была непоколебима, осталась. Она приветствовала решение Мэдисон разместить 100 ополченцев под командованием полковника регулярной армии на лужайке Белого дома. Это был не только жест защиты с его стороны, но и заявление о том, что он и Долли намерены стоять на своем. Затем президент решил присоединиться к 6000 ополченцев, которые шли, чтобы противостоять британцам в Мэриленде. Долли была уверена, что его присутствие укрепит их решимость.
Затем президент решил присоединиться к 6000 ополченцев, которые шли, чтобы противостоять британцам в Мэриленде. Долли была уверена, что его присутствие укрепит их решимость.
После того, как президент уехал, Долли решила продемонстрировать свою решимость, устроив званый ужин 23 августа. Но после того, как Газета National Intelligencer сообщила, что британцы получили 6000 подкреплений, ни один приглашенный не принял ее приглашение. Долли стал подниматься на крышу Белого дома, чтобы осмотреть горизонт в подзорную трубу, надеясь увидеть доказательства победы Америки. Тем временем Мэдисон отправила ей два набросанных сообщения, написанных один за другим 23 августа.Первый заверил ее, что британцев легко победить; второй предупредил ее, чтобы она была готова бежать в любой момент.
Муж уговаривал ее, если случится самое худшее, сохранить бумаги кабинета и все официальные документы, которые она сможет запихнуть в карету. Поздним вечером 23 августа Долли начала письмо своей сестре Люси, описывая свое положение.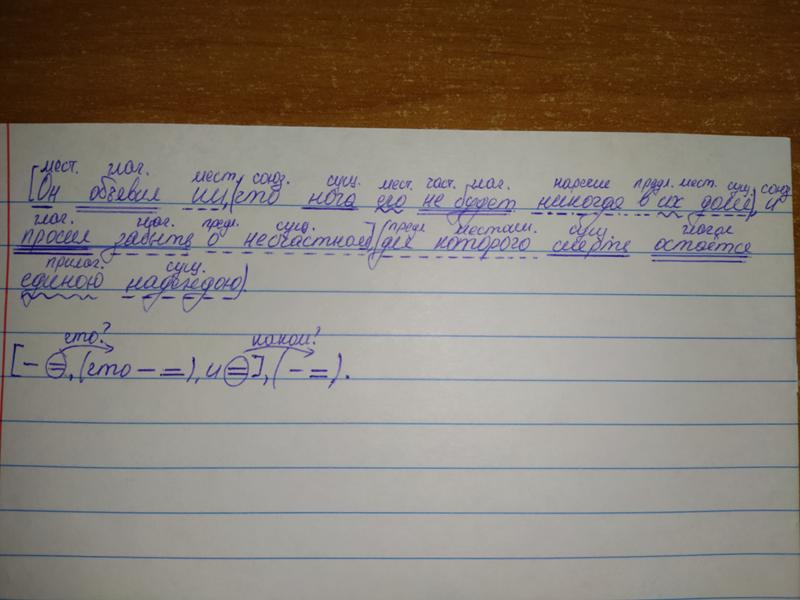 «Все мои друзья и знакомые ушли», — написала она. Полковник армии и его охрана из 100 человек также бежали. Но она заявила: «Я полна решимости не идти сама, пока не увижусь с г.Сейф Мэдисон. Она хотела быть рядом с ним, «поскольку я слышала о большой враждебности по отношению к нему… нас окружает недовольство». Она чувствовала, что ее присутствие может отпугнуть врагов, готовых навредить президенту.
«Все мои друзья и знакомые ушли», — написала она. Полковник армии и его охрана из 100 человек также бежали. Но она заявила: «Я полна решимости не идти сама, пока не увижусь с г.Сейф Мэдисон. Она хотела быть рядом с ним, «поскольку я слышала о большой враждебности по отношению к нему… нас окружает недовольство». Она чувствовала, что ее присутствие может отпугнуть врагов, готовых навредить президенту.
На рассвете следующего дня, после почти бессонной ночи, Долли вернулась на крышу Белого дома со своей подзорной трубой. Возвращаясь к своему письму к Люси в полдень, она писала, что провела утро, «поворачивая во все стороны подзорную трубу и наблюдая с неутомимой тревогой, надеясь разглядеть приближение моего дорогого мужа и его друзей.Вместо этого все, что она видела, это «группы военных, блуждающие во всех направлениях, как будто не хватало оружия или духа, чтобы сражаться за свои очаги!» Она была свидетелем распада армии, которая должна была противостоять британцам в соседнем Блейденсбурге, штат Мэриленд.
Хотя выстрелы пушек были в пределах слышимости Белого дома, битва — примерно в пяти милях от Бладенсбурга — оставалась за пределами досягаемости подзорной трубы Долли, что избавляло ее от вида американских ополченцев, спасающихся бегством от атакующей британской пехоты.Президент Мэдисон отступил в сторону Вашингтона вместе с генералом Уиндером. В Белом доме Долли упаковала фургон с красными шелковыми бархатными драпировками Овального зала, серебряным сервизом и сине-золотым фарфором Лоустофт, который она купила для парадной столовой.
Подводя итог своему письму к Люси в тот день 24-го, Долли написала: «Вы поверите, сестра моя? У нас была битва или стычка… и я все еще здесь, в пределах звука пушки!» Игриво она приказала накрыть стол для ужина для президента и его аппарата и настояла, чтобы повар и его помощник начали его готовить.С поля боя прибыли «два посланца, покрытые пылью», призывавшие ее бежать. Тем не менее она отказалась, решив дождаться своего мужа. Она приказала подать ужин. Она сказала слугам, что если бы она была мужчиной, то поставила бы пушки во все окна Белого дома и боролась бы до победного конца.
Она сказала слугам, что если бы она была мужчиной, то поставила бы пушки во все окна Белого дома и боролась бы до победного конца.
Прибытие майора Чарльза Кэрролла, близкого друга, окончательно изменило мнение Долли. Когда он сказал ей, что пора идти, она мрачно согласилась. Когда они готовились к отъезду, по словам Джона Пьера Сьюсса, стюарда Мэдисонского Белого дома, Долли заметила портрет Джорджа Вашингтона Гилберта Стюарта в государственной столовой.Она не могла бросить его врагу, сказала она Кэрроллу, для насмешек и осквернения. С тревогой наблюдая за происходящим, Долли приказал слугам снять картину, привинченную к стене. Узнав, что у них нет подходящих инструментов, Долли приказала слугам сломать раму. (Порабощенный президентом лакей Белого дома, Пол Дженнингс, позднее представил яркий отчет об этих событиях; см. врезку на стр. 55.) Примерно в это же время еще двое друзей — Джейкоб Баркер, богатый судовладелец, и Роберт Г. Л. Де Пейстер — прибыл в Белый дом, чтобы предложить любую помощь, которая может понадобиться. Долли доверит картину двум мужчинам, сказав, что они должны скрыть ее от британцев любой ценой; они перевезут портрет в безопасное место в фургоне. Между тем, с замечательным самообладанием, она закончила свое письмо к Люси: «А теперь, дорогая сестра, я должна покинуть этот дом… где я буду завтра, я не могу сказать!»
Долли доверит картину двум мужчинам, сказав, что они должны скрыть ее от британцев любой ценой; они перевезут портрет в безопасное место в фургоне. Между тем, с замечательным самообладанием, она закончила свое письмо к Люси: «А теперь, дорогая сестра, я должна покинуть этот дом… где я буду завтра, я не могу сказать!»
Когда Долли направилась к двери, согласно рассказу, который она рассказала своей внучатой племяннице Люсии Б. Каттс, она заметила копию Декларации независимости в витрине; она положила его в один из своих чемоданов.Когда Долли и Кэрролл подошли к входной двери, один из слуг президента, свободный афроамериканец по имени Джим Смит, прибыл с поля боя на мокрой от пота лошади. «Вычищать! Убирайся, — крикнул он. Британцы были всего в нескольких милях отсюда. Долли и Кэрролл забрались в ее карету и уехали, чтобы укрыться в его уютном семейном особняке Belle Vue в соседнем Джорджтауне.
Британцы прибыли в столицу страны через несколько часов, когда стемнело. Адмирал Кокберн и генерал Росс отдали приказ сжечь Капитолий и Библиотеку Конгресса, а затем направились в Белый дом.По словам лейтенанта Джеймса Скотта, адъютанта Кокберна, обед, который заказала Долли, все еще стоял на столе в столовой. «На буфете стояло несколько сортов вина в красивых графинах из граненого стекла, — позже вспоминал Скотт. Офицеры попробовали некоторые блюда и выпили тост за «здоровье Джемми».
Адмирал Кокберн и генерал Росс отдали приказ сжечь Капитолий и Библиотеку Конгресса, а затем направились в Белый дом.По словам лейтенанта Джеймса Скотта, адъютанта Кокберна, обед, который заказала Долли, все еще стоял на столе в столовой. «На буфете стояло несколько сортов вина в красивых графинах из граненого стекла, — позже вспоминал Скотт. Офицеры попробовали некоторые блюда и выпили тост за «здоровье Джемми».
Солдаты бродили по дому, хватая сувениры. По словам историка Энтони Питча, в эпизоде «Сожжение Вашингтона » один человек расхаживал с одной из шляп президента Мэдисона на штыке, хвастаясь, что пронесет ее по улицам Лондона, если им не удастся поймать «маленького президента».
Под руководством Кокберна 150 человек разбили окна и сложили мебель Белого дома в центре различных комнат. Снаружи дом окружили 50 мародеров с шестами с промасленными тряпками на концах. По сигналу адмирала люди с факелами подожгли тряпье, и огненные столбы, как огненные копья, вонзились в разбитые окна. Через несколько минут огромный пожар взмыл в ночное небо. Неподалеку американцы подожгли военно-морскую верфь, уничтожив корабли и склады, полные боеприпасов и другой техники.Какое-то время казалось, что весь Вашингтон объят пламенем.
Через несколько минут огромный пожар взмыл в ночное небо. Неподалеку американцы подожгли военно-морскую верфь, уничтожив корабли и склады, полные боеприпасов и другой техники.Какое-то время казалось, что весь Вашингтон объят пламенем.
На следующий день англичане продолжили свои грабежи, сжигая Казначейство, Государственное и Военное ведомства и другие общественные здания. Арсенал на мысе Гринлиф, примерно в двух милях к югу от Капитолия, взорвался, когда британцы готовились его уничтожить. Тридцать человек были убиты и 45 ранены. Затем внезапно разразилась ужасная буря с сильным ветром, сильным громом и молнией. Потрясенные британские командиры вскоре отступили к своим кораблям; набег на столицу закончился.
Тем временем Долли получил записку от Мэдисон, в которой она уговаривала ее присоединиться к нему в Вирджинии. К тому времени, когда они наконец воссоединились там в ночь на 25 августа, 63-летний президент уже несколько дней почти не спал. Но он был полон решимости вернуться в Вашингтон как можно скорее. Он настоял на том, чтобы Долли оставалась в Вирджинии, пока город не станет безопасным. К 27 августа президент снова прибыл в Вашингтон. В записке, написанной наспех на следующий день, он сказал жене: «Ты не можешь вернуться слишком рано.Эти слова, кажется, передают не только потребность Мэдисона в ее компании, но и его признание того, что она была мощным символом его президентства.
Он настоял на том, чтобы Долли оставалась в Вирджинии, пока город не станет безопасным. К 27 августа президент снова прибыл в Вашингтон. В записке, написанной наспех на следующий день, он сказал жене: «Ты не можешь вернуться слишком рано.Эти слова, кажется, передают не только потребность Мэдисона в ее компании, но и его признание того, что она была мощным символом его президентства.
28 августа Долли присоединилась к своему мужу в Вашингтоне. Они остановились в доме ее сестры Анны Пейн Каттс, которая заняла тот же дом на Ф-стрит, который Мэдисон занимал до переезда в Белый дом. Вид разрушенного Капитолия и обугленного, почерневшего Белого дома, должно быть, был почти невыносим для Долли.Несколько дней, по словам друзей, она была угрюмой и плаксивой. Друг, видевший в это время президента Мэдисона, описал его как «ужасно разбитого и подавленного. Короче говоря, он выглядит убитым горем».
Мэдисон также чувствовал себя преданным генералом Уиндером, а также его военным министром Джоном Армстронгом, который должен был уйти в отставку через несколько недель, а также разгромленной армией разношерстных солдат. Он обвинил в отступлении низкий моральный дух, результат всех оскорблений и доносов «г. Война Мэдисона», как назвали этот конфликт граждане Новой Англии, центра оппозиции.
Он обвинил в отступлении низкий моральный дух, результат всех оскорблений и доносов «г. Война Мэдисона», как назвали этот конфликт граждане Новой Англии, центра оппозиции.
После британской ярости в столице страны многие призывали президента переместить правительство в более безопасное место. Общий совет Филадельфии заявил о готовности предоставить жилье и офисные помещения как президенту, так и Конгрессу. Долли горячо настаивала на том, чтобы она, ее муж и Конгресс оставались в Вашингтоне. Президент согласился. Он созвал экстренное заседание Конгресса 19 сентября. Тем временем Долли убедил федералиста, владельца красивого кирпичного дома на Нью-Йорк-авеню и 18-й улице, известного как Октагон-Хаус, позволить Мэдисонам использовать его в качестве резиденции. официальная резиденция.Она открыла там светский сезон многолюдным приемом 21 сентября.
Вскоре Долли неожиданно нашла поддержку в других частях страны. Белый дом стал популярным национальным символом. Люди с возмущением отреагировали, когда узнали, что особняк сожгли англичане. Затем последовал шквал восхищения, когда газеты сообщили об отказе Долли отступить и спасении ею портрета Джорджа Вашингтона и, возможно, копии Декларации независимости.
Затем последовал шквал восхищения, когда газеты сообщили об отказе Долли отступить и спасении ею портрета Джорджа Вашингтона и, возможно, копии Декларации независимости.
1 сентября президент Мэдисон издал прокламацию, «увещевающую всех хороших людей» Соединенных Штатов «объединиться в своих сердцах и руках», чтобы «наказать и изгнать захватчика».Бывший оппонент Мэдисона на пост президента ДеВитт Клинтон сказал, что сейчас стоит обсудить только один вопрос: будут ли американцы сопротивляться? 10 сентября 1814 года « Еженедельный регистр Найлза» , балтиморская газета с общенациональным тиражом, говорила за многих. «Дух нации пробудился», — говорилось в редакционной статье.
Через три дня, 13 сентября, британский флот вошел в порт Балтимора, полный решимости разгромить форт Мак-Генри и заставить его подчиниться, что позволило бы британцам захватить портовые корабли и разграбить прибрежные склады, а также вынудить город заплатить выкуп.Фрэнсис Скотт Ки, американский адвокат, который поднялся на борт британского флагмана по просьбе президента Мэдисона, чтобы договориться об освобождении врача, захваченного британским десантом, был почти уверен, что форт сдастся под ночным обстрелом британцев. . Когда Ки увидел, что американский флаг все еще развевается на рассвете, он нацарапал стихотворение, которое начиналось так: «О, скажи, ты видишь в раннем свете рассвета?» Через несколько дней слова, положенные на музыку популярной песни, распевали по всему Балтимору.
Хорошие новости с более дальних фронтов также вскоре достигли Вашингтона. Американский флот на озере Шамплейн одержал внезапную победу над британской армадой 11 сентября 1814 года. Обескураженные британцы вели там нерешительный бой и отступили в Канаду. Во Флориде, после того как британский флот прибыл в залив Пенсакола, американская армия под командованием генерала Эндрю Джексона захватила Пенсаколу (находящуюся под контролем Испании с конца 1700-х годов) в ноябре 1814 года. Таким образом, британцы лишились места для высадки.Президент Мэдисон процитировал эти победы в послании Конгрессу.
Но Палата представителей осталась непреклонна; он проголосовал 79-37 за рассмотрение вопроса об отказе от Вашингтона. Тем не менее, Мэдисон сопротивлялась. Долли призвала все свои социальные ресурсы, чтобы убедить конгрессменов передумать. В Octagon House она руководила несколькими уменьшенными версиями своих гала-концертов в Белом доме. В течение следующих четырех месяцев Долли и ее союзники лоббировали законодателей, продолжая обсуждать это предложение.Наконец, обе палаты Конгресса проголосовали не только за то, чтобы остаться в Вашингтоне, но и за восстановление Капитолия и Белого дома.
Тем не менее, Мэдисон сопротивлялась. Долли призвала все свои социальные ресурсы, чтобы убедить конгрессменов передумать. В Octagon House она руководила несколькими уменьшенными версиями своих гала-концертов в Белом доме. В течение следующих четырех месяцев Долли и ее союзники лоббировали законодателей, продолжая обсуждать это предложение.Наконец, обе палаты Конгресса проголосовали не только за то, чтобы остаться в Вашингтоне, но и за восстановление Капитолия и Белого дома.
Беспокойство Мэдисонов никоим образом не закончилось. После того как законодательный орган Массачусетса созвал конференцию пяти штатов Новой Англии в Хартфорде, штат Коннектикут, в декабре 1814 года, по стране прокатились слухи о том, что янки собираются отделиться или, по крайней мере, потребовать полунезависимости, которая могла бы означает конец Союза. Один из делегатов слил в прессу «сенсацию»: президент Мэдисон уйдет в отставку.
Тем временем 8000 британских солдат высадились в Новом Орлеане и столкнулись с войсками генерала Джексона. Если они захватят город, то получат контроль над долиной реки Миссисипи. В Хартфорде съезд разъединения отправил делегатов в Вашингтон, чтобы противостоять президенту. По другую сторону Атлантики британцы выдвигали возмутительные требования к американским посланникам во главе с министром финансов Альбертом Галлатином, направленные на подчинение Соединенных Штатов. «Перспектива мира становится все мрачнее и мрачнее», — писал Долли жене Галлатина, Ханне, 26 декабря.
Если они захватят город, то получат контроль над долиной реки Миссисипи. В Хартфорде съезд разъединения отправил делегатов в Вашингтон, чтобы противостоять президенту. По другую сторону Атлантики британцы выдвигали возмутительные требования к американским посланникам во главе с министром финансов Альбертом Галлатином, направленные на подчинение Соединенных Штатов. «Перспектива мира становится все мрачнее и мрачнее», — писал Долли жене Галлатина, Ханне, 26 декабря.
14 января 1815 года глубоко обеспокоенный Долли снова написал Ханне: «Сегодня станет известна судьба Северного Орлеана, от которой так много зависит». Она ошибалась. Остаток января прошел без новостей из Нового Орлеана. Тем временем делегаты Хартфордского съезда прибыли в Вашингтон. Они больше не предлагали отделения, но хотели внесения поправок в Конституцию, ограничивающих власть президента, и пообещали созвать еще один съезд в июне, если война продолжится.Не было никаких сомнений в том, что эта вторая сессия порекомендует отделение.
Федералисты и другие предсказывали, что Новый Орлеан будет потерян; раздавались призывы к импичменту Мэдисона. В субботу, 4 февраля, в Вашингтон прибыл гонец с письмом от генерала Джексона, в котором сообщалось, что он и его люди разгромили британских ветеранов, убив и ранив около 2100 из них, потеряв всего 7 человек. Новый Орлеан и река Миссисипи — останется в руках американцев! Когда наступила ночь и новости облетели столицу страны, тысячи ликующих празднующих прошли маршем по улицам со свечами и факелами.Долли поставила свечи во все окна Octagon House. В суматохе делегаты Хартфордского съезда удрали из города, и о них больше никогда не было слышно.
Десять дней спустя, 14 февраля, пришло еще более удивительное известие: Генри Кэрролл, секретарь американской мирной делегации, вернулся из Гента, Бельгия. Жизнерадостная Долли призвала своих друзей пойти на прием в тот вечер. Когда они прибыли, им сказали, что Кэрролл принес проект мирного договора; президент был наверху в своем кабинете, обсуждая это со своим кабинетом.
Дом был битком набит представителями и сенаторами с обеих сторон. Репортер из The National Intelligencer поразился тому, как эти политические противники поздравляли друг друга благодаря теплой улыбке Долли и растущей надежде на окончание войны. «Никто… кто видел сияние радости, озарявшее ее лицо, — писал репортер, — не мог усомниться, — что всей неуверенности пришел конец». Это было намного меньше, чем правда. На самом деле, президент был не в восторге от документа Кэрролла, который предлагал лишь прекращение сражений и смертей.Но он решил, что, приняв его сразу после новостей из Нового Орлеана, американцы почувствуют, что они выиграли вторую войну за независимость.
Долли предусмотрительно разместила свою кузину Салли Коулз у входа в комнату, где президент принимал решение. Когда дверь открылась и Салли увидела улыбки на всех лицах, она бросилась к началу лестницы и закричала: «Мир, мир». Octagon House взорвался от радости. Люди бросились обнимать и поздравлять Долли. Дворецкий начал наполнять все бокалы в поле зрения.Даже слуг пригласили выпить, и, по некоторым данным, им потребовалось бы два дня, чтобы прийти в себя после празднования.
Дворецкий начал наполнять все бокалы в поле зрения.Даже слуг пригласили выпить, и, по некоторым данным, им потребовалось бы два дня, чтобы прийти в себя после празднования.
За одну ночь Джеймс Мэдисон превратился из потенциально импичментируемого президента в национального героя благодаря решимости генерала Эндрю Джексона и Долли Мэдисон. Демобилизованные солдаты вскоре маршировали мимо Octagon House. Долли стояла на ступеньках рядом с мужем, принимая их приветствия.
Адаптировано из Интимная жизнь отцов-основателей Томаса Флеминга.Авторское право © 2009. С разрешения издателя Smithsonian Books, выходных данных HarperCollins Publishers.
Белый дом в 1814 году перед поджогом британцами. Корбис Когда британцы приблизились к Белому дому, Долли Мэдисон приказала убрать портрет Джорджа Вашингтона Гилберта Стюарта. Фонд Монпелье
Джеймс Мэдисон ценил политическую проницательность своей жены. По мере продвижения британцев первая леди осознала символическое значение портрета Джорджа Вашингтона для нации.
Коллекция Бурштейна / Corbis
«Я настаиваю на том, чтобы подождать, пока не появится большая картина генерала.Вашингтон в безопасности», — написала Мэдисон в письме сестре.
Историческая ассоциация Белого дома (собрание Белого дома)
Наступая на столицу, контр-адмирал сэр Джордж Кокберн известил миссис Мэдисон, что вскоре рассчитывал «поклониться» в ее гостиной — как завоеватель поверженного Вашингтона (взятие города 24 августа 1814 г.
Фонд Монпелье
Джеймс Мэдисон ценил политическую проницательность своей жены. По мере продвижения британцев первая леди осознала символическое значение портрета Джорджа Вашингтона для нации.
Коллекция Бурштейна / Corbis
«Я настаиваю на том, чтобы подождать, пока не появится большая картина генерала.Вашингтон в безопасности», — написала Мэдисон в письме сестре.
Историческая ассоциация Белого дома (собрание Белого дома)
Наступая на столицу, контр-адмирал сэр Джордж Кокберн известил миссис Мэдисон, что вскоре рассчитывал «поклониться» в ее гостиной — как завоеватель поверженного Вашингтона (взятие города 24 августа 1814 г. ).«Где я буду завтра, я не могу сказать», — написал Долли перед бегством из Белого дома.
Корбис
Хотя Долли не смогла лично взять с собой портрет Вашингтона во время бегства из Белого дома, она отложила свой отъезд до последнего возможного момента, чтобы организовать его сохранность.Беттманн / Корбис
По словам историка Бет Тейлор, главная забота Долли заключалась в том, чтобы «это культовое изображение не было осквернено».
Историческая ассоциация Белого дома (собрание Белого дома)
Долли (80 лет в 1848 г.
).«Где я буду завтра, я не могу сказать», — написал Долли перед бегством из Белого дома.
Корбис
Хотя Долли не смогла лично взять с собой портрет Вашингтона во время бегства из Белого дома, она отложила свой отъезд до последнего возможного момента, чтобы организовать его сохранность.Беттманн / Корбис
По словам историка Бет Тейлор, главная забота Долли заключалась в том, чтобы «это культовое изображение не было осквернено».
Историческая ассоциация Белого дома (собрание Белого дома)
Долли (80 лет в 1848 г. ) почитали за спасение сокровищ молодой республики.Позже она вспоминала о своем поспешном уходе из Белого дома: «В эти последние минуты я прожила целую жизнь».
Коллекция Грейнджер, Нью-Йорк
Война 1812 г.
Женская история
) почитали за спасение сокровищ молодой республики.Позже она вспоминала о своем поспешном уходе из Белого дома: «В эти последние минуты я прожила целую жизнь».
Коллекция Грейнджер, Нью-Йорк
Война 1812 г.
Женская историяРекомендуемые видео
Сожжение Вашингтона — Историческая ассоциация Белого дома
Незадолго до того, как Мордехай Бут бежал из столицы в среду, 24 августа 1814 года, он поехал в резиденцию президента, чтобы посмотреть, есть ли еще кто-нибудь внутри.У входа он увидел американского полковника, который спешился, подошел к входной двери, сильно потянул за веревку звонка, постучал в дверь и позвал стюарда Жана Сьюсса, известного как Француз Джон. Но, как записал Бут, «все было тихо, как в церкви». Только тогда этот старший клерк Военно-морской верфи осознал ужасную реальность, «что столица нашей страны была брошена на произвол судьбы». В течение нескольких часов британские оккупационные войска подожгли Дом президента и несколько других общественных зданий.Ад был настолько сильным, что зарево в ночном небе было видно за пятьдесят миль британскими членами экипажа на борту военных кораблей в реке Патаксент, встревоженными американцами в Балтиморе и Лисбурге, штат Вирджиния.
Но, как записал Бут, «все было тихо, как в церкви». Только тогда этот старший клерк Военно-морской верфи осознал ужасную реальность, «что столица нашей страны была брошена на произвол судьбы». В течение нескольких часов британские оккупационные войска подожгли Дом президента и несколько других общественных зданий.Ад был настолько сильным, что зарево в ночном небе было видно за пятьдесят миль британскими членами экипажа на борту военных кораблей в реке Патаксент, встревоженными американцами в Балтиморе и Лисбурге, штат Вирджиния.
За пять лет, которые потребовались для исследования и написания книги о сожжении Вашингтона, ничто не поразило меня так мучительно, как мучительное отчаяние Бута в тот момент. Казалось, он выражает вой нации. И все же это был лишь мимолетный инцидент в череде драматических событий.В течение трех недель британцы попытались пробить себе путь в Балтимор, обстреливая форт Мак-Генри с военных кораблей, но были отброшены стойкой защитой, вдохновившей очевидца, Фрэнсиса Скотта Ки, на сочинение слов «Усеянное звездами знамя». Несколько дней спустя драма вернулась в Вашингтон, поскольку Конгресс едва не отклонил предложение о переносе столицы в другой город, чтобы сэкономить на восстановлении. Возможно, на них повлияло предчувствие одного южного конгрессмена, который предупредил: «Если правительство когда-то будет поставлено на колеса, трудно сказать, где оно остановится.Но эта драма сама по себе была омрачена в канун Рождества, когда американские и британские комиссары по делам мира подписали в Генте, Бельгия, Договор о мире и дружбе, положивший конец дорогостоящей войне, которая истощила обе страны.
Несколько дней спустя драма вернулась в Вашингтон, поскольку Конгресс едва не отклонил предложение о переносе столицы в другой город, чтобы сэкономить на восстановлении. Возможно, на них повлияло предчувствие одного южного конгрессмена, который предупредил: «Если правительство когда-то будет поставлено на колеса, трудно сказать, где оно остановится.Но эта драма сама по себе была омрачена в канун Рождества, когда американские и британские комиссары по делам мира подписали в Генте, Бельгия, Договор о мире и дружбе, положивший конец дорогостоящей войне, которая истощила обе страны.
Известия о подписании пересекли Атлантику больше месяца, прибыв слишком поздно для людей, которые напрасно умрут, пока импровизированная армия Эндрю Джексона, состоящая из хулиганов, деревенщин, пиратов и ополченцев, сражалась на ровном поле со стерней сахарного тростника против опытные британские завсегдатаи нескольких европейских кампаний.В финале этой необычайной чехарды эпических событий люди Джексона одержали одну из самых однобоких побед в военной истории — даже несмотря на то, что это была ненужная резня врагов, которые не знали, что они уже в мире.
Сожжение Вашингтона, которое полностью выпотрошило Дом президента, не состоялось бы, если бы не продолжавшаяся война между Великобританией и Францией, которые пытались ослабить друг друга, нацелившись на торговлю с нейтральными американскими кораблями. Французы не стеснялись захватывать британские грузы на борту американских кораблей и запрещать U.Суда S. из европейских портов, если они впервые пришвартовались в британских гаванях. Британцы запретили американским судам заходить в порты, контролируемые Францией, если они сначала не встанут на якорь в британских гаванях.
Британцы также взяли на абордаж сотни американских кораблей в открытом море, утащив толпы своих моряков, перешедших на сторону растущего американского торгового флота, который предлагал лучшую оплату и условия. Чванливая имперская власть использовала тупой инструмент своего грозного флота, отказываясь признать право своих моряков отказаться от гражданства и стать натурализованными американцами.В течение шестилетнего периода до 1810 года британцы похитили почти 5000 моряков с американских судов, в том числе 1361 коренного американца, которые позже были освобождены без особых извинений.
Доведенные до бешенства американцы не нуждались в уговорах, чтобы заставить их начать войну. Британский дипломат в Вашингтоне ясно видел возможность столкновения, когда писал домой своей матери: «Пока мы наносим удары по французскому морскому пехотинцу, мы хотим простора для локтей, а эти добрые нейтралы нам его не дадут, и поэтому они получают несколько боковых толчков, которые заставляют их ворчать.Однако я надеюсь, что они лучше увидят свои интересы, чем будут серьезно ссориться с нами».
Эти постоянные оскорбления достоинства свободного и суверенного народа были невыносимы для гордых молодых американцев, таких как Генри Клэй из Кентукки и Джон К. Кэлхун из Южной Каролины, оба из которых родились после Декларации независимости. Выборы 1810 года отправили этот грозный дуэт и других молодых «военных ястребов» в Конгресс, и быстро стало очевидно, что то, что было терпимо для пожилых американцев, стало неприемлемым для нового поколения.Они предпочли «войну со всеми сопутствующими ей пороками унизительному подчинению». Рана национальной гордости так долго гноилась, что призывы к трансатлантическим связям не производили никакого впечатления. Лидер тех, кто выступал против войны, представитель Роанока Джон Рэндольф тщетно выступал против братоубийственной войны против тех, кто разделял одну кровь, религию, язык, правовую систему, представительное правительство и даже произведения Шекспира и Ньютона. В июне 1812 года боевые ястребы одержали победу, и своей подписью под одобренным Конгрессом объявлением войны президент Джеймс Мэдисон направил маленького трансатлантического выскочку в бой против самой могущественной державы на земле.
Рана национальной гордости так долго гноилась, что призывы к трансатлантическим связям не производили никакого впечатления. Лидер тех, кто выступал против войны, представитель Роанока Джон Рэндольф тщетно выступал против братоубийственной войны против тех, кто разделял одну кровь, религию, язык, правовую систему, представительное правительство и даже произведения Шекспира и Ньютона. В июне 1812 года боевые ястребы одержали победу, и своей подписью под одобренным Конгрессом объявлением войны президент Джеймс Мэдисон направил маленького трансатлантического выскочку в бой против самой могущественной державы на земле.
Но зачем британцам нацеливаться на Вашингтон, когда война идет уже третий год, после грохота и столкновений, приуроченных к далекой канадской границе? Американская столица была не более чем неуклюжей деревушкой, зародышем города, которым она стремилась стать. Прошло всего четырнадцать лет с тех пор, как столица переместилась из Филадельфии, и население выросло до немногим более 8000 человек, из которых одну шестую составляли рабы. Липкие просторы потомакского участка были все еще почти бесплодны и уж точно унылы.Генеральный прокурор Ричард Раш описал Вашингтон как «скудную деревню с несколькими плохими домами и обширными болотами». Огастус Джон Фостер, которому предстояло пройти путь от младшего дипломата до последнего британского министра в Соединенных Штатах перед началом войны между двумя странами, сокрушался о своем назначении в «полную могилу, эта дыра». В другом письме домой Фостер не был грубым, горестным и лишенным утонченности: «К счастью для меня, я был в Турции и чувствовал себя как дома в этой первозданной простоте нравов.
Липкие просторы потомакского участка были все еще почти бесплодны и уж точно унылы.Генеральный прокурор Ричард Раш описал Вашингтон как «скудную деревню с несколькими плохими домами и обширными болотами». Огастус Джон Фостер, которому предстояло пройти путь от младшего дипломата до последнего британского министра в Соединенных Штатах перед началом войны между двумя странами, сокрушался о своем назначении в «полную могилу, эта дыра». В другом письме домой Фостер не был грубым, горестным и лишенным утонченности: «К счастью для меня, я был в Турции и чувствовал себя как дома в этой первозданной простоте нравов.
Несмотря на то, что Вашингтон не имел стратегического значения для британских вооруженных сил, командующий и начальник североамериканской резидентуры адмирал сэр Александр Кокрейн имел в виду нанести американцам «полный треп». Это должно было отомстить за бесчинства американцев, которые за год до этого разграбили и сожгли общественные и частные здания в Йорке (современный Торонто), столице Верхней Канады. Прежде всего, захват столицы унизит и деморализует американцев и, вдобавок, может даже привести к распаду Соединенных Штатов.Ранние признаки того, что Вашингтон станет мишенью, остались незамеченными, хотя британская пресса открыто спекулировала на судьбе американской столицы. Было предпринято мало действий, даже после того, как эмиссары США в Европе предупредили, что падение Наполеона в середине 1814 года высвободит тысячи британских солдат для войны против Америки. Военный министр Джон Армстронг отказался принимать эти сигналы всерьез, даже когда британский флот вошел в реку Патаксент в пятидесяти милях к востоку от Вашингтона в августе 1814 года.«Ей-богу, — возмутился он генерал-майору Джону Ван Нессу, беспокойному начальнику милиции в округе Колумбия, — они не пришли бы с таким флотом, не намереваясь нанести какой-нибудь удар. Но сюда они точно не придут! Какого черта они здесь будут делать? Нет! Нет! Балтимор — это место, сэр. Это имеет гораздо большее значение».
Прежде всего, захват столицы унизит и деморализует американцев и, вдобавок, может даже привести к распаду Соединенных Штатов.Ранние признаки того, что Вашингтон станет мишенью, остались незамеченными, хотя британская пресса открыто спекулировала на судьбе американской столицы. Было предпринято мало действий, даже после того, как эмиссары США в Европе предупредили, что падение Наполеона в середине 1814 года высвободит тысячи британских солдат для войны против Америки. Военный министр Джон Армстронг отказался принимать эти сигналы всерьез, даже когда британский флот вошел в реку Патаксент в пятидесяти милях к востоку от Вашингтона в августе 1814 года.«Ей-богу, — возмутился он генерал-майору Джону Ван Нессу, беспокойному начальнику милиции в округе Колумбия, — они не пришли бы с таким флотом, не намереваясь нанести какой-нибудь удар. Но сюда они точно не придут! Какого черта они здесь будут делать? Нет! Нет! Балтимор — это место, сэр. Это имеет гораздо большее значение».
I f Военный министр, бывший генерал-майор, имевший доступ ко всем сведениям разведки, отказался воспринимать британцев всерьез, и неудивительно, что население в целом было застигнуто врасплох. Когда известия о британском наступлении на суше просочились к вашингтонцам, тревожное спокойствие превратилось в полноценное бегство, движимое страхом, а затем абсолютным ужасом в расширяющемся столпотворении.
Когда известия о британском наступлении на суше просочились к вашингтонцам, тревожное спокойствие превратилось в полноценное бегство, движимое страхом, а затем абсолютным ужасом в расширяющемся столпотворении.
Это было самое жаркое лето на моей памяти, и дождя не было уже три недели. Пыльные дороги были забиты отчаявшимися беженцами, их скудное имущество рассыпалось в давке, чтобы спастись. Другие бежали в лесные окрестности, предпочитая безопасность дикой природы незащищенности своих домов.К тому времени, когда британцы установили еду на Капитолийском холме после захода солнца в среду, 24 августа, около 90 процентов жителей Вашингтона сбежали. Среди тех, кто сбежал, был Джорджтаунский библиотекарь и владелец книжного магазина Джозеф Миллиган, который бежал далеко через Вирджинию, прибыв настолько бессвязно и иррационально в дом знакомого, что сказал своему хозяину, что, по его мнению, его преследуют британцы.
Здравомыслящие советники преобладали в государственных органах, где многие канцелярии оставались укомплектованными, поскольку большинство служащих были старше сорока пяти лет и поэтому освобождались от призыва в милицию. Но в подвале Палаты представителей большая часть офисов была пуста, потому что почти все сотрудники были молодыми людьми. Только Дж.Т. Фрост, новичок за сорок пять, остался за этой партой. В момент острого кризиса на человека с небольшим опытом и еще меньшим авторитетом ложилась ответственность за принятие поспешных решений решающей важности. Он остро нуждался в руководящей руке клерка Палаты представителей Патрика Магрудера, бывшего члена Конгресса и хранителя Библиотеки Конгресса.Но здесь, как и во многих других случаях этой катастрофы, человеческий фактор имел первостепенное значение. События коснулись характера и местонахождения людей. Магрудер болел несколько месяцев и, наконец, последовал совету своего врача покинуть город, чтобы попытаться восстановить свое здоровье на минеральных курортах.
Но в подвале Палаты представителей большая часть офисов была пуста, потому что почти все сотрудники были молодыми людьми. Только Дж.Т. Фрост, новичок за сорок пять, остался за этой партой. В момент острого кризиса на человека с небольшим опытом и еще меньшим авторитетом ложилась ответственность за принятие поспешных решений решающей важности. Он остро нуждался в руководящей руке клерка Палаты представителей Патрика Магрудера, бывшего члена Конгресса и хранителя Библиотеки Конгресса.Но здесь, как и во многих других случаях этой катастрофы, человеческий фактор имел первостепенное значение. События коснулись характера и местонахождения людей. Магрудер болел несколько месяцев и, наконец, последовал совету своего врача покинуть город, чтобы попытаться восстановить свое здоровье на минеральных курортах.
Коллега Фроста, Сэмюэл Берч, изо всех сил пытался убедить начальство позволить ему остаться за своим столом в надежде спасти документы Палаты представителей. Но и его вывели из города навстречу врагу. В конце концов он был свергнут ночью в воскресенье, 21 августа, за три дня до того, как британцы захватили столицу. Но когда на следующий день он отправился искать транспорт, было уже поздно. Большинство телег и фургонов были захвачены военными, а остальные были завалены товарами бегущих гражданских лиц.
В конце концов он был свергнут ночью в воскресенье, 21 августа, за три дня до того, как британцы захватили столицу. Но когда на следующий день он отправился искать транспорт, было уже поздно. Большинство телег и фургонов были захвачены военными, а остальные были завалены товарами бегущих гражданских лиц.
В отчаянии Берч приказал трем курьерам прочесать сельскую местность в поисках транспорта. Они вернулись только с одной повозкой и четырьмя волами, купленными у человека, который жил в шести милях от деревни.В эту единственную тележку они погрузили самые важные документы Палаты представителей, затем развернули волов и поехали девять миль в сельскую местность, где выгрузили документы в безопасном месте. Они вернулись в Вашингтон, но в среду, 24 августа, всего за несколько часов до того, как британцы водрузили Юнион Джек на Капитолийском холме, все они присоединились к общему исходу беженцев.
Берч и Фрост были очень расстроены. Оба мужчины знали, что могли бы спасти все документы Палаты представителей и даже огромное содержимое Библиотеки Конгресса, если бы только им удалось захватить больше транспорта.
Архивные материалы Сената оказались в такой же опасности, потому что не было никого, кто занимал бы административное положение, чтобы взять на себя ответственность. Сэмюэл Отис, секретарь Сената с 1789 года, умер в апреле 1814 года, и за прошедшие четыре месяца никто не назначил его преемника. Главный клерк был вдали от города, и только двум младшим клеркам, Джону Макдональду и Льюису Мейчену, оставалось решать, брать ли дело в свои руки. Двадцатичетырехлетний Мейчен должен был быть призван в Д.C. ополчения, где он командовал ротой в звании капитана, но семью неделями ранее он купил ферму в Мэриленде, что лишило его права занимать комиссию в округе. Его еще не призвали в ополчение Мэриленда, поэтому он решил стать доступным для выполнения гражданских задач в Капитолии США.
Мейчен тщетно ждал распоряжения или инструкций сверху, но ни того, ни другого не последовало. К полудню воскресенья 21 st , всего за три дня до того, как британцы вошли в Вашингтон, он не мог больше ждать. Повсюду вокруг себя он видел признаки «сомнений, замешательства и смятения». Он поставил Макдональду ультиматум: помогите убрать документы Сената из Капитолия, иначе он будет действовать один. Макдональд с готовностью согласился, но теперь им предстояло найти подходящий транспорт, товар, ставший более ценным, чем драгоценности.
Повсюду вокруг себя он видел признаки «сомнений, замешательства и смятения». Он поставил Макдональду ультиматум: помогите убрать документы Сената из Капитолия, иначе он будет действовать один. Макдональд с готовностью согласился, но теперь им предстояло найти подходящий транспорт, товар, ставший более ценным, чем драгоценности.
Мейчен получил одну повозку, сказав водителю, что конфискует ее, если водитель не отдаст ее добровольно. Однако, когда они вернулись в Капитолий, они обнаружили, что Макдональд ушел, по-видимому, чтобы принять меры для обеспечения безопасности своей семьи.Затем Мейчен, водитель и посыльный загрузили наиболее ценные документы, в том числе то, что, как он позже сказал, было единственным экземпляром сенатской истории исполнительной власти за четверть века, а также еще один, в котором перечислялись имена и должности всех американских вооруженных сил. Они отправились на закате на ферму Мейчена в графстве Принс-Джордж, штат Мэриленд, но все еще находились в пределах границ округа Колумбия, когда у фургона сорвалось колесо. К счастью, они оказались рядом с кузницей и смогли украсть замену.Но поздно ночью, когда они были еще в двух милях от фермы Мачена, фургон перевернулся, и ремонт и перегрузка заняли несколько часов. На следующее утро, когда прибыл Макдональд, он отвез груженый фургон в квакерскую деревню Бруквилль в соседнем округе Монтгомери, подальше от пути наступающих британцев. Документы Сената оставались там до следующего месяца, когда они были возвращены в Вашингтон.
К счастью, они оказались рядом с кузницей и смогли украсть замену.Но поздно ночью, когда они были еще в двух милях от фермы Мачена, фургон перевернулся, и ремонт и перегрузка заняли несколько часов. На следующее утро, когда прибыл Макдональд, он отвез груженый фургон в квакерскую деревню Бруквилль в соседнем округе Монтгомери, подальше от пути наступающих британцев. Документы Сената оставались там до следующего месяца, когда они были возвращены в Вашингтон.
Госсекретарь Джеймс Монро, следивший верхом за британцами, продвигавшимися к востоку от Вашингтона, отправил в Государственный департамент нацарапанную записку, в которой велел своим сотрудникам охранять, насколько это возможно, ценные национальные документы и ведомственные записи.Один из клерков, Стивен Плезонтон, поспешил купить грубое прочное полотно и приказал раскроить его и сшить из него сумки для книг. Вместе с другими клерками он набил сумки Декларацией независимости, Конституцией, международными договорами и корреспонденцией Джорджа Вашингтона, включая историческое письмо об отставке его полномочий.
Когда они работали в коридоре военного министерства, расположенного недалеко от западного фланга президентской резиденции, мимо проходил военный министр Армстронг и упрекнул Плезонтона в том, что он паникер, полагая, что британцы двинутся на Вашингтон.Плезонтон без колебаний ответил, что у него другое мнение, и он считает благоразумным попытаться защитить бумаги революционного правительства.
Плезонтон погрузил мешки в тележки и пересек реку Потомак, проехав две мили вверх по течению над Джорджтауном, где он оставил их на заброшенной мельнице. Но потом он передумал, потому что фабрика находилась напротив литейного завода Фоксалла в Джорджтауне, крупнейшего производителя боеприпасов в стране, и наверняка станет мишенью для британцев.Шпион или перебежчик может легко привести врага к ближайшему укрытию. Поэтому он перезагрузил тележки своим драгоценным грузом и проехал тридцать пять миль вглубь страны до Лисбурга, штат Вирджиния, где положил документы в пустой дом, запер дверь и отдал ключ местному шерифу. Затем он поселился в отеле, слишком уставший, чтобы присоединиться к горожанам, которые в ту ночь вышли на улицы, чтобы полюбоваться заревом в небе над горящим Вашингтоном.
Когда передовая группа британских командиров въехала на Капитолийский холм на закате, их встретил залп снайперского огня из дома на пересечении Мэриленд-авеню, Конститьюшн-авеню и Второй улицы, Н.Э. Это были единственные выстрелы по оккупантам в столице, теперь тихой и почти заброшенной. Выстрелы сбили лошадь, на которой ехал высший британский командир генерал-майор Роберт Росс, убили по крайней мере одного вражеского солдата и ранили другого. В соответствии со своей политикой разрушения зданий, используемых во враждебных целях, вторгшиеся в ответ быстро подожгли дом, хотя анонимные снайперы скрылись. Перед тем, как стемнело, одна жительница Вашингтона в ужасе выглянула из своего окна и увидела, как Юнион Джек летит на вершине Капитолийского холма, а вражеские войска передвигались, размахивая ракетами Конгрива.
Некоторые из захватчиков теперь приблизились к зданиям-близнецам Капитолия высотой 67 футов — Сенату на севере и более новому Дому на юге. Центральная часть Капитолия не была построена; два крыла были соединены крытой деревянной дорожкой длиной 100 футов. Другие войска вторжения двинулись на юг, чтобы сжечь большую часть военно-морской верфи, уже полыхающей пламенем, упреждающе устроенным американцами, надеющимися воспрепятствовать британским припасам и военно-морским судам.
Когда британцы вошли в залы Палаты представителей и Сената, они прошли через монументальные каменные интерьеры, украшенные рифлеными колоннами и арочными входами под куполообразными вестибюлями.Они взбежали по парадной лестнице в богато украшенные комнаты со сводчатыми потолками. Один молодой офицер, ожидавший найти «республиканскую простоту», был поражен окружающими его свидетельствами «монархического великолепия». Иностранцы были настолько поражены величием зданий, что несколько младших офицеров были встревожены приказом все это сжечь.
Архитектор, ответственный за последнее десятилетие, англичанин Бенджамин Генри Латроб, со строгостью перфекциониста руководил созданием национальной столицы, которая по своей внушительной красоте могла сравниться со многими другими аналогами за морем.В молодой республике не было выдающихся скульпторов, поэтому Латроб присмотрелся к землям Микеланджело и Донателло, Леонардо и Челлини и, найдя двух достойных тосканцев, нанял их. Джованни Андрей работал слишком медленно для нетерпеливого Латроба, но когда он закончил первую часть своих колонн, архитектор порадовался этому «художнику высочайшего мастерства». Латроб заказал у другого тосканца, Джузеппе Францони, большого американского орла с размахом крыльев более двенадцати футов.Когда он был завершен, Латроб объявил его лучшим орлом за всю историю скульптуры. Он висел высоко над креслом спикера, лицом к британским захватчикам, когда они вошли в зал Палаты представителей.
Колоссальный орел постигла та же участь, что и другие славные произведения искусства Капитолия, когда вандалы зажгли костры из куч мебели, намазанных горючим содержимым ракет Конгрева. Жара была настолько невыносимой, что стеклянные масляные лампы и сотня английских стеклянных оконных люков плавились в шипящих обломках.Пламя создало такой жар, что внешний камень колонн расширился и отвалился, оставив деформированные валы шаткими и гротескными. Тяжелая деревянная Библиотека Конгресса, набитая примерно тремя тысячами томов редких книг, сгорела дотла. Комната длиной 86 футов имела плоский потолок высотой 36 футов, который, если бы он был сводчатым, мог бы служить противопожарной перегородкой.
Было что-то несоответствующее в опустошении и хаосе позади них и тишине впереди, когда сто британских солдат молча продвигались двумя стройными колоннами по Пенсильвания-авеню, между двойными рядами величественных ломбардских тополей.Рабы мчались вперед, предупреждая жителей, чтобы они бежали, пока они могут, поскольку захватчики собирались сжечь Дом президента и правительственные учреждения с флангов.
По пути, протяженностью чуть более мили, британские командиры несколько раз останавливались, чтобы заверить встревоженных жителей, что их жизнь и частная собственность будут в безопасности, пока они не возьмутся за оружие против оккупантов. Это не были спонтанные обещания, сделанные под влиянием момента. Генерал Росс даже поручил шотландскому офицеру майору Норману Принглу командовать ротой специально для защиты частной собственности на Пенсильвания-авеню.Они выступили бы так достойно, что американцы уважительно вспоминали бы их долгие годы.
Когда они приблизились к юго-восточному перекрестку Пятнадцатой улицы и Пенсильвания-авеню, британцы окружили невысокий кирпичный пансион, которым последние два месяца управляла вдова Барбара Сутер. Генерал Росс дразнил испуганную женщину, говоря ей, что он «пришел, мадам, поужинать с вами». Она попыталась направить его в отель «Вашингтон» через дорогу, но Росс не пожелал этого, сказав ей, что у нее лучшее место из-за лучшего вида на общественные здания.Во время их короткой встречи она с ужасом узнала от Росса, что один из его шпионов обманул ее несколькими днями ранее, когда она приняла его за британского дезертира и накормила вопреки совету одного из ее постоянных жителей, генерального почтмейстера. Уходя, генерал Росс сказал ей приготовить еду на тот вечер, когда он вернется с несколькими офицерами.
Теперь в нескольких сотнях ярдов от Дома президента оккупационные силы приближались с направления, противоположного тому, по которому шла процессия высокопоставленных лиц во главе с масонами в иерархическом порядке, принимавших участие в церемонии закладки краеугольного камня. был заложен двадцатью двумя годами ранее.По крайней мере, один американец сопровождал британских солдат и моряков в Дом президента. Роджер Чу Вейтмен, молодой книготорговец, недавно женившийся, был вынужден сопровождать захватчиков в особняк, где адмирал Джордж Кокберн дразнил его с озорным удовольствием. Когда Кокберн сказал ему выбрать на память о визите, Вейтман выбрал ценный предмет, но адмирал сказал ему, что все ценное будет уничтожено и вместо этого он должен выбрать бесполезный сувенир.
Вандалы устали, хотели пить и проголодались.Была почти полночь, и закончился изнурительный день, начавшийся с семичасового марш-броска от Верхнего Мальборо через мили леса, заросли и кусты, пока они не достигли Бладенсбурга, где они вели непрерывный бой с американцами в жара была такой жестокой, что восемнадцать захватчиков упали замертво от истощения. А затем они прошли еще шесть миль до Вашингтона.
Теперь, когда они были в Доме Президента, они безвкусно пировали едой и вином, приготовленным для стола из сорока военных и членов кабинета министров, которых Долли Мэдисон ожидала к обеду.Один из британцев поднял тост за здоровье своего принца-регента. Другой поднял бокал за успех сухопутных и военно-морских сил Его Величества. Затем они выпили «за мир с Америкой и долой Мэдисон». Кто-то нашел одну из треугольных шляп Джеймса Мэдисона и, подняв ее на кончик штыка, заявил, что, если им не удастся поймать «маленького президента», они выставят его шляпу напоказ в Англии.
Моряки поспешили вверх по лестнице и в более многочисленные помещения наверху, где хватали сувениры и одежду.Но уже были признаки мародерства проникшими ранее местными ворами. Ящики были открыты, и их содержимое беспорядочно разбросано. Все, что не было унесено англичанами, погибло в огне.
Только два предмета искусства, находившиеся в Доме президента до августовского пожара 1814 года, сегодня остались в Белом доме. Одним из них является портрет Джорджа Вашингтона в полный рост работы Гилберта Стюарта, который сейчас висит в Восточной комнате. Другая — маленькая деревянная аптечка в комнате карт внизу.Оба были вывезены из особняка при драматических обстоятельствах до того, как британцы сожгли здание.
Долли Мэдисон, одна из самых любимых женщин, когда-либо занимавших Белый дом, проявила редкое для жителей Вашингтона мужество. Она осталась в доме президента даже после того, как ее охрана из ста военных сбежала. Жена президента не поддавалась спешке даже после того, как всадник проскакал по Пенсильвания-авеню, предупредив всех, что нужно бежать, потому что британская армия разгромила американские войска в Бладенсбурге, примерно в шести милях к северо-востоку от Вашингтона.Она настояла на том, чтобы остаться, чтобы спасти портрет первого президента, который тогда висел на западной стене большой столовой. Он был приобретен федеральным правительством в качестве государственного портрета для Дома президента в 1800 году по цене 800 долларов.
В этот ужасный момент в комнату вошли два жителя Нью-Йорка и спросили, чем они могут помочь. Один из мужчин, судовладелец по имени Джейкоб Баркер, был близким другом Мэдисонов и, как и Долли, квакером. Его компаньоном был Роберт ДеПейстер.
«Сохраните эту картинку, если возможно!» — воскликнула Долли Мэдисон. «Ни при каких обстоятельствах не допустить, чтобы она попала в руки англичан!» Когда она увидела, что ее раб, Пол Дженнингс, и еще один слуга слишком долго отвинчивают гигантскую раму от стены, она велела им сломать дерево и вынуть льняной холст. В этот момент в комнату вошел Френч Джон и, увидев возможность непоправимого повреждения картины, приказал Дженнингсу остановиться. Согласно традиционным источникам, с одобрения Долли он достал перочинный нож и отрезал от его рамы тяжелую английскую саржевую ткань.
Француз Джон отдал холст Баркеру, который начал сворачивать его, пока француз не остановил его, опасаясь, что краска треснет. Затем Баркер и ДеПейстер сопроводили портрет в фургоне через Джорджтаун в сельскую местность, где оставили его у фермера, у которого они остановились на ночь. Несколько недель спустя Баркер забрал его и вернул Долли Мэдисон.
Аптечка, достаточно маленькая, чтобы ее можно было унести одной рукой, была возвращена в Белый дом 125 лет спустя, в 1939 году, канадцем Арчибальдом Кейнсом, который написал сопроводительное письмо президенту Франклину Д.Рузвельту, что она была «разграблена или разграблена из Белого дома моим дедом, который был казначеем Devastation , одной из лодок, которые плыли вверх по Патусенту (sic) в то время. …Я надеюсь, что вы найдете подходящее место для этой маленькой реликвии и будете очень рады, если приютите ее в своем собственном доме».
Самый заметный случай применения британцами правила против бессмысленного мародерства связан с солдатом, вооруженным мушкетом, который грабил жителей рядом с обугленным скелетом Президентского дома.Первой жертвой стал Джон Маклауд, владелец отеля «Вашингтон» на Пенсильвания-авеню. Угрожая поджечь здание, грабитель направился к дому второй жертвы, а сосед помчался в британскую штаб-квартиру на Капитолийском холме, чтобы забить тревогу. Два британских офицера проскакали по Пенсильвания-авеню и вошли в дом третьей жертвы, когда его грабили.
Свидетелем того, что произошло дальше, был вашингтонец. Один из молодых офицеров закричал: «Подлец! Ты стал вором и позоришь свою страну!» Вор отрицал, что делал что-то не так, но владелец отеля Маклауд возразил ему.Разъяренный офицер сжал кулак и так сильно ударил солдата кулаком, что тот пошатнулся, и с него слетела шляпа. В нем были обнаружены шелковые шали и другие ценности. Увидев это, офицер ударил вора рукояткой пистолета и пригрозил застрелить его на месте, если он немедленно не отправится в британскую штаб-квартиру. Его посадили на украденную лошадь и отвезли на Капитолийский холм. По пути он пытался сбежать, но его удача отвернулась. Его привели в штаб, а затем застрелили.Двое других британских воров, пойманных своими людьми, получили по сто ударов плетью.
Крупнейшие грабежи вашингтонцев произошли, когда британцы все еще находились в столице страны. На следующее утро после того, как они сожгли Дом президента и Капитолий, британцы вернулись на военно-морскую верфь, чтобы сжечь то, что не было уничтожено накануне вечером. Они пришли и ушли в течение пятнадцати минут. Затем местные жители с ума сошли с ума, устроив оргию краж на незащищенной Военно-морской верфи. Они врывались в дома и носились из подвалов на чердаки, хватая все, что можно было унести, даже срывая сантехнику со стен и вырывая замки из дверей.На следующее утро, когда британцы ушли, вашингтонцы вернулись к руинам Капитолия и Дома президента, чтобы щипать и ощипывать, как стервятники.
После ночи и дня поджога почти всех общественных зданий и даже нескольких частных предприятий, включая канатные дороги, из-за которых над столицей поднимались клубы удушливого черного дыма, британцы отошли к своим кораблям, опасаясь, что их путь пути отступления блокированы американскими войсками. Оккупация Вашингтона британскими войсками продолжалась около двадцати шести часов, но свидетельства их вандализма сохранились и по сей день.Некоторые блоки из песчаника Вирджинии, составляющие первоначальные стены Белого дома, явно испорчены черными подпалинами. Это неизгладимые следы пожаров 1814 года.
Левое изображение Правое изображение Национальный исторический парк Minute Man в Лексингтоне, Линкольне и Конкорде, штат Массачусетс, сохраняет и интерпретирует места, сооружения и ландшафты, которые стали полем битвы во время первого вооруженного конфликта американской революции 19 апреля 1775 года.Именно здесь британские колонисты рисковали своими жизнями и имуществом, защищая свои идеалы свободы и самоопределения. События того дня были популяризированы последующими поколениями как «выстрел, услышанный во всем мире». Часто называемые «битвами при Лексингтоне и Конкорде», боевые действия 19 апреля 1775 года бушевали на протяжении 16 миль вдоль Бэй-роуд от Бостона до Конкорда, в них участвовало около 1700 британских регулярных войск и более 4000 колониальных ополченцев. британца Потери составили 273 человека; 73 убитых, 174 раненых, 26 пропавших без вести.
Исследования боевых площадокВ Minute Man мы используем историю, живую историю, науку и технологии, чтобы узнать о прошлом. МогилыНациональный исторический парк Minute Man является одновременно полем битвы и кладбищем. Многие солдаты, погибшие во время боя, остаются в парке и сегодня ЛюдиУзнайте о людях, чьи жизни мы чтим в Minute Man.
Прелюдия к войне~ 18 апреля 1775 г.В дни, недели и месяцы, предшествовавшие 19 апреля 1775 года, напряженность в колонии Массачусетс достигла точки кипения. Предыдущим летом британские военные корабли закрыли Бостонскую гавань, Королевский губернатор генерал Томас Гейдж, которому было поручено реализовать чрезвычайно непопулярный Закон о правительстве Массачусетса, также распустил избранный законодательный орган Массачусетса, Большой и Общий суд. В октябре лидеры патриотов созвали провинциальный конгресс в Массачусетсе.Города по всему Массачусетсу решили отправить представителей в этот по существу незаконный орган, который сразу же приступил к захвату политической власти. Они взяли под свой контроль силы ополчения колонии и начали накапливать оружие, боеприпасы и продовольствие. Их целью было собрать и вооружить армию численностью 15 000 человек. У генерала Гейджа, изолированного в Бостоне, не было выбора. Наконец, следуя совету, который он получил от своего начальства в Англии, Гейдж решил отправить отряд из 700 солдат в секретную экспедицию в сельскую местность, чтобы захватить и уничтожить оружие и припасы, а также сорвать военные приготовления колонистов.Его целью был город Конкорд в 18 милях к северо-западу от Бостона, где хранилось значительное количество этого оружия и припасов. Экспедиция состояла из 21 роты гренадеров и легкой пехоты, элитных солдат армии. Гренадеров выбирали за их рост и отвагу. Они носили характерные шапки из медвежьего меха, что добавляло им роста и устрашающего вида. Легкая пехота была выбрана солдатами за их физическую скорость, выносливость и интеллект. Они были обучены рассредоточению, использованию укрытий и стычкам с врагом.Их униформа была адаптирована для этой службы: вместо шляп с полями были короткие пальто и кожаные кепки, что помогало им легче передвигаться по лесу. Соломон Браун, молодой человек из Лексингтона, который был на рынке в Бостоне, вернулся домой с известием, что он обогнал и обогнал патруль британских офицеров на Бэй-роуд. Браун сообщил о своих наблюдениях сержанту Уильяму Монро, владельцу таверны Манро.Встревоженный выходом британцев в сельскую местность, Манро собрал восемь человек из своей роты ополченцев и поставил охрану в доме Хэнкока-Кларка, где тогда жили Джон Хэнкок и Сэмюэл Адамс.(ХБХ,8) Около 20:00 группа британских офицеров верхом проезжает через Лексингтон, не пытаясь арестовать Хэнкока и Сэмюэля Адамса. Несмотря на наблюдение местных жителей, патруль продолжил движение по Бэй-роуд в сторону Линкольна, миновав район таверны Хартвелл. Как только британский патруль покинул Лексингтон, около 40 ополченцев собрались в таверне «Бакман» на Лексингтон-Грин, чтобы спланировать свой следующий шаг.Проехав ферму сержанта Сэмюэля Хартвелла из Линкольнских минитменов, британские офицеры развернулись и поехали обратно в Лексингтон в поисках идеального места для установки контрольно-пропускного пункта. Около 21:00 Ополчение Лексингтона решило отправить разведчиков верхом на лошадях, чтобы наблюдать за передвижениями британского патруля. Элайджа Сандерсон, позже известный краснодеревщик из Салема, Джонатан Лоринг и Соломон Браун, который первым заметил всадников, вызвались добровольцами.Группа покинула центр Лексингтона и направилась в сторону Линкольна, не подозревая о надвигающейся британской ловушке. Перейдя линию Линкольна и проехав почти милю, британский патруль вышел из лесного массива и под дулом пистолета схватил отряд.Затем милиционеров отвели на пастбище, где их продержали четыре часа, чтобы не допустить распространения тревоги. Генерал Томас Гейдж, королевский губернатор провинции Массачусетс-Бей, подполковнику Фрэнсису Смиту из 10-го пешего полка Его Величества«Сэр, получив сведения о том, что в Конкорде собрано некоторое количество боеприпасов, продовольствия, артиллерии, десятков и стрелкового оружия для общепризнанной цели поднять и поддержать восстание против Его Величества, вы отправитесь в поход с корпусом гренадеров и Легкая пехота передается под ваше командование, с максимальной быстротой и секретностью направляйтесь в Конкорд, где вы захватите и уничтожите всю артиллерию, боеприпасы, провизию, палатки, стрелковое оружие и все военные склады.Но вы позаботитесь о том, чтобы солдаты не грабили жителей и не наносили ущерб частной собственности». затем в тот же день вернитесь в Бостон (36 миль туда и обратно). Гренадеры и легкая пехота в Бостоне «не были проинформированы о замысле, пока не пришло время марша, их разбудили сержанты, положившие на них руки и шепчу им. Но доктор Джозеф Уоррен получил новости почти до того, как британцы покинули свои казармы. Он послал за Полом Ревиром и Уильямом Доусом-младшим. Обеспокоенный маршрутом британского марша, Доус был отправлен по более длинному маршруту, в Лексингтон через Бостон-Нек, Роксбери, Бруклин, Кембридж и Менотоми (Арлингтон). Ревир планировал переплыть реку Чарльз, а затем пройти через Менотомию в Лексингтон. Их план состоял в том, чтобы встретиться в Лексингтоне и предупредить Джона Хэнкока и Сэмюэля Адамса, которые останавливались там, пока Провинциальный конгресс был на каникулах.Оттуда они продолжат поднимать тревогу в Конкорде. Бесшумно пройдя мимо британского военного корабля «Соммерсет», Пол Ревер благополучно приземляется в Чарлстауне, где его встречает полковник Конант, член Комитета безопасности, который вместе с другими нес вахту. Он подтвердил, что видел фонари и уже отправил гонцов.Сигнал фонаря был заранее подготовленным сигналом. По словам самого Пола Ревира… «Когда я добрался до дома доктора Уоррена, я обнаружил, что он отправил сухопутным экспрессом в Лексингтон — мистера Уоррена.Уильям Доус [Dawes]. В предыдущее воскресенье я договорился с полковником Конантом и некоторыми другими джентльменами, что, если британцы отправятся в путь по воде, мы покажем два фонаря на шпиле Северной церкви; а если по суше, то один, как сигнал; потому что мы опасались, что будет трудно пересечь реку Чарльз или перебраться через Бостон-Нек. Я оставил доктора Уоррена, позвонил другу и попросил его передать сигналы». Ревир сел на лошадь и начал свое путешествие в Лексингтон. «Прошлой ночью между 10 и 11 часами все гренадеры и легкая пехота армии…. погрузились и высадились на противоположном берегу Кембриджского болота; мало кто, кроме командиров, знал, в какую экспедицию мы собираемся. Перебравшись через болото, где мы промокли по колено, мы остановились на грязной дороге и простояли там до двух часов ночи, ожидая, когда с лодок привезут и разделят провизию, а большую часть мужчины выбросили, унеся некоторые из них. В 2 часа мы начали марш…» Лейтенант Джон Баркер, 4-й пехотный полк, King’s Own.
19 апреля 1775 г.Завсегдатаев больше нет!Преподобный и Доус встретились в Лексингтоне, чтобы предупредить Сэмюэля Адамса и Джона Хэнкока, которые остановились в доме городского министра, преподобного Джонаса Кларка, пока провинциальный Конгресс был на каникулах.Когда Ревир начал кричать под окном спальни, сержант Монро из Лексингтонского ополчения, стоявший на страже, сказал ему, чтобы он не шумел. Ревир ответил: «Скоро вам будет достаточно шума! Регулярные идут!» Предупредив Адамса и Хэнкока, Ревир и Доус решили продолжить путь в Конкорд и предупредить каждое домашнее хозяйство по пути. Вскоре после того, как они отправились в Конкорд, они встретили доктора Сэмюэля Прескотта из Конкорда, который согласился поехать с ними и помочь. Капитан Паркер, командир лексингтонского ополчения, собрал свою роту на городской зелени. Пол Ревир ехал примерно в 200 ярдах впереди Уильяма Доуза и Сэмюэля Прескотта, когда его застали врасплох два британских офицера верхом на дороге у проема в стене, ведущего на пастбище. Дауэс развернулся и убежал. Прескотт перепрыгнул лошадь через забор, избежал захвата и добрался до Конкорда. Ревир спускается на пастбище, но его останавливают 6 других офицеров поблизости. Один из них крикнул: «Стой, или я вышибу тебе мозги!» Офицеры допросили Ревира под дулом пистолета; но неустрашимый Ревир воскликнул: «Вы промахнулись!» имея в виду пушки в Конкорде.Затем он сказал им, что поднял тревогу в сельской местности. «Сегодня утром между 1 и 2 часами мы были встревожены звоном колокола и при осмотре обнаружили, что войска численностью до 800 человек украли свой марш из Бостона на лодках и баржах со дна Вы, обычные люди, пришли в Кембридж … Эти сведения были доставлены нам сначала Сэмюэлем Прескоттом, который чудом избежал охраны, посланной ранее на лошадях, специально для того, чтобы все почтовые отправления и посыльные не давали нам своевременную информацию….» Преподобный Уильям Эмерсон из Конкорда. Как только прозвенели колокола, Конкорд немедленно вывел свои две роты минутников и две роты ополченцев, которые собрались в центре города возле дома собраний. Полковник Джеймс Барретт, отвечавший за охрану военных запасов в городе, начал откомандировывать людей из своих рот, чтобы помочь убрать или спрятать любые склады, которые еще не были вывезены за несколько дней до этого. Тем временем в Лексингтоне капитан Паркер распустил свою роту, приказав быть готовыми к сборке под бой барабана.Те, кто не жил рядом с городской зеленью, провели нервную ночь в Buckman Tavern. Переправа всех 700 солдат через реку Чарльз заняла более трех часов. Были и другие задержки с раздачей солдатам еды в виде твердого печенья. Многие из них были холодными, мокрыми и несчастными еще до начала марша. К 2 часам ночи колонна наконец двинулась в путь. Вскоре по округе разнеслись звуки тревоги: звон колоколов и стрельба из орудий.Всякая надежда, которую они питали в тайне, была потеряна. Британский патруль, захвативший Пола Ревира, ведет его и трех других лексингтонских разведчиков, захваченных ранее той ночью, обратно в Лексингтон. Когда они услышали звуки выстрелов, они решили, что будет лучше всего освободить пленных (без лошадей) и попытаться соединиться с колонной, идущей из Кембриджа. Ревир пробрался через «могильник и несколько пастбищ» к дому преподобного Кларка, где помог Джону Хэнкоку и Сэмюэлю Адамсу подготовиться к эвакуации. Полковник Азор Орн, полковник Джеремайя Ли и Элбридж Джерри, все члены Комитета безопасности из Марблхеда, остановились в таверне «Черная лошадь» в Менотомии (сегодня Арлингтон). Увидев марширующую британскую колонну, полагая, что их должны арестовать, мужчины сбежали через заднюю дверь таверны на холодный апрельский воздух, все еще в пижамах. Они спрятались в кукурузной стерне. Приказ, который генерал Гейдж отдал подполковнику Фрэнсису Смиту, заключался в том, чтобы отправиться в Конкорд для захвата оружия и припасов.Они не упомянули об аресте политических лидеров. Однако руководство Patriot в целом опасалось такой акции. Таддеус Боумен, которого послали разведать дорогу между Лексингтоном и Менотоми, поспешно вернулся в Лексингтон, чтобы предупредить капитана Паркера, что он заметил британскую колонну всего в полумиле отсюда. Капитан Паркер приказал барабанщику Уильяму Даймонду броситься в бой. Милиционеры поспешили на лужайку и спешно выстроились в ряды.
Лексингтон КонкордБританская легкая пехота остановилась у Вайн-Брук, примерно в полумиле от Лексингтон-Грин, чтобы зарядить мушкеты.Затем они продолжили наступление. Когда они подошли к Грину, они обнаружили роту капитана Паркера, около 77 человек, построенную и стоящую на открытом месте. Кто-то где-то за Зеленым выстрелил. Затем легкая пехота устремилась на Грин со штыками и открыла огонь по отступающим ополченцам. На городском холме в Лексингтоне погибли восемь милиционеров. Еще десять были ранены. Затем капитан Паркер работал над тем, чтобы собрать то, что осталось от его роты, и вернуть их в бой позже в тот же день. 25 апреля капитан Паркер дал показания под присягой о том, что произошло.«Я … приказал нашей милиции собраться на площади в упомянутом Лексингтоне, чтобы посоветоваться, что делать, и пришел к выводу, что их нельзя обнаружить, не вмешиваться и не вступать в отношения с указанными регулярными войсками (если они подойдут), если только они не оскорбят нас; и при их внезапном приближении я немедленно приказал нашей милиции рассредоточиться и не стрелять. Немедленно появились упомянутые войска, которые яростно бросились, открыли огонь и убили восемь человек из нашей группы, не получив поэтому от нас никакой провокации». Тревога распространяется все утро, так как в Конкорд продолжают прибывать мелкие роты и отряды ополченцев.К двум мелким ротам Конкорда и двум ротам ополчения вскоре присоединились две роты из Линкольна. Еще люди были в пути из Бедфорда и Актона. Вскоре после рассвета разведчик Рубен Браун вернулся в Конкорд с новостями о том, что он заметил в Лексингтоне завсегдатаев и что были произведены выстрелы. К сожалению, при дальнейшем нажатии он не мог сказать, стреляли ли они «шаром» (боевыми патронами) или кто-то был убит. Британцы входят в Конкорд. Таддеус Блад, рядовой роты капитана Натана Барретта, был среди передового отряда, который двинулся примерно в миле к востоку от центра города по высокому гребню, идущему вдоль северной стороны дороги.Там они увидели марширующую к ним колонну британских солдат численностью 700 человек, растянувшуюся примерно на четверть мили. Он оставил нам яркое описание сцены. «… затем мы построились, минута (люди) справа и рота капитана Барретта (ополчение) слева, и двинулись к концу холма Мериам, тогда так называемого, и увидели британские войска. Они спускались по Брукс-хиллу, солнце вставало и освещало их руки, и они выглядели благородно в своих красных плащах и блестящих руках…» Когда регулярные войска вошли в Конкорд, ополченцы, численно превосходящие 3 к 1, отступили вдоль хребта к городу, затем через Северный мост к холму, находящемуся почти в миле от него, называемому Пункатассет. Там они ждали подкрепления. Затем британцы перешли к охране Северного и Южного мостов. Генерал Гейдж в своем приказе подполковнику Смиту, командующему британской экспедицией в Конкорд, поручил ему взять под контроль два моста в городе, Южный мост и Северный мост.»Вы заметите… что необходимо как можно скорее обезопасить два моста…» Охрана мостов была необходима, чтобы повстанцы не могли проскользнуть из отдаленных частей города и угрожать миссии. Кроме того, подполковник Смит отправил семь рот через Северный мост с приказом найти припасы и артиллерию, которые, как известно, спрятаны на ферме Барретта, примерно в миле к западу от моста. Они оставили три роты (около 96 человек) у моста, чтобы охранять его и держать открытым для возвращения. Полковник Джеймс Барретт, в возрасте 65 лет, отвечал за сбор и складирование оружия и военных материалов Конгрессом. В то утро он был с милицией. Семья встала очень рано, помогая убрать оставшиеся припасы. Жена полковника Барретта Ребекка и другие члены семьи были дома, когда прибыл капитан Парсонс с колонной из 120 солдат легкой пехоты. Она услужливо подала офицерам завтрак, пока солдаты обыскивали дом. Они ничего не нашли. Мелкие люди и ополченцы продвинулись от холма Пункатассет к полю на возвышенности над Северным мостом. С дополнительными ротами из Бедфорда и Эктона их численность теперь превышает 400 человек! Британские роты, оставленные охранять мост, сосредоточились у самого моста, все еще на той же стороне реки, что и повстанцы. И британцы, и колонисты остались на своих местах, но над крышами города поднимался дым. Колониальные солдаты предполагали самое худшее, что город разрушают.Завсегдатаи подожгли кучу палаток, частей экипажа и других припасов. Но когда пламя перекинулось на таунхаус, его потушили по просьбе пожилой вдовы, на чем настояла Марта Моултон. Один вспыльчивый офицер Конкорда, лейтенант Джозеф Хосмер, воскликнул своему начальству: «Вы позволите им сжечь город дотла???» Было принято решение идти к Северному мосту и там вступить в бой с британскими солдатами. Полковник Баррет отдал твердый приказ. «Не стреляйте, пока не обстреляли…» При этом колонна численностью более 400 человек, мелкая пехота впереди, роты милиции позади, двинулась по дороге в два ряда и в полном порядке. Когда британцы впервые разместились у Северного моста, они располагались на западном берегу реки. Это та сторона, где сейчас стоит статуя Минутного человека. Безнадежно уступая в численности наступающей милиции, британские солдаты отступили к восточной стороне моста, где сейчас стоит Обелиск 1836 года, и спешно организовались для обороны. Когда колонна колонистов приблизилась примерно на 80 ярдов к британским позициям, с британской стороны раздалась серия из трех выстрелов, которые упали в реку справа от наступающих мелких солдат. Лютер Бланшар, солдат из Актона, кричал, что он ранен. Затем майор Джон Баттрик из Конкорда отдал роковой приказ: «Огонь! Ради бога, огонь!» Это был первый раз, когда колониальным ополченцам было приказано стрелять по британским солдатам. Всего было ранено двенадцать британских солдат, трое из них смертельно.Четверо из восьми присутствовавших офицеров были ранены. Остальные британские солдаты сломались и в беспорядке отступили к Конкорду. С колониальной стороны были убиты капитан Исаак Дэвис и рядовой Эбнер Хосмер. Еще четверо милиционеров были ранены. Мелкие бойцы и милиция решили мост не удерживать. Вместо этого они разместились на холме с видом на дорогу от фермы Барреттов. Таким образом, вместо того, чтобы быть отрезанными, капитан Парсонс и 120 британских солдат, которых он привел на ферму Барреттов, смогли пересечь Северный мост и присоединиться к основным силам в центре города. Подполковник Смит и его колонна готовятся вернуться в Бостон. Компании завершили поиски оружия и вернулись в центр города. Для их раненых были закуплены повозки. Примерно к полудню колонна была переформирована, и подполковник Смит отдал приказ идти. Им предстояло пройти 18 миль, прежде чем они достигли безопасного Бостона. Однако противник набирал силу и тоже двигался. Рядовой Таддеус Блад из роты ополчения Конкорд капитана Натана Барретта написал: «»….лучше было пойти в восточную часть города и забрать их, когда они возвращались…
Отступление по боевой дорогеДо сих пор шли бои в Лексингтон-Грин, где были убиты первые колонисты, около 5:00 утра, и бой у Северного моста Конкорда, где погибли первые британские солдаты, около 9:30 утра. Британская колонна двинулась на восток от центра Конкорда по дороге обратно в Бостон.На них напали только что прибывшие минутные и роты из Рединга, Челмсфорда и Биллерики на перекрестке дорог под названием Мериам-Корнер. Британцам пришлось стянуть фланговую охрану, чтобы пересечь ручей. Колонисты воспользовались этим узким местом и открыли огонь. Это действие является началом того, что стало известно как «Дорога битвы». Оттуда бои продолжались, когда колонна продвигалась на восток от Конкорда в Линкольн. Узнайте больше о драке в Meriam’s Corner! Уголок Мериам (Служба национальных парков США) (nps.правительство) Роты из Фрамингема и Садбери прибыли с юга и вступили в бой с британской колонной на их правом фланге в месте под названием Брукс-Хилл. Роты из Конкорда, Линкольна, Бедфорда и Эктона, которые сражались у Северного моста ранее этим утром, также преследовали их, как и Рединг, Челмсфорд и Биллерика. Тем временем только что прибыли 3 роты из города Уоберн, и вскоре они должны были дать о себе знать. Дорога шла на восток и спускалась по Брукс-Хилл примерно в миле от Мериам-Корнер.У подножия холма дорога пересекала Таннер-Брук у Линкольн-Бридж. Затем он резко повернул на северо-восток (влево), прорезав склон холма. Он продолжался на северо-восток около 300 ярдов, пока не сделал еще один крутой поворот на восток. Когда британская колонна спустилась с восточной стороны Брукс-Хилл, она подошла к «Линкольн-Бриджу». Роты Вобурна капитанов Белкнапа, Фокса и Уокера во главе с майором Лоамми Болдуином заняли позицию на возвышенности к востоку от Линкольн-Бридж.У них было где-то от 180 до 200 человек, и, возможно, к ним также присоединились компании из Фрамингема. Вобурнские роты открыли быстрый огонь, затем отступили ко второму повороту дороги, ведя огонь с новых позиций, когда позволяла возможность. Когда британская колонна устремилась вперед через поворот дороги, вскоре они были встречены шквальным огнем с левой (западной стороны дороги). Один из участников сказал, что британцы получили «больше смертельных травм, чем в любом другом месте от Конкорда до Чарльстауна.Восемь или более человек из их числа были убиты на месте и, несомненно, многие ранены». Узнайте больше на нашем сайте! Элм-Брук-Хилл (Служба национальных парков США) (nps.gov) Тысяча британских подкреплений покинула Бостон где-то после 9:00 утра во главе с бригадным генералом Хью Эрлом Перси. Надеясь встретиться с колонной Смита, пока не стало слишком поздно, они оставили обозы с боеприпасами, чтобы наверстать упущенное, когда смогут. Его слегка охраняли. Группа пожилых мужчин, многие из которых были ветеранами старых французских войн, собралась в таверне «Купер» в Менотомии.Они выбрали своим лидером Дэвида Ламсона, полуиндейца-ветерана. Они устроили засаду на поезд снабжения. Лэмсон призвал британских водителей остановиться и сдаться. Вместо этого они решили сбежать. Ламсон и его люди открыли огонь и убили несколько человек и лошадей. Первые выстрелы Американской революции прогремели примерно в 5:30 утра 19 апреля 1775 года. Всего за несколько минут жизнь жителей Лексингтона изменилась навсегда. Восемь их соседей и родственников погибли, десять получили ранения.То, что они сделали дальше, является свидетельством их мужества и лидерства капитана Паркера. Где-то в середине утра капитан Паркер собрал свою разбитую роту. Они двинулись на запад к Конкорду, чтобы вернуться в бой. Они выбрали место очень близко к границе с городом Линкольн на возвышенности с видом на дорогу и узкий мост, который должны были пройти британские регулярные войска. Земля, выбранная компанией Паркера, была покрыта лесом и усыпана большими валунами в качестве укрытия.Когда авангард британской колонны перешел мост, люди Паркера открыли огонь. Узнайте больше о Мести Паркера! Месть Паркера (Служба национальных парков США) (nps.gov) Когда более тысячи колониальных ополченцев быстро приблизились к колонне, британский арьергард прошел мимо дома Уиттемора и таверны «Бык», прежде чем подняться по наклонным склонам Утеса. С этой обзорной площадки, покрытой деревьями, регулярные солдаты наблюдали, как колониальная милиция продвигается к таверне, зданию, которое преподобный Ополченец Рединга построил для ополчения.Эдмунд Фостер был известен как «Таверна Бенджамина». Затем британский арьергард открыл огонь с высоты у Блаффа и прикрыл передовые части своей колонны, которая теперь поднималась на холм Фиске. Узнайте больше о Кровавом Утесе! «Кровавый» утес (Служба национальных парков США) (nps.gov)Используя разбросанные участки деревьев, каменные стены, груды ограждений и валуны, колониальное ополчение расположилось вокруг Бэй-Роуд. Вдалеке длинная колонна усталых и потрепанных красных мундиров шла к Лексингтону; их боеприпасы почти исчерпаны, и ряды находятся на грани краха.Когда они карабкались по извилистой дороге на Фиск-Хилл, Эдмонд Фостер вспоминал, как читающий минитмен; «Тогда противник поднимался и проходил над холмом Фиске. Офицер верхом на элегантном коне с обнаженным мечом в руке скакал взад и вперед, командуя и подгоняя британские войска. Несколько американцев за нагромождением рельсов подняли ружья и выстрелили на поражение, офицер упал, а лошадь испугалась, перепрыгнула через стену и побежала прямо на тех, кто убил его седока.Противник вел в этом направлении свои артиллерийские обстрелы, но их огонь не возымел действия». В промежутке между этим столкновением и встречей с подкреплением оба старших командира британской экспедиции, подполковник Фрэнсис Смит и майор Джон Питкэрн, были ранены. Узнайте больше о Fiske Hill!Fiske Hill (Служба национальных парков США) (nps.gov) Из-за трагедии ошибок 1-я бригада под командованием Хью Эрла Перси не покидала Бостон до 9 часов утра.м. (Гейдж отдал приказ собрать бригаду и выступить в 4 часа утра). К тому времени, когда они достигли Лексингтона, примерно в полумиле к востоку от городка, колонна Смита почти полностью отступала. Лейтенант Джон Баркер, 4-й пехотный полк, рассказывает… «Страна была удивительно сильная, полная холмов, лесов, каменных стен и т. д., чем не преминули воспользоваться мятежники, ибо все они были окружены людьми, которые вели по нам непрекращающийся огонь, как и мы. тоже на них, но не с тем же преимуществом, потому что они были так скрыты, что их почти никто не видел.Таким образом, мы прошли от 9 до 10 миль, их число увеличивалось со всех сторон, в то время как наше уменьшалось за счет смертей, ранений и усталости, и были полностью окружены таким непрекращающимся огнем, что это невозможно себе представить, наши боеприпасы также были почти израсходованы. . В этой критической ситуации мы увидели, что 1-я бригада идет к нам на помощь…» Лексингтон Назад в Бостон Уильям Хит, один из пяти генералов ополчения, назначенных провинциальным Конгрессом, и лидер Патриотов Др.Джозеф Уоррен прибыл в Лексингтон и присоединился к борьбе. По словам генерала Хита, «наш генерал присоединился к ополчению сразу после того, как лорд Перси присоединился к британцам; и помог сформировать полк, который был разбит выстрелом из британских полевых орудий … и британцы снова заняли свои позиции. отступали, их преследовали». После короткого отдыха и ухода за ранеными в таверне «Манро» в Лексингтоне британская колонна под командованием Хью Эрла Перси возобновила марш на Бостон.С добавлением 1-й бригады численность колонны превысила 1600 человек. Измученные солдаты Смита были поставлены во главе колонны, а свежие части из бригады составляли арьергард, самый опасный пост. Лейтенант Фредерик Маккензи из 23-го Королевского валлийского стрелкового полка написал в своем журнале… «…наш полк получил приказ сформировать арьергард. Мы немедленно выровняли стены и другие укрытия на нашем фронте с несколькими стрелками и отступили справа от рот рядами на возвышенность на небольшом расстоянии в нашем тылу, где мы снова выстроились в шеренгу и оставались на этой позиции около получаса, в это время фланговые роты и другие полки бригады двинулись одной колонной по дороге на Кембридж….не успела колонна продвинуться на версту по дороге, как нас обстреляли со всех сторон, но особенно из придорожных домов и прилегающих каменных стен…» Когда колонна Перси вошла в город Менотоми (современный Арлингтон), бой усилился. Компании из Уотертауна, Медфорда, Молдена, Дедхэма, Нидхэма, Линна, Беверли, Дэнверс, Роксбери-Бруклин и Менотоми присоединились к борьбе. Генерал Хит продолжает: «При спуске с холмов Менотомии на равнину огонь был сильным.В этот момент мушкетная пуля подлетела так близко к голове доктора Уоррена, что выбила булавку из его уха. Вскоре после этого правый фланг британцев подвергся обстрелу группы ополченцев, прибывших из Роксбери, Бруклина, Дорчестера и т. д. В течение нескольких минут с обеих сторон велся бойкий огонь; и здесь англичане снова прибегли к своим полевым орудиям; но теперь они были роднее, чем прежде…» Бои на Дороге Битвы становились все более и более жестокими по мере того, как колонна входила в более густонаселенные районы.Один британский офицер описал это как «одну сплошную деревню». Бои шли из дома в дом. Дом Джейсона Рассела, в частности, стал сценой ужаса, поскольку мистер Рассел, 58 лет, хромой, отказался выехать из своего дома. Другие люди из Дэнверса и Нидхэма, возможно, также забаррикадировались в его саду, но затем несколько человек были убиты и ранены британскими фланкировщиками, которые подошли к их позициям. Сам Джейсон Рассел также был несколько раз убит и заколот штыком. Другим мужчинам, в том числе из Беверли, удалось пробраться в подвал дома и защитить себя.Позже миссис Рассел обнаружила тело своего мужа и еще 11 человек в одной комнате дома с кровью по щиколотку. Теперь битва перешла за ручей Алевайф в Кембридж. Недалеко от него, в месте под названием «Уголок Уотсона», небольшая группа милиционеров укрылась за кучей пустых бочек во дворе кузнеца Джейкоба Уотсона. Это было плохим решением, так как они попали в засаду британского флангового отряда. Здесь майор Исаак Гарднер из Бруклина был убит вместе с Моисеем Ричардсоном, Джоном Хиксом и Уильямом Марси из Кембриджа. Британская колонна почти истощена. Люди истощены, а боеприпасы на исходе. Хью Эрл Перси знал, что ему нужно скорее добраться до безопасного места, иначе его колонна будет отрезана. Подозревая, что мост в Кембридже был удержан против него (а так оно и было), Перси вместо этого выбрал дорогу в Чарльстаун — блестящий ход, спасший множество жизней. Как раз когда британская колонна приближалась к Чарлстауну по шею и в безопасности, полк из Салема приближался. Генерал Хит писал: «В этот момент офицер верхом подъехал с Медфордской дороги и осведомился о положении врага, добавив, что о 700 человек следовали из Салема, чтобы присоединиться к ополчению.Если бы они прибыли на несколько минут раньше, левый фланг британцев, должно быть, был сильно уязвим и сильно пострадал; возможно, их отступление было бы отрезано». Когда британская колонна перешла через перешеек Чарльстауна и смогла занять хорошую оборонительную позицию на Банкер-Хилл, прикрытая орудиями флота, сражение подошло к концу. 19 апреля 1775 года произошло первое сражение Американской революции. У людей не было бы иллюзий относительно того, какой будет эта война. Они своими глазами видели все ужасы этого. Преподобный Дэвид МакКлюр писал: «Ужасными были следы войны на дороге. Я видел несколько трупов, в основном британцев, на дороге и рядом с ней. их лица Когда генерал Гейдж выглянул наружу, он увидел сотни вражеских костров, вспыхивающих в окрестностях Бостона.4000-минутные бойцы и ополченцы откликнулись на «лексингтонскую тревогу» и 19 апреля приняли участие в бою. Всего на призыв ответили 20 000 человек. Они прибыли в этот район в течение недели и сразу же начали развертывание осадных операций под руководством провинциального конгресса и Комитета безопасности. Затем было набраносолдата, которые будут служить до конца года. Из разрозненного набора мелких и ополченческих рот начала формироваться армия, план стал реальностью, а мечта о независимости начала расти в умах людей. |
Военные потери | The New Yorker
Как и их предшественники во всех войнах, американские ветераны вьетнамской кампании, которые возвращаются домой к гражданской жизни, полны воспоминаний, которые могут длиться до конца их дней, ибо, как бы далеко от фронта ни человек, возможно, провел свое время в качестве солдата, он будет помнить его как особое время, когда мимолетно его повседневное существование приближалось к героическому. Бывший рядовой первого класса Свен Эрикссон — так я буду называть его, поскольку использование его настоящего имени может увеличить опасность, в которой он может оказаться, — тоже вернулся со своими воспоминаниями, но он понятия не имеет, что с ними сделает будущее.Уволенный с честью в апреле 1968 года, этот новый ветеран войны, которому 24 года и он происходит из небольшого фермерского поселка на северо-западе Миннесоты, даже не уверен, что стал бы хранить свои воспоминания, если бы это было для него возможно. управлять его памятью. Естественно, опыт Эрикссона во Вьетнаме был разнообразным, и многие из них ярко запечатлелись в его памяти. Просто увидеть азиатскую страну, например, было приключением, говорит Эрикссон, ее ландшафт так отличался от замерзших равнин его уголка Миннесоты; он никогда прежде не плескался по рисовым полям, рассказывал он мне, не стоял, моргая, в внезапном отсутствии солнца в пышных, запутанных джунглях, не бродил неуверенно по пленяющим полям возвышающейся слоновьей травы.Будучи пехотинцем, Эрикссон повидал немало боевых действий, так что, если бы захотел, он мог вспомнить об опорных пунктах, которые он помог взять, и о перестрелках, в которых он был скован, и, в частности, об одной засаде, в которой половина его отряда была ранена. . Но, как без колебаний признает Эрикссон, дело в том, что, когда он думает о своей командировке во Вьетнаме, ему всегда приходит в голову один-единственный образ. Это изображение вьетнамской крестьянской девушки, на два или три года моложе его, которую он встретил, так сказать, 18 ноября 1966 года в отдаленной деревушке в Центральном нагорье, в нескольких милях к западу от Южного Китая. Море.Эрикссон и четверо других рядовых находились в разведывательном патруле поблизости от дома девушки. Эрикссон считает, что не знает, как выглядит девушка. Однако он помнит, что у нее был выступающий золотой зуб и что ее темно-карие глаза могли быть особенно выразительными. Он также помнит, что на ней были пыльные серьги из голубоватого стекла; он заметил безделушки, потому что они тускло блестели одним ясным днем, когда ему поручили охранять ее.Как и большинство сельских женщин, она была одета в свободную черную пижаму. Эрикссон говорит, что они скрывали ее фигуру, но у него сложилось впечатление, что она была стройной и хрупкой, а ее рост составлял примерно пять футов два или три дюйма. Пока она была жива, Эрикссон не знал ее имени. В конце концов он узнал об этом, когда сестра девушки опознала ее во время судебного разбирательства в военном трибунале — судебного разбирательства, которое Эрикссон инициировал сам и в котором он выступал в качестве главного свидетеля правительства. Имя девушки — ее настоящее имя — было Фан Тхи Мао.Эрикссон не обменялся с ней ни словом; ни один не говорил на языке другого. Он знал Мао немногим более двадцати четырех часов. Они были ее последними. Четверо солдат, с которыми он патрулировал, изнасиловали и убили ее, бросив тело в горных зарослях. Один из солдат нанес ей три удара ножом, и когда защитник бросил вызов Эрикссону в суде военного трибунала, чтобы описать звук, издаваемый ножевыми ударами, он показал: «Ну, я стрелял в оленя и выпотрошил оленя. Это было точь-в-точь как ножом вонзаешь в оленя — какой-то стук — или что-то в этом роде, сэр.
Эрикссон разговаривал со мной у себя дома в (скажем так) Миннеаполисе, где после увольнения из армии он зарабатывал на жизнь столяром-краснодеревщиком в местном универмаге. У него и его жены Кирстен есть аккуратная скромная квартира из трех комнат, стены которой украшены картинами миссис Эрикссон, воскресной художницы, присутствовавшей при нашем разговоре; ей двадцать три года, и она работает регистратором в страховой конторе. У двоих нет детей. Они поженились четыре года назад, вскоре после призыва Эрикссона.Они знали друг друга с детства, их отцы были соседними фермерами, и оба с трудом сводили концы с концами. Это верно для многих фермеров в этом районе, сказала мне миссис Эрикссон, добавив, что большинство его жителей были выходцами из Скандинавии. «Это часть страны, где мы гордимся тем, что не проявляем демонстративности», — сказала она. Невысокая симпатичная блондинка с бдительным, интеллигентным видом, она предложила мне кофе и пирожное, как только я вошла в квартиру. Она сказала мне, что ей понравилось, что я попросил рассказать об эпизоде с участием Мао.Она сама до сих пор была единственным человеком, с которым ее муж обсуждал это после возвращения из Вьетнама, и даже с ней он не вдавался в подробности. — Ему будет полезно поговорить с кем-нибудь еще, — сказала она живым и дразнящим тоном. Сидя в одиночестве на диване, Эрикссон несколько печально улыбнулся, на щеке образовалась глубокая ямочка. Это невысокий светлокожий мужчина, светловолосый, голубоглазый, немногословный. В часах, которые мы провели вместе, были промежутки, которые могли длиться до минуты, когда он молчал с задумчивым выражением лица, прежде чем возобновить свой рассказ.Сначала он говорил немногословно, но постепенно его природная сдержанность оттаивала, и бывали времена — обычно после одного из его молчаний — когда он производил такой взрыв речи, что, казалось, ему стоило усилий остановить ее. .
Иллюстрация Ребекки ДанлэпВ самом начале Эрикссон сказал мне, что меньше всего он хотел бы обсуждать убийство Мао в каком-либо юридическом ключе. Это, безусловно, было возможно сделать, как я убедился сам, прочитав судебные протоколы процессов, которые он устроил: семь объемистых томов в кабинете секретаря суда У.S. Army Judicial, в Фолс-Черч, штат Вирджиния, который включал показания Эрикссона против членов патруля; их убеждения и апелляции; бесконечная переписка между судьями и адвокатом противной стороны; и показания, касающиеся личности отдельных ответчиков. По словам Эрикссона, выступая в качестве свидетеля перед четырьмя трибуналами во Вьетнаме, он сыт по горло судебным процессом — настойчивыми допросами со стороны адвокатов и неоднократными критиками со стороны судей, настаивающих на точных ответах на часто туманные вопросы.Эрикссон сказал, что с его точки зрения все это казалось трясиной хитрости, но с другой стороны, признал он, он вполне мог войти в зал военного суда в Центральном нагорье, где проходили четыре процесса, с неоправданными ожиданиями. он надеялся, что испытания помогут ему разобраться в своей реакции на судьбу Мао. Неразумно, признал он, он явился в суд с мыслью, что он и другие присутствующие будут вслух удивляться, в чем-то вроде коллективного поиска, как это возможно, чтобы молодая девушка встретила такой конец.Он вообразил, что сможет спросить, как получилось, что он один из патруля поступил так, как он. Он хотел рассказать о том, как на него повлиял эпизод с Мао, и почему он почувствовал необходимость сообщить об остальных — о четырех таких же молодых американцах, выживание каждого из которых зависело от других в глубине вражеской территории. Он хотел избавить себя от сомнений относительно того, сделал ли он все, что мог сделать для Мао во время ее мучений, — сомнений, которые терзают его и по сей день. Со мной, сказал он, он надеется, что сможет свободно обсуждать эти вопросы, но он рано обнаружил, что в суде они мало интересны.
Приступая к своей неправомерной версии, Эрикссон сказал мне, что в ретроспективе ему стало ясно, что он должен был быть готов к смерти Мао. Этому предшествовало множество подобных происшествий. В той или иной форме, по его словам, они происходили почти ежедневно, но он медленно или неохотно осознавал, что они были такой же частью войны, как снаряды и цели. Теперь Эрикссон считает, что ему следовало предвидеть, что рано или поздно один из этих инцидентов должен был поразить его с особой, решающей силой.Едва он приземлился во Вьетнаме в октябре 1966 года, как ему стало известно об этих событиях, каждое из которых явно было импульсивным и не имело отношения к военной стратегии. Он сказал мне, что избиения были обычным явлением — случайные, обычные удары ногами и наручниками, которые, как он видел, солдаты наносили вьетнамцам. Иногда официальные приказы использовались для оправдания беспричинных актов насилия. Таким образом, Эрикссон вспоминал, что в начале его службы солдаты в его подразделении были уполномочены стрелять в любого вьетнамца, нарушившего 7 P . М . комендантский час, но на практике решение солдата было в значительной степени зависеть от личного усмотрения, стрелять ли он в заблудшего вьетнамца, спешащего домой на несколько минут позже своего дома — американский термин, обозначающий хижины из глины и бамбука, в которых жило большинство туземцев. Точно так же разрешалось стрелять в любого бегущего вьетнамца, но, как выразился Эрикссон, «грань между ходьбой и бегом могла быть очень тонкой». На следующий день после того, как его отряд попал в засаду и половина его членов была ранена, было взято несколько неприятельских пленных, а в отместку двое были убиты без суда и следствия, «для примера.Капрал, который все еще был в ярости из-за засады, пытался задушить другого из заключенных; он завязал пончо, как петлю, на шее пленника и уже затягивал его, когда милосердный лейтенант приказал ему воздержаться.
Излишне говорить, продолжал Эрикссон, что описываемое им поведение отнюдь не ограничивалось американцами. Противник сделал то же самое, и многие доказательства этого исходили от самих вьетнамцев. Они постоянно сообщали об изнасилованиях и похищениях со стороны вьетконговцев; на самом деле, Вьетконг совершал эти преступления настолько без разбора, что жертвы иногда сами себе сочувствовали.В одном известном ему случае, сказал Эрикссон, американские войска, привлеченные знакомым запахом разлагающихся тел, нашли яму, забитую вьетнамскими мужчинами и женщинами, которые были расстреляны из пулеметов ВК. Но, как указал Эрикссон, он не мог дать мне много таких рассказов из первых рук о В.К. грабежи. По необходимости, сказал он, он может говорить только о поведении американских солдат, поскольку они были людьми, с которыми он воевал и с которыми жил.
Прервав первое из своих задумчивых молчаний, Эрикссон сказал: «Со дня на день вы могли своими глазами увидеть изменения, происходящие с парнями на нашей стороне — порядочные ребята, которым и в голову не придет называть восточного человека «гуком». или «покатушка» дома.Но теперь они были на другом конце света, в чужой стране, где они не могли сказать, кто их друг, а кто нет. День за днём, в дозоре, мы выходили на узкую грунтовую тропинку, ведущую через какую-нибудь захудалую деревню, и старейшины приветствовали нас, а дети сбегались с улыбками на лицах, ожидая, когда мы им дадим конфету. Но на другом конце пути, как только мы покидали деревню, враг открывался против нас, и среди нас была озлобленность, что жители деревни не предупредили нас.Все, о чем многие из нас могли думать в такие моменты, это то, что мы были дураками, готовыми умереть за людей, которые испражнялись публично, чья еда была грязнее, чем что-либо в наших мусорных баках дома. Думать так — ну, как я уже сказал, это может изменить некоторых парней. Это может помешать им поверить в то, что жизнь так ценна — я имею в виду чью-то жизнь, даже их собственную. Я не говорю, что каждый парень, избивавший штатского, любил себя за это — не то чтобы он так многословно признавался, что не любил. Но вы могли бы сказать.Ни с того ни с сего, без всяких просьб, он начинал защищать то, что сделал несколько часов назад, говоря, что, в конце концов, это не хуже того, что делал Чарли. Я слышал этот аргумент снова и снова, и я никогда не мог купить его. Это было все равно, что утверждать, что только потому, что пьяный водитель сбил вашего друга, вы имеете право сесть в свою машину и нацелить ее на какого-нибудь пешехода. Конечно, я все это время был пехотинцем. Я действовал в передовой и, вероятно, видел войну в ее самом уродливом виде. Днём это были задачи по поиску и уничтожению, а ночью устраивали засады противнику.Я обнаружил, что убить человека несложно — в бою это так же инстинктивно, как уклоняться от пули. Никогда не знаешь, чья очередь умирать, а в тылу так не бывает. Чем дальше в прошлое, тем ближе подходишь к тому, как люди жили в гражданской жизни».
16 ноября 1966 года командир взвода Эрикссона, лейтенант-негр Гарольд Рейли (чье имя, как и имя каждого солдата в этом отчете, изменено), назначил его одним из пяти рядовых, которые должны были разведывательный патруль, задача которого прочесать сектор Центрального нагорья в поисках признаков активности Вьетконга.Позже, давая показания в суде, лейтенант Рейли охарактеризовал миссию как «чрезвычайно опасную» и сказал, что для ее выполнения он выбрал лучших из четырех отделений взвода. Он заявил, что операция была проведена с особым вниманием, поскольку она была задумана командованием батальона, вышестоящим звеном, чем командование роты, перед которым обычно отвечал Рейли. Объясняя свой выбор патруля, Рейли свидетельствовал: «Я чувствовал, что эти люди знали, что делают, и вторая причина заключалась в том, что командир роты попросил хороших людей.На следующий день, 17 ноября, члены вновь сформированного патруля встретились в углу района штаба взвода, недалеко от деревни Ми Тхо, где, расслабившись, стоя или сидя на земле, слушали брифинг. от их лидера, сидевшего на низкой табуретке. Это был сержант Тони Мезерв, стройный черноволосый мужчина среднего роста двадцати лет, родом из городка в северной части штата Нью-Йорк, недалеко от канадской границы. По словам Эрикссона, Месерве, который был напористым и уверенным в себе, был одновременно самым молодым солдатом патруля и самым опытным, будучи добровольцем с трехлетним стажем, который год воевал во Вьетнаме и был несколько раз награжден; он должен был вернуться в Соединенные Штаты через месяц.Заместителем командира группы был Ральф Кларк, капрал, приехавший из городка недалеко от Филадельфии. Ему было двадцать два года, телосложением стручковая фасоль, блондин с бледно-холодными голубыми глазами. Опять же, по словам Эрикссона, Кларк был склонен к быстрым движениям и, казалось бы, резким решениям, которые отражали мышление Месерва в преувеличенной форме. Два других солдата из боевой группы были на год моложе Эрикссона, которому тогда было двадцать два года. Это были двоюродные братья по имени Диас — Рафаэль, известный как Рейф, чей дом находился недалеко от Амарилло, штат Техас, и Мануэль, приехавший из городка к северу от Санта-Фе, штат Нью-Мексико.Эрикссон помнит Рэйфа как высокого, смуглого, круглолицего мужчину с жизнерадостным и дружелюбным характером. Что касается Мануэля, который был светлокожим и более коренастым, чем его кузен, его манеры были более прыгучими. Как и Кларк, он был склонен к быстрым движениям, но его поведение не имело ничего общего с приукрашиванием мышления Месерва. Эрикссон сказал мне, что Мануэль не проявлял никакой инициативы в этом отношении, его отношение к власти было простым и автоматическим: он благоговейно прислушивался к ней. Эрикссон сказал, что, напротив, Рэйф был способен ставить под сомнение власть, но обычно заканчивал тем, что соглашался с тем, кто казался лидером, «просто чтобы не создавать проблем.
Возвращаясь к брифингу патруля, Эрикссон сказал мне, что Месерв был полностью занят своим делом, и погрузился в разговор. Вторя указаниям, данным ему ранее батальонным офицером, сержант проинформировал четверых мужчин об обязанностях, которые каждый должен был выполнять, о цепочке командования в полевых условиях и об организации радиосвязи с командованием взвода, а также Затем, сверившись с координатами на карте, которую он держал в руках, сержант описал точный западный маршрут, которым должен был следовать патруль.В конце концов, они должны были привести их к высоте 192 — высоте в долине Бонг Сон, которая возвышалась над ущельем, пронизанным пещерным комплексом, который, как подозревали, служил убежищем вьетконговцев. Но пещеры были не всем, что искали пятеро мужчин. Доты, окопы, тропы, не обозначенные на картах, тайники с вражеской техникой — тоже должны были быть объектами разведки. Естественно, сказал Месерве, если солдаты смогут обнаружить кого-нибудь из вьетконговцев на открытой местности, это будет к лучшему, но приказы патруля — и они были недвусмысленно изложены командованием батальона — избегать любых перестрелок. с противником, кроме как в целях самообороны; По его словам, в качестве так называемого пони-патруля они собирали информацию «раннего предупреждения» о намерениях врага.
Солдаты должны были отсутствовать пять дней, как сообщил сержант, — довольно большой срок для разведывательной миссии, — и, услышав это, Эрикссон испытал чувство возбуждения, точно так же, как он испытал перспективу гораздо более коротких патрулей, в которых он принял участие. Он так считает, объяснил он, потому что в поле, на территории, которая в любой момент может стать враждебной, люди в патруле будут очень одиноки, и это будет так, даже если высокопоставленный офицер ответственный. «Никогда нельзя было сказать, как мужчина поведет себя под давлением, — сказал Эрикссон.«Он может оказаться глупым или смелым, или иметь прекрасный запас шуток. Конечно, всегда были предварительные планы сделать то или иное, но они не часто выдерживали в поле. Единственное, на что можно было рассчитывать, так это на то, что произойдет неожиданное». Обычно, по словам Эрикссона, для развития неожиданностей требовалось время, но сейчас — более чем за полдня до того, как патруль должен был покинуть штаб взвода — это произошло с ошеломляющей внезапностью. Это случилось, когда сержант, отдав свои инструкции, завершил инструктаж, сказав собравшимся мужчинам, что они собираются хорошо провести время на миссии, потому что он собирается проследить за тем, чтобы они нашли себе девушку и взяли ее с собой. «За боевой дух отряда.В течение пяти дней, сказал сержант, они будут пользоваться ее телом, окончательно избавляясь от него, чтобы девушка никогда не обвиняла их в похищении и изнасиловании — и то, и другое причисляется к тяжким преступлениям в Едином кодексе военной юстиции. Позже Рэйф свидетельствовал в своем военном трибунале: «Месерв заявил, что мы уедем на час раньше, чтобы у нас было время найти женщину, которую мы могли бы взять с собой в миссию. Месерв заявил, что мы возьмем женщину для бум-бум или полового акта, а через пять дней мы ее убьем.А в показаниях Мануэля находим: «После того как мы были проинструктированы Мезервом, он сказал, что мы возьмем с собой девушку в патруль, или что мы попытаемся взять с собой девушку, чтобы немного повеселиться. . . . Он сказал, что это будет хорошо для боевого духа команды».
Сержант сделал свое заявление с невозмутимым выражением лица, предоставив своим людям интерпретировать его так, как они хотели. Кларк сразу же приветствовал его с энтузиазмом. Двое Диазов засмеялись, то ли от смущения, предполагает Эрикссон, то ли потому, что подумали, что Мезерв шутит, учитывая его замечание о «моральном духе отделения» — старая взводная шутка.Эрикссон сказал мне, что сам он реагировал молча, но после того, как Мезерв и солдаты разошлись, чтобы разойтись до утра, он разыскал своего друга капрала Керли Роуэна, жителя Западной Вирджинии, который был во Вьетнаме, и со взводом только что пока Meserve имел. Роуэн с изумлением слушал, как Эрикссон информировал его о плане сержанта, но когда Эрикссон спросил своего друга, считает ли он, что показания Месерва следует сообщить офицеру до того, как патруль покинет лагерь, Роуэн немедленно покачал головой, ответив, как видно из протокола суда: — Месерв не посмел бы сделать такую глупость.Несмотря на это недоверие, известие о брифинге Мезерва расстроило Роуэна. Двое мужчин прибыли во Вьетнам одновременно, и он знал Месерва как внимательного и приятного человека. Однако в последний месяц или около того, как Роуэн сказал Эрикссону, сержант, очевидно претерпевший изменения, продемонстрировал подлость по отношению к вьетнамцам; За пару недель до этого, по словам Роуэна, Мезерв выстрелил в одного из них и ранил его, объяснив впоследствии, что ему «так захотелось». «То, как Керли говорил о нем, казалось, что Мезерв стал чем-то вроде жертвы войны, — сказал мне Эрикссон.
На следующее утро, в четыре тридцать, Мезерв усердно проверил снаряжение своих людей на окраине лагеря, следя за тем, чтобы их еда, звездные скопления, патроны, дымовые и ручные гранаты и другие припасы были в порядке. Как только это было сделано, патруль вышел из лагеря в слегка влажной темноте, люди все еще не знали намерений своего лидера. Через двадцать минут они поняли, что это было. К тому времени отделение Мезерва, неторопливо двигаясь в серых сумерках, послушно последовало за ним на две тысячи метров к востоку, что, как поняли Эрикссон и остальные, было вопиющим отклонением от западного маршрута, столь точно описанного сержантом на брифинге.К тому же мужчины приближались к деревушке Кат Туонг в округе Фуми, и Эрикссон проклинал себя за то, что послушал Роуэна. В недоумении и замешательстве, с трепещущим сердцем, Эрикссон увидел, что Мезерв, не теряя времени, выполняет свой план, потому что с Кларком по пятам сержант приступил к систематическому обыску деревушки. Пара вышла с пустыми руками из пяти или шести хижин, когда Рэйф, всегда такой любезный и уступчивый, указал на белую ферму впереди и крикнул: «Там красивая девушка! У нее золотой зуб!» Мгновенно сержант сказал: «Это девушка, которую мы найдем.Пораженный чудовищностью собственного предложения, Рэйф с несчастным видом посмотрел на Мануэля и Эрикссона, а Месерв и Кларк, ускорив шаг, направились к белому домику, в котором находилась хорошенькая девушка с золотым зубом. Пока Эрикссон, Мануэль и несчастный Рэйф топтались снаружи, Месерв и Кларк вошли в хижину — дом Мао. В нем они задержались дольше, чем в других хижинах, но, поскольку Эрикссон стоял снаружи хижины, он не мог описать, что происходило внутри. Однако сестра Мао, Фан Тхи Лок, присутствовавшая на одном из процессов, сделала это.Переводя показания Лок, которая была на два года моложе Мао, переводчик сообщил суду: «Она сказала, что они вошли, включили фонарик и осветили дом и увидели лицо ее матери и лицо ее сестры, и все они проснулись в час ночи». в то же время. Было шесть утра и темно. — Отец уехал на рынок Фуми, — продолжал переводчик. Мать плакала и умоляла, а ее дочери, прижавшись друг к другу, прижались к стене. Лок пощадили, а Мао схватили двое солдат и связали ей руки за спиной кокосовой веревкой.Сообщая о другом ответе Лок на суде, судебный переводчик заявил: «Она сказала, что у ее сестры золотой зуб, правая сторона нижней челюсти».
Когда Месерв и Кларк присоединились к своим товарищам, как сказал мне Эрикссон, у них на буксире был связанный Мао. Кларк держал ее за локоть и толкнул вперед, когда Месерв приказал патрулю двигаться. «Рассвет приближался быстро, и он хотел, чтобы девушка находилась на свету как можно меньше, — сказал мне Эрикссон. «Экипажи вертолетов могут заметить ее.Перед тем, как патруль покинул деревню, материализовалась толпа местных детей, возбужденно болтавших вокруг Мао, а затем из белого дома вышел Лок. Две сестры переглянулись. «В их глазах был ужас, — вспоминает Эрикссон. Выйдя из деревни со своим трофеем, солдаты двинулись на запад, к главной тропе, по которой они должны были идти. Не успели они пройти и двадцати метров, как их остановил крик бедствия. Оно исходило от матери Мао, которая гналась за ним. Мезерв свидетельствовал перед своим военным трибуналом: «Мать вышла, как всегда, начала плакать, говорить.Мы просто говорим им ди-ди »- то есть уходить. Мать, как рассказал мне Эрикссон, размахивала шарфом и с трудом продвигалась вперед. Задыхаясь, она наконец добралась до солдат, показывая им, что шарф принадлежит Мао и что она хотела бы, чтобы он был у ее дочери; щеки женщины были мокрыми, и манеры ее были умоляющими. Эрикссон сказал, что это был неловкий момент, и Кларк прервал его. С улыбкой на лице он взял шарф и сунул его в рот Мао. В показаниях под присягой, которые позже подписал Мануэль, он заявил: «Кларк заткнул девушке рот, чтобы она не закричала.В этом районе было еще темно, и никто из гражданских не пытался нас остановить». Оставив мать позади, патруль продолжил свой марш, подталкивая Мао к тому же шагу. Едва деревня скрылась из виду, как Мануэль, возможно, соревнуясь с Кларком, развязал руки Мао, снял с плеч свой рюкзак и взвалил его на плечи девушки.
Пятеро мужчин и Мао держали ровный темп. Мезерв позаботился об этом, потому что взошло яркое солнце, его сияние освещало причудливую вечеринку так же ясно, как и пейзаж.«Мы продвигались через прекрасную местность, — сказал мне Эрикссон. «Мы были на плато в горах, и вокруг нас были небольшие горные хребты, туманные и зеленые. Внизу была долина с извилистым ручьем, а по ее берегам тянулись рисовые поля с аккуратными валами вокруг них. Местность, по которой мы ехали, была в основном всех оттенков зеленого цвета, но мы также проезжали засушливые участки и местами местами, почерневшими от напалма. Земля была очень переменчива. Некоторое время она была бы открыта, а затем там были бы секции, настолько густые, с колючими лозами, рвущими нашу одежду, что мы не могли бы видеть друг друга, даже если бы нас разделяло не дальше, чем мы с тобой, прямо здесь, в эта комната.Около восьми часов Мезерв разрешил своему отряду сделать получасовой перерыв на обед. Мао сняли повязку, но ему не дали еды; заметив, что она покраснела и слегка кашляет, Месерв протянул ей аспирин. В то утро произошло только одно боевое столкновение, и без него можно было обойтись. Глядя в долину внизу, Рэйфу показалось, что он заметил вьетнамца в соломенной шляпе местного типа, стоящего в ручье. Решив, что он смотрит на венчурного капиталиста, Рэйф выпустил пару патронов из своей винтовки М-16.Его целью оказался круп барахтающегося водяного буйвола, животное поднялось из мелкого ручья в неуклюжей панике и неуклюже скрылось из виду. Рэйф нарушил запрет на ненужную стрельбу, подтвердив замечание Эрикссона о том, что планы мало что значат в полевых условиях и что любой патруль является подразделением только в теории. «Каждый из нас вел себя так, как должен был», — сказал он мне. Месерв ничего не сказал Рейфу; также он ничего не сказал никому из других, когда по мере развертывания миссии они совершали подобные нарушения.Во время перекрестного допроса в военном трибунале по поводу этого игнорирования указаний своего командира сержант заявил: «Сэр, большую часть времени все согласны с его командиром. Иногда у тебя есть свои разногласия, а иногда ты их не озвучиваешь, держишь в себе».
В половине одиннадцатого, недалеко от вершины высоты 192, Мезерв нашел то, что искал, — командный пункт на весь день. Это был заброшенный барак, восемь квадратных футов и восемь футов высотой, с окном на восточной стороне, дверью на западе и двумя щелями, выходящими на север и юг; в нескольких метрах протекал ручей, дав патрулю готовый источник воды.В бараке был стол, низкая скамья, прислоненная к стене, и рваные остатки соломенной циновки, разбросанные в темном углу, а грязный пол был завален металлоломом, камнями и консервными банками. Строение находилось в крайне ветхом состоянии, в его глинобитных стенах имелось несколько больших дыр. Однако он был в основном цел, и Месерве быстро превратил его в оружейный склад, сбросив на его грязный пол запасы боеприпасов, а также продовольствия. Кроме того, хижина служила местом, где Мао прятался.Приказав Эрикссону и Рэйфу убраться в доме и оставив Мао на их попечение, сержант отправился с Кларком и Мануэлем, чтобы внимательно осмотреться. Эрикссон вспоминал, что в хижине Мао, освободившийся от рюкзака Мануэля, какое-то время наблюдал, как он и Рейф таскают хлам, а затем без просьбы девушка протянула руку солдатам. «Она понятия не имела, какое место она помогала готовить», — сказал Эрикссон.
Мезерв и остальные вернулись через час, ближе к полудню, и сытно перекусили на свежем воздухе, у входа в хижину.Распластавшись на земле после трапезы, Мезерв, освеженный, взглянул на своих товарищей, а затем с понимающей улыбкой указал на частично разрушенное строение. «Пришло время немного повеселиться», — сказал он. Эрикссон сказал мне, что Кларк, казалось, был вне себя от предвкушения, а Мануэль и Рэйф выглядели менее таковыми. Он и сам, как ему кажется, должен был выглядеть хмурым. «Это было то, что я чувствовал», — сказал он. «Для меня было невозможно иметь какую-либо часть того, что, как я знал, должно было произойти». Он подозревает, что Месерв это почувствовал, поскольку прежде чем что-либо еще произошло, сержант столкнулся с ним, требуя знать, войдет ли он в каюту, когда придет его очередь.Эрикссон покачал головой. Разгневанный сержант произнес первую из серии угроз. Месерв предупредил, что если Эрикссон не пойдет вместе с остальными, он рискует оказаться «дружественной жертвой». Кларк громогласно поддержал это, и оба Диаса сосредоточили озадаченные взгляды на трудном члене патруля. Эрикссон снова покачал головой. «Мне надоело смотреть на избиения и удушения пончо», — сказал он мне. Получив отказ во второй раз, Месерв обрушился с нападками на мужественность Эрикссона, высмеяв его как «педикара» и «цыпленка».«Нападение его не обеспокоило, — сказал мне Эрикссон, — но из судебного протокола следует, что оно действительно повлияло на Рейфа, который показал, что не смог бы выдержать тех эпитетов, которые Мезерв осыпал Эрикссона; Рэйф заявил, что именно его страх перед такими насмешками заставил его присоединиться к тем, кто вошел в хат, который он помог привести в порядок. Аналогичные показания дал Мануэль. «Я боялся быть осмеянным, сэр, — сказал он прокурору. На вопрос, почему, он ответил: «Хорошо, скажем, вы в патруле. Эти парни прямо здесь собираются начать смеяться над тобой.Довольно скоро ты станешь изгоем из взвода. «Этот парень боится делать то, он боится делать то». Все будут смеяться над тобой. Когда ты выходишь в патруль, ты не будешь так хорош, как хотел бы, потому что эти ребята тебе ничем не помогут. Это будешь ты сам. В этом патруле будет четыре человека и один человек».
Как только Мезерв представил свою оценку мужественности Эрикссона, началась злополучная вакханалия.Как раз перед тем, как это произошло, Эрикссон отошел от входа в хлев, где он стоял, и сел в одиночестве на травянистой траве сбоку от строения; периодически он поднимал полевой бинокль, чтобы вглядываться в отдаленные точки. На перекрестном допросе на суде над Месервом относительно того, почему он изменил свою позицию, Эрикссон показал: «Ну, сэр, мне показалось, что эти джентльмены… о, я бы сказал, были в восторге от происходящего. От всего этого у меня заболел живот. Я подумал, что кто-то должен быть там для безопасности, потому что там были В.С. в этом районе».
Сержант первым вошел в каюту, и вскоре, как рассказал мне Эрикссон, из девушки вырвался высокий, пронзительный стон боли и отчаяния. Он повторялся волнами, прервавшись, как предположил Эрикссон, только из-за потребности Мао перевести дыхание. Через несколько минут стон превратился в ровные рыдания, которые не прекращались до тех пор, пока через полчаса Мезерв снова не появился на открытом воздухе. Он был без рубашки; лицо его выражало чванливую неотразимость. «Она была очень хороша — довольно чиста», — сказал он.Указав на самогон, он сделал Рэйфу знак стать его преемником, и Рэйф, избегая насмешек, вошел. В суде Рэйф сказал, что нашел Мао обнаженной, лежащей на столе со связанными за спиной руками. «Девушка выглядела такой невинной, такой спокойной», — свидетельствовал он. Но Рэйф остался, и снова стон и всхлипы, чуть приглушенные, донеслись из самогона. Снаружи, согласно судебному протоколу, Кларк наблюдал за своим товарищем через дыру в глиняном фасаде и испускал радостные возгласы, смешанные с криками Мао.Его манера поведения на мгновение стала подавленной, когда Месерв помахал ему в качестве третьего человека, но Кларк снова был таким же веселым, когда он вернулся. «Я приставил нож к ее горлу», — сказал он остальным. Он показал охотничий нож. Он был десяти дюймов в длину, а его ручка была обмотана лентой с узором из крошечных ромбов. Мужчины были знакомы с ножом; его недавно подарил Кларку близкий друг из взвода, который был ранен. Когда Мануэль вошел в хижину, он услышал звуки Мао, слабого и подавленного.Посещение четырех солдат продолжалось почти полтора часа, а через две минуты после того, как оно было прекращено, мужчины, чтобы скрыться от любого вьетконговца, который мог быть поблизости, снова вошли в хижину вместе. Эрикссон был теперь с ними, и он увидел, что Мао отступила в угол хижины, испуганная, настороженная, ее глаза блестели от слез, ее присутствие было заметно главным образом по кашлю, который с утра усилился. Девушка была одета, и ее руки были свободны. Мужчины ели, опять же не кормя ее, и вспоминали свой общий подвиг, сравнивая Мао с другими знакомыми девушками и рассказывая о том, как давно у них не было женщины.Минут через пятнадцать-двадцать Мезерв, как будто ему окончательно наскучила эта тема, резко напомнил отряду о его задаче; он хотел, чтобы люди провели еще немного разведки в этот день. На этот раз, сказал он, Кларк останется охранять Мао и оружие в каюте.
День продолжился насыщенным. Изучая гору дальше, часто пробираясь сквозь растительность до плеч, Эрикссон, Месерв, Мануэль и Рейф продвигались к вершине. Хотя мужчинам приходилось бороться за то, чтобы устоять на ногах, рассказывал Эрикссон, они считали обязательным следить за ручьем, протекавшим возле фермы; он брал свое начало высоко в горах, протекая мимо нескольких рисовых полей.Через полчаса их наблюдение за ручьем окупилось, представив более интересное зрелище, чем водяной буйвол Рэйфа. Были замечены трое вьетнамцев, идущих вдоль кромки воды, и, хотя на них не было формы, Месерв решил, что это венчурные капиталисты, и он и его люди, включая Эрикссона, открыли по ним огонь. Ни один из четырех ни во что не попал, и сержант по рации вызвал команду взвода на артиллерийскую поддержку, которая была быстро предоставлена; Эрикссон вспоминал, что сотрудничество бесконечно радовало Месерва, поскольку оно неявно придавало важность стычке.Решив приблизиться к трем вьетнамцам, Месерв отправил Эрикссона и Рэйфа в хижину, чтобы забрать запас дымовых шашек. Прибыв в бегство, эти двое объяснили свое поручение Кларку, который с нетерпением выслушал новости, а затем нажали на Эрикссона и приказали ему занять свое место в охране самогона. Эрикссон сказал мне, что когда Кларк и Рейф уходили, он понял, что вот-вот сменяет одно волнение на другое — встречу с тремя вьетнамцами, то есть на более спокойное и сложное испытание одиночества с Мао.Он не знал, как поступит с ней, сказал он, хотя, как ни странно, чувствовал, что хорошо ее знает; ее крики, по его словам, повергли его в смятение, которого он никогда прежде не испытывал. Пока он слушал ее, он сказал, что ему даже пришло в голову застрелить нападавших на нее, но потом, как он заметил мне, «я бы оправдал тела четырех мужчин». Когда его спросили в суде, что он думал о том периоде, когда он сидел на травяном газоне, он показал: «Ну, сэр, я хотел, чтобы я не был в той ситуации, в которой я был.Я мог бы сказать, что молился Богу, чтобы, если я когда-нибудь выберусь оттуда живым, я сделал все возможное, чтобы эти люди заплатили за то, что они сделали».
%PDF-1.4 % 647 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 647 78 0000000016 00000 н 0000001911 00000 н 0000002096 00000 н 0000003761 00000 н 0000005256 00000 н 0000005340 00000 н 0000005435 00000 н 0000005536 00000 н 0000005646 00000 н 0000005707 00000 н 0000005817 00000 н 0000005878 00000 н 0000005988 00000 н 0000006049 00000 н 0000006159 00000 н 0000006220 00000 н 0000006330 00000 н 0000006391 00000 н 0000006501 00000 н 0000006562 00000 н 0000006672 00000 н 0000006733 00000 н 0000006843 00000 н 0000006904 00000 н 0000007014 00000 н 0000007075 00000 н 0000007185 00000 н 0000007246 00000 н 0000007356 00000 н 0000007417 00000 н 0000007527 00000 н 0000007588 00000 н 0000007697 00000 н 0000007758 00000 н 0000007867 00000 н 0000007928 00000 н 0000008037 00000 н 0000008098 00000 н 0000008207 00000 н 0000008268 00000 н 0000008377 00000 н 0000008438 00000 н 0000008547 00000 н 0000008608 00000 н 0000008717 00000 н 0000008777 00000 н 0000008886 00000 н 0000008946 00000 н 0000009055 00000 н 0000009115 00000 н 0000009223 00000 н 0000009283 00000 н 0000009393 00000 н 0000009452 00000 н 0000009567 00000 н 0000009626 00000 н 0000009685 00000 н 0000009746 00000 н 0000009974 00000 н 0000010736 00000 н 0000010777 00000 н 0000010806 00000 н 0000010836 00000 н 0000011412 00000 н 0000011557 00000 н 0000011579 00000 н 0000011805 00000 н 0000013028 00000 н 0000013242 00000 н 0000047725 00000 н 0000054034 00000 н 0000054057 00000 н 0000054136 00000 н 0000056814 00000 н 0000057041 00000 н 0000065984 00000 н 0000002152 00000 н 0000003738 00000 н трейлер ] >> startxref 0 %%EOF 648 0 объект > эндообъект 649 0 объект > эндообъект 723 0 объект > поток HW{LSgZK$D0j!S8E\EPc-Pta5B>.g&a:lƹt mZgKv=w~@nf 1 !
Дорога в Бентонвиль | NC Historic Sites
«Понятно, почему армия Шермана всегда двигалась так быстро. У нее было так много крыльев. У нее было достаточно крыльев, чтобы летать по воздуху, если бы добыча пищи там была такой же хорошей, как и на земле. »
— подполковник Майкл Х. Фитч, командующий трехполковым «крылом» бригады Хобарта, дивизия Карлина, XIV в.к.
Шерман и его подчиненные. Стоят слева: О.О. Ховард, Уильям Б. Хейзен, Джефф С. Дэвис, Джо Мауэр. Сидят слева: Джон А. Логан, Уильям Т. Шерман, Х. В. Слокум (на фото отсутствует командир XVII корпуса Фрэнк Блэр).
К 8 марта 1865 года федеральная армия пересекла Северную Каролину, направляясь к своему конечному пункту назначения — Голдсборо. В этом важном железнодорожном узле Шерман планировал объединиться с двумя другими крупными федеральными силами под командованием Альфреда Х. Терри и Джона М. Шофилда, которые должны были двигаться вглубь страны от побережья Северной Каролины.Великая «армейская группа» Шермана путешествовала, как и в Джорджии, разделенная на два отдельных крыла, насчитывающих почти 30 000 человек в каждом. Столкнувшись с коварным Джо Джонстоном во время кампании в Атланте, Шерман беспокоился о возвращении своего старого противника к командованию в Северной Каролине. Но командующий Союзом превыше всего стремился занять Голдсборо, и по мере продвижения марша он становился менее осторожным.
Генерал-лейтенант Уильям Дж. Харди с корпусом Конфедерации, состоящим из гарнизонных войск и опытных ветеранов боевых действий, сумел остаться на шаг впереди федерального наступления в Южной Каролине.После эвакуации Чарльстона и отступления перед Шерманом Харди 9 марта достиг Фейетвилля, Северная Каролина. Джо Джонстон тоже был там, но той ночью уехал в Роли, чтобы наблюдать за сосредоточением армии Теннесси, которая тогда двигалась на восток по железной дороге из Шарлотты.
Уэйд Хэмптон
Пока федералы пробирались через сосновую полосу Каролины, кавалерийская дивизия Джадсона Килпатрика прикрывала наступление левого крыла Шермана под командованием генерала Генри У. Слокама. На рассвете 10 марта, когда его команда была разделена и двигалась по разным дорогам, Килпатрик был застигнут врасплох кавалерийскими силами повстанцев под командованием лейтенанта Килпатрика.Генерал Уэйд Хэмптон. Это небольшое сражение на перекрестке Монро было первым организованным нападением на часть федеральной армии в Северной Каролине. Дело было коротким, но кровавым и послужило предупреждением беспечному Килпатрику, что с кавалерией Хэмптона нельзя шутить. Сопротивление Конфедерации продолжало усиливаться по мере того, как орда Союза продвигалась все глубже в Старый Северный штат.
Когда в тот же день Шерман приблизился к Фейетвиллю, Харди отошел на северо-восток по Роли-Планк-роуд, остановившись в поселке Смитвилл в нескольких милях к югу от Аверасборо.Джонстон приказал Харди оставаться как можно ближе к федеральной линии движения. Командующий Конфедерацией полагался на Харди и Хэмптона в поисках информации об истинном направлении врага, чтобы Джонстон мог объединить с ними другие силы Конфедерации, чтобы остановить Шермана.
Джадсон Килпатрик
Федералы достигли Фейетвилля 11 марта и заняли город после короткой стычки с частями кавалерии Хэмптона. Солдаты Конфедерации сожгли мост через реку Кейп-Фир и отступили, чтобы следить за продвижением Союза.На следующий день старый арсенал США в Фейетвилле был уничтожен, чтобы предотвратить его дальнейшее использование конфедератами. Остановка в Фейетвилле также дала армии Шермана первый контакт с внешним миром после отъезда из Саванны. После общения с генералом Терри и получения почты и ограниченных припасов для войск из Уилмингтона через реку Кейп-Фир Шерман снова был в пути к 14 марта. Хотя он рассчитывал войти в Голдсборо без боя, «дядя Билли» хвастался, что У.С. Грант, что «Противник превосходит меня в кавалерии, но я могу победить пехоту [Джонстона] один за другим, и я не думаю, что он может привести в бой 40 000 человек. Я заставлю его охранять Рэли, пока я не получу вставлен между ним и Голдсборо». Шерман надеялся, что Джонстон отступит, чтобы защитить столицу Северной Каролины, и таким образом расчистит путь в Голдсборо.
Джонстон собирает армию
«Я верю, что единство цели и согласованность действий двух [наших] армий, с Божьего благословения, избавят нас от трудностей, которые сейчас нас окружают.»
— Роберт Э. Ли Джозефу Э. Джонстону, 15 марта 1865 г.
15 марта Роберт Э. Ли снова сообщил Джо Джонстону о критической военной ситуации, в которой оказались оба командира. Помимо прочего, главнокомандующий Конфедерации опасался, что, если Шерман вытеснит Джонстона из восточной части Северной Каролины, обнажив Роли и важные железнодорожные пути в Вирджинию, осажденная армия Северной Вирджинии пострадает из-за нехватки припасов. Ли предупредил «Старого Джо» разумно выбирать возможности, «Поскольку бедствие вашей армии не улучшит мое положение», объяснил он, «[и] я бы не рекомендовал вам вступать в генеральное сражение без разумного перспектива успеха.» Не имея возможности отправить подкрепление в Джонстон в Северной Каролине, Ли полагался на способность генерала собрать широко рассредоточенные силы, находящиеся в его распоряжении, и преградить Шерману путь на север. Оказывая высокую степень доверия своему старому другу и подчиненному, Ли настаивал на том, чтобы «У вас и [командира департамента Северной Каролины Брэкстона] Брэгга может появиться возможность объединиться на одной из колонн [Шермана] и сокрушить ее».
В тот же день Джонстон отправился из Роли в Смитфилд, где начал собирать мешанину из Южной Армии из четырех отдельных частей, находившихся в его распоряжении: остатки Армии Теннесси, Корпуса Харди, ГенералаДивизия Роберта Ф. Хока (номинально подчиняющаяся Брэггу) и кавалерия Уэйда Хэмптона. Как позже заметил Хэмптон, «вряд ли было бы возможно более эффективно рассредоточить силы»:
- Брэкстон Брэгг после эвакуации Уилмингтона и сопротивления наступлению Шофилда ниже Кинстона 8-10 марта получил приказ Джонстона 13 марта перебраться из Голдсборо в Смитфилд. Брэгг прибыл с дивизией Хоука поздно вечером 15 марта. Эти силы ветеранов из армии Северной Вирджинии были отправлены Ли в декабре 1864 года на юг, чтобы помочь защитить форт Фишер и порт Уилмингтон — важнейший узел «дороги жизни» Ли. » в Вирджинию по железной дороге Уилмингтон и Уэлдон.
- Подразделения Армии Теннесси медленно прибывали с запада, выйдя из Тупело, штат Миссисипи, по железной дороге в середине января. Эти злополучные силы — основная западная армия Конфедерации — были разбиты вдребезги тремя месяцами ранее, когда они находились под командованием генерала Джона Белл Худа в Теннесси. После бедствий Конфедерации при Франклине и Нэшвилле в ноябре и декабре 1864 года остатки армии Теннесси отступили в Миссисипи.
- Корпус Харди после отступления из Фейетвилля расположился лагерем возле Аверасборо, на пути марша федерального левого крыла.
- Кавалерия Уэйда Хэмптона состояла из корпуса Уиллера из армии Теннесси и дивизии Батлера из армии Северной Вирджинии. Эти силы были разделены, чтобы следить за продвижением разделенной армии Шермана: Батлер следовал за правым крылом генерала О.О. Ховарда, а Уиллер отступал перед левым крылом генерала Х.В. Слокама.
Джо Джонстон собирал армию, но генерал знал, что он не может сравниться с Шерманом численно. Не имея достаточного количества войск, чтобы противостоять объединенным федеральным силам, «Старый Джо» был бы вынужден атаковать одно крыло разделенной армии Шермана, в то время как другое было вне досягаемости другого.Если бы Джонстон смог раздавить одно крыло , он мог бы затем напасть на другое с большими шансами на успех. Но сможет ли он вовремя собрать сплоченные силы, чтобы заблокировать продвижение Шермана? Когда его разрозненные подразделения сошлись, Джонстон с тревогой ждал новостей от Харди и Хэмптона об истинном предназначении великой армии Шермана. Генерал Уильям Дж. Харди вскоре начал давать ответы.
Задержка в Аверасборо
«Командующий генерал-лейтенант благодарит солдат и офицеров этого командования за вчерашнее мужество и поведение и поздравляет их с первым серьезным поражением врага после отбытия из Атланты.. . .по приказу генерал-лейтенанта Харди.»
— подполковник Томас Б. Рой, AAG, штаб WJ Hardee; Общий приказ № 16 от 17 марта 1865 г.
15 марта в поселке Смитвилль (не путать со Смитфилдом) ниже Аверасборо генерал Харди — примерно с 6455 бойцами — развернул свое командование в три линии на хорошо выбранной оборонительной позиции. Здесь мыс Страха и Блэк-Ривер отделяло всего около двух миль, и команда Харди занимала расстояние между ними, блокируя продвижение федерального левого крыла на Роли-Планк-роуд.Первые две линии составляли дивизию непроверенных гарнизонных войск генерала Уильяма Б. Талиаферро: бригада А. М. Ретта впереди, за ней следовала бригада Стивена Эллиотта. Примерно в 600 ярдах позади линии Эллиотта располагалась более опытная команда Харди: четыре бригады ветеранов боевых действий и одна бригада резерва, составляющие дивизию генерала Лафайета Маклоуза.
Уильям Дж. Харди
Позади позиции Харди между реками дощатая дорога шла на север к Роли, а другая дорога разветвлялась на восток в сторону Голдсборо.Джо Джонстон был обеспокоен тем, по какому пути пойдет федеральное левое крыло. Он направлялся в Роли или в Голдсборо?
Около 15:00 15 марта 9-й Мичиганский кавалерийский полк, за которым последовали остальные федеральные всадники Смита Д. Аткинса, вступили в контакт с стрелками Талиаферро. Обнаружив, что дорога заблокирована, Аткинс развернулся на Роли-Планк-роуд, и в течение дня происходили острые стычки. Когда наступила ночь, пошел проливной дождь, и аристократический полковник Альфред М. Ретт, схваченный группой федеральных разведчиков, был потрясен, обнаружив, что оказался пленником в руках капитана.Тео Нортроп. К 00:30 16 марта первое подкрепление пехоты Союза прибыло в окрестности Смитвилля. Бригада XX корпуса полковника Уильяма Хоули, покидая Блафф-Черч, прошла унылые пять миль во время грозы, чтобы сменить солдат Аткинса на передовой.
В 2:00 утра Уильям Т. Шерман отправил записку генералу А. Х. Терри, чей Временный корпус вскоре должен покинуть Уилмингтон для встречи в Голдсборо: Кинстон.Это очень важно, потому что оттуда в Голдсборо нет мостов. Поэтому я поеду прямо на Голдсборо. . . . Харди опережает меня и показывает бой. Я пойду на него утром с четырьмя дивизиями и оттесню его до Аверасборо, прежде чем повернуть [на восток] в сторону Бентонвилля и моста Кокса».
В нескольких милях к югу правое крыло генерала Оливера О. Ховарда пересекало Саут-Ривер (нижнее продолжение Блэка), а кавалерия Конфедерации Батлера внимательно следила за его продвижением.До сих пор Шерман был доволен ходом кампании и не хотел, чтобы что-то нарушило его график достижения Голдсборо. Обеспокоенный тем, что его разделенные силы могут отойти слишком далеко друг от друга, командующий Союзом предупредил Ховарда: «[Все] хорошо работает вокруг нас, и мы не должны рассеиваться, а стремиться сойтись вокруг Бентонвилля, а затем Голдсборо». Рассчитывая, что погода помешает операциям Конфедерации, Шерман добавил: «Дождь так же вреден для наших противников, как и для нас, и я сомневаюсь, что у них есть такие же хорошие припасы или транспорт, как у нас.»
К 9:00 федералы готовились смести с дороги корпус Харди. Дивизии XX корпуса Уильяма Уорда и Натаниэля Джексона присоединились к бригаде Хоули на фронте, Уорд двинулся влево, а остальная часть дивизии Джексона присоединилась справа от линии Хоули. Боевая линия Союза вскоре продвинулась в пределах 500 ярдов от бригады Конфедерации Ретта, которая была развернута на дороге к северу от дома Джона Смита («Дубовая роща»).
Эскиз действия Уильяма Вода по адресу
Аверасборо, Н.C. 16 марта 1865 г.
В 10:30 сражение началось всерьез, когда генерал Г. В. Слокум приказал бригаде полковника Генри Кейса обойти линию Конфедерации с фланга и расчистить дорогу. Двигаясь далеко влево, люди Кейса пересекли большой овраг и атаковали правый фланг бригады Ретта. В то же время впереди выдвинулась бригада полковника Дэниела Дастина. Хотя люди Ретта до сих пор хорошо держались в своем первом опыте боя, нападение Союза было слишком сильным, чтобы вынести его, и линия Конфедерации пошатнулась назад, к позиции Эллиотта на севере.Три полевых орудия на линии Ретта были захвачены, а два из них были повернуты и обстреляны по своим бывшим владельцам, когда они бежали в тыл.
Около 13:00 Федералы продвигались по линии Эллиотта, в то время как солдаты Джадсона Килпатрика пытались обойти левых конфедератов с фланга. Однако маневр Килпатрика был сорван 32-м полком Джорджии и 1-м регулярным полком Джорджии, которые были отправлены вперед с линии Маклоуса, чтобы остановить наступление федеральных войск. 2-я дивизия Южной Каролины (бригада Коннера) также была отправлена вперед, чтобы закрепить правый фланг Эллиотта, но наступление пехоты Союза было слишком сильным, чтобы выдержать его.Вторая линия Талиаферро рухнула и отступила к относительно безопасным позициям Маклоуза.
Как и планировал Харди, его неопытные части начали бой и отступали к его основной оборонительной позиции. «Старый надежный» удлинил свою третью линию, разместив Эллиотта в центре, с тремя бригадами Маклоуза слева от него и одной справа. Своевременное прибытие двух дивизий кавалерии генерала Джозефа Уиллера продлило линию Харди на запад до утесов, возвышающихся над рекой Кейп-Фир.Приняв на себя основную тяжесть битвы, бригада Ретта была выстроена в резерв за основной линией.
Ближе к вечеру дивизия XIV федерального корпуса генерала Джеймса Д. Моргана двинулась слева от XX корпуса. Стычки оставались ожесточенными, линии противников находились в непосредственной близости, но наступление федеральных сил остановилось на третьей линии Харди. Небольшой дневной дождь сменился ливнем во второй половине дня, что ухудшило грязную местность и затруднило развертывание войск. Задержавшись из-за грязных дорог, ставших почти непроходимыми из-за недавних дождей, дивизия XIV корпуса Карлина прибыла в сумерках и сформировала резерв на главной федеральной линии.Затем Шерман отложил дальнейшую атаку до следующего утра.
Ближе к вечеру генерал Харди сообщил Джо Джонстону, что остановил продвижение Шермана и что после наступления темноты он отступит к Смитфилду. С наступлением темноты артиллерия Конфедерации отошла, а затем около 20:00. пехотой (которая разожгла костры, чтобы замаскировать отступление).
Бой у Аверасборо стоил корпусу Харди около 500 жертв. Федеральное левое крыло Слокама потеряло 682 человека, в результате чего их общее количество составило примерно 1182 человека.Шерман считал свои потери в Аверасборо «серьезной потерей», , поскольку раненые еще больше загромождали фургоны Союза, которые мчались по грязным и трудным дорогам.
Кризис кампании
«Я думаю, что Джо Джонстон попытается помешать нам получить Голдсборо.»
— Уильям Т. Шерман генералу О. О. Ховарду, командующему федеральным правым крылом, 18 марта 1865 г.
16 марта 1865 года, когда шла битва при Аверасборо, Джонстон назначил лейтенанта.Генерал А. П. Стюарт в качестве командующего остатками армии Теннесси, которые все еще прибывали в Смитфилд. Сосредоточение войск Конфедерации шло хорошо, хотя и медленно, и поздно ночью Джонстон запросил Харди: .» Джонстону не терпелось узнать направление марша колонны Федерального левого крыла. Из своей штаб-квартиры в Смитфилде командующий Конфедерацией медленно собирал свои силы для более серьезной попытки остановить продвижение Шермана через Северную Каролину.Смитфилд, расположенный примерно на полпути между Роли и Голдсборо, с железнодорожным сообщением с обоими городами, был идеальной базой для операций Конфедерации. Отсюда Джонстон мог двигаться на запад, чтобы заблокировать наступление на Роли, или на восток, чтобы преградить путь к Голдсборо.
Позиция Харди в Аверасборо дала неопытным войскам дивизии Талиаферро шанс получить некоторый боевой опыт. Но что более важно, это задержало наступление левого крыла Шермана на один день, выиграв драгоценное время для сбора сил Джонстона.
Утром 17 марта кавалерия Килпатрика и дивизия XX корпуса генерала Уильяма Т. Уорда следовали за отступающим Харди до Аверасборо. Шерман надеялся ввести конфедератов в заблуждение, заставив их думать, что его армия идет на Роли. Тем временем основные силы левого крыла повернули на восток, в сторону Голдсборо. По мере продвижения левого крыла генерал Уэйд Хэмптон вместе с солдатами полковника Джорджа Дж. Дибрелла отступил к дому Уиллиса Коула на Голдсборо-роуд, примерно в двух милях к югу от крошечной деревушки Бентонвилль.В тот же вечер Хэмптон сообщил Харди: «Я думаю, что враг движется к Голдсборо… Я буду держаться между ним, Смитфилдом и Голдшоро до самого последнего момента».
Сообщения с полей не сразу доходили до Джонстона в Смитфилде, и он начал беспокоиться, что события развиваются слишком медленно. Он продолжал требовать от своих подчиненных информацию. В 19:00 — предупредил он Харди:Можете ли вы дать мне какую-либо определенную информацию о позиции сил, с которыми вы столкнулись вчера [в Аверасборо]? Немедленно отправьте его надежным курьером, чтобы он прибыл быстро». Узнав, что федералы движутся на восток, Джонстон обратил внимание на Хэмптона в доме Коула: «Пожалуйста, пришлите мне . . . всю имеющуюся у вас информацию о передвижении и положении противника, количестве его колонн, их расположении и расстоянии друг от друга, а также расстоянии от Голдсборо, и дайте мне свое мнение, возможно ли добраться до них из Смитфилда на южной стороне реку [Neuse], прежде чем они достигнут Голдсборо.» Чтобы облегчить развертывание, «Старый Джо» приказал Брэггу и Стюарту быть готовыми к выдвижению на рассвете следующего утра.
Хэмптон наконец сообщил Джонстону обнадеживающие новости. В ответ на запрос генерала об информации Хэмптон заявил, что его нынешняя позиция на плантации Коула будет отличным местом, где можно заблокировать продвижение левого крыла Шермана. Федералы все еще находились в дне пути от Коула и были достаточно отделены от правого крыла. Смитфилд находился примерно в двадцати милях к северу от позиций Хэмптона, и он заверил Джонстона, что его кавалерия будет сдерживать продвижение Шермана, пока силы Джонстона соберутся в выбранном месте.Узнав об этом, командующий конфедератами решил, что пришло время действовать, и поспешно приготовился объединить свои силы с войсками Хэмптона под Смитфилдом. В 6:45 утра 18 марта адъютант Джонстона написал депешу Харди, чей корпус расположился лагерем на возвышенности, на полпути между Аверасборо и Смитфилдом: … Шериф этого графства сообщает, что есть дорога, ведущая из точки в двух милях по эту сторону возвышенности и пересекающая дорогу Аверасборо и Голдсборо немного западнее Бентонвилля.»
К несчастью для конфедератов, составленные Джонстоном карты региона оказались крайне неточными, из-за чего Харди оказался ближе к Бентонвиллю, чем он был на самом деле, и, что более важно, преувеличило расстояние между разделенными колоннами Шермана. Эти несоответствия значительно задержали бы Харди. В 7:40 утра Джонстон сам уведомил Хэмптона: «Мы отправимся в место, где была написана ваша депеша [плантация Коула]. План, упомянутый в моей записке, который вы объявляете практически осуществимым, будет предпринят.Отправьте всю возможную информацию по этому поводу.»
Уверенность Шермана
До сих пор Шерман с опаской относился к намерениям своего противника: «Я думаю, что Джо Джонстон, вероятно, попытается помешать нам захватить Голдсборо», — писал он командиру правого крыла Оливеру О. Ховарду 18 марта. Карты Шермана были не лучше, чем у Джонстона. «Наша карта явно ошибочна», , — пожаловался он Говарду, — [и] я боюсь, что Слокум [командующий левым флангом] будет забит всеми своими поездами в узком пространстве; но в то же время я не хотят оттолкнуть вас слишком далеко, пока этот фланг не будет лучше прикрыт Нейзом.»
Но вскоре генерал Джадсон Килпатрик сообщил Шерману то, что хотел услышать, сообщив, что противник отступает на Смитфилд. Также пришло известие, что кавалерия Конфедерации Джозефа Уилера сожгла мост через Милл-Крик на Смитфилд-Клинтон-роуд [в районе современного США 701]. На карте Шермана эта дорога была неправильно указана как единственный маршрут, доступный к Джонстону из Смитфилда. (На карте не указан фактический маршрут подхода Джонстона, который пересекал Голдсборо-роуд в двух милях к югу от Бентонвилля, недалеко от плантации Коула.) Внезапно стало казаться, что Джонстон собирается защищать Роли, а не Голдсборо. Уверенность Шермана росла, и он чувствовал, что к следующему полудню левое крыло легко достигнет моста Кокса на реке Нойз. Оттуда до Голдсборо нужно было пройти 12 миль.
18 марта левое крыло, двигавшееся по Голдсборо-роуд, продвинулось до пересечения дорог Смитфилд-Клинтон. Глава XV корпуса правого крыла находился примерно в двух милях к югу от магазина Блэкмана Ли, а XVII корпус находился на шесть миль южнее и восточнее у магазина Troublefield’s Store.Армия Шермана, более сплоченная, чем когда-либо, находилась в пределах 25 миль от Голдсборо.
Когда колонна левого крыла приблизилась, Хэмптон разместил солдат Дибрелла и батарею Южной Каролины Уильяма Эрла на линии обороны на ферме Реддика Морриса, к западу от плантации Коула. В 14:30 Хэмптон отправил сообщение Джонстону: «Я могу задержать [Слокума] здесь еще на несколько часов, и я не думаю, что его наступление сегодня вечером продвинется дальше этой точки». В сумерках кавалерийские силы Конфедерации были сильно атакованы отрядом из 90 конных фуражиров из дивизии XIV корпуса Моргана, но тонкая линия южных солдат устояла.
Хэмптон успешно защитил территорию, выбранную для предстоящей битвы. Пока командир южной кавалерии цеплялся за свою позицию на ферме Моррис, пехота Джонстона усердно продвигалась из Смитфилда, и Брэгг и Стюарт должны были достичь деревни Бентонвилл вечером 18 марта.
Примечания
Сокращено из Мура, Марка А. Исторический путеводитель Мура по битве при Бентонвилле . Da Capo Press, 1997. Используется с разрешения.
, принадлежащих талибам: отчет A Times Reporter.Серия из пяти частей Дэвида Роде.
Наше окончательное предательство исходит от самого Атикуллы, чей псевдоним означает «дар от Бога».
Далее следует история нашего плена. Я не делал записей, пока был в плену. Все описания взяты из моей памяти и, по возможности, из записей моей семьи и коллег. Прямые цитаты наших похитителей основаны на переводах Таира. Несомненно, мои воспоминания неполны, и на них могло повлиять течение времени.Из соображений безопасности некоторые подробности и имена не разглашаются.
Наше время в заключении было ошеломляющим. Два телефонных звонка и одно письмо от жены поддержали меня. Я продолжал говорить себе — и Тахиру, и Асаду — быть терпеливым и ждать. К июню, на седьмом месяце нашего плена, нам стало ясно, что наши похитители не ведут серьезных переговоров о нашем освобождении. Их высокомерие и лицемерие стали бесконечными, их нечестность стала постоянной. Мы рассматривали попытку побега как последний безрассудный поступок, у которого мало шансов на успех.И все же мы хотели попробовать.
К нашему вечному удивлению, это сработало.
26 октября 2008 г. я прибыл в Афганистан с трехнедельной поездкой для отчета о книге, которую я писал об упущенных возможностях для обеспечения стабильности в регионе. Я освещал Афганистан и Пакистан с 2001 года и был вдохновлен храбростью и гордостью людей в этих двух странах и, казалось, их популярным стремлением к умеренным, современным обществам.
Первая часть моего визита оказалась удручающей.Я провел две недели в провинции Гильменд на юге Афганистана и был поражен растущей общественной поддержкой талибов.
