«Солнечный удар». Краткое содержание рассказа Бунина
Очень кратко: Поручик познакомился с женщиной и провёл с ней ночь. Наутро она отправилась домой к мужу и дочке, а поручик отплыл следующим пароходом. Эта встреча запомнилась им, а особенно ему, на всю жизнь.
Поручик и прекрасная незнакомка, как она сама себя называла, познакомились летом, на одном из волжских пароходов.
- Поручик
- — офицер в кителе, картузе, со сте́ком и при шпорах, с серым от загара лицом, с белёсыми, выгоревшими от солнца усами и голубоватой белизной глаз.
- Прекрасная незнакомка
- — замужняя маленькая женщина, в лёгком холсти́нковом платье, с прелестным смехом, проста, весела и рассудительна.
Прекрасная незнакомка возвращалась из Анапы домой к мужу и трёхлетней дочери. Выйдя с поручиком после обеда из столовой на палубу, она закрыла глаза и прелестно засмеялась.
— Я, кажется, пьяна… Откуда вы взялись? Три часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании.
Реклама:
Поручик поцеловал её руку, и его сердце замерло «при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим лёгким холсти́нковым платьем после целого месяца лежанья под южным солнцем».
Пароход подошёл к пристани, поручик умолял её сойти. Она ответила: «Ах, да делайте, как хотите». Поручик кинулся за вещами. Через минуту они сошли и поехали в гостиницу, сняли большой, но душный, накалённый за день солнцем номер. Как только лакей закрыл за собой дверь, «поручик так порывисто кинулся к ней и оба так исступлённо задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой».
А утром прекрасная незнакомка, несмотря на почти бессонную ночь, «была свежа, как в семнадцать лет», и почти не смущена. Она попросила поручика остаться до следующего парохода и сказала, что такого с ней никогда прежде не было, да и не будет больше, что на неё точно затмение нашло, что они оба получили что-то вроде солнечного удара.
Поручик легко согласился с нею, довёз до пристани, посадил на пароход и при всех поцеловал на палубе.
Легко и беззаботно он возвратился в гостиницу, но номер без неё показался поручику каким-то другим. Он почувствовал боль и ненужность всей своей дальнейшей жизни без неё, его охватило отчаяние. Он поверил, что это был действительно солнечный удар, но не знал, как ему теперь провести целый день без неё в захолустном городке.
Поручик пошёл на базар, в собор, потом долго кружил по запущенному садику, но нигде не смог найти успокоения и избавления от нового чувства: он «мучительно и восторженно любит её».
Как дико, страшно всё будничное, обычное, когда сердце поражено… этим страшным «солнечным ударом», слишком большой любовью, слишком большим счастьем!
Реклама:
Возвратившись в гостиницу, поручик пообедал. Везде было радостно, а его сердце разрывалось на части. Поручик, не задумываясь, умер бы, если бы можно было вернуть её хотя бы ещё на один день. Он хотел отправить телеграмму прекрасной незнакомке и уже пошёл на почту, но вспомнил, что знает только город, в котором она живёт. Ни фамилии, ни имени она так и не сказала.
Он хотел отправить телеграмму прекрасной незнакомке и уже пошёл на почту, но вспомнил, что знает только город, в котором она живёт. Ни фамилии, ни имени она так и не сказала.
Поручик вернулся в гостиницу совершенно разбитый, лёг на кровать, закрыл глаза, чувствуя, как по щекам катятся слёзы, и наконец уснул.
Проснулся поручик вечером. Вчерашний день и нынешнее утро вспоминались ему как далёкое прошлое. Он встал, умылся, выпил чаю с лимоном, расплатился за номер и поехал к пристани, щедро заплатив извозчику.
Ночью, сидя под навесом на палубе, поручик чувствовал себя постаревшим на десять лет.
Пересказала Зоя Бумблис. За основу пересказа взято издание рассказа из собрания сочинений Бунина в 6 томах (М.: Художественная литература, 1988). Нашли ошибку? Пожалуйста, отредактируйте этот пересказ в Народном Брифли.
Иван Бунин — Солнечный удар читать онлайн
Иван Бунин
•
Солнечный удар
После обеда вышли из ярко и горячо освещенной столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым, прелестным смехом, — все было прелестно в этой маленькой женщине, — и сказала:
Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым, прелестным смехом, — все было прелестно в этой маленькой женщине, — и сказала:
— Я, кажется, пьяна… Откуда вы взялись? Три часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели. В Самаре? Но все равно… Это у меня голова кружится, или мы куда-то поворачиваем?
Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный, мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону: пароход с волжским щегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани.
Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука, маленькая и сильная, пахла загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца лежанья под южным солнцем, на горячем морском песке (она сказала, что едет из Анапы). Поручик пробормотал:
— Сойдем…
— Куда? — спросила она удивленно.
— На этой пристани.
— Зачем?
Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке.
Она опять приложила тыл руки к горячей щеке.
— Сумасшедший…
— Сойдем, — повторил он тупо. — Умоляю вас…
— Ах, да делайте, как хотите, — сказала она, отворачиваясь.
Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода, загремели сходни… Поручик кинулся за вещами.
Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий, по ступицу, песок и молча сели в запыленную извозчичью пролетку. Отлогий подъем в гору, среди редких кривых фонарей, по мягкой от пыли дороге, показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали и затрещали по мостовой, вот какая-то площадь, присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города… Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница, старый, небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике, — и как только вошли и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней и оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой.
Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике, — и как только вошли и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней и оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой.
В десять часов утра, солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и опять всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город, она, эта маленькая безымянная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало, но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в пять минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в семнадцать лет. Смущена ли была она? Нет, очень немного. По-прежнему была проста, весела и — уже рассудительна.
— Нет, нет, милый, — сказала она в ответ на его просьбу ехать дальше вместе, — нет, вы должны остаться до следующего парохода.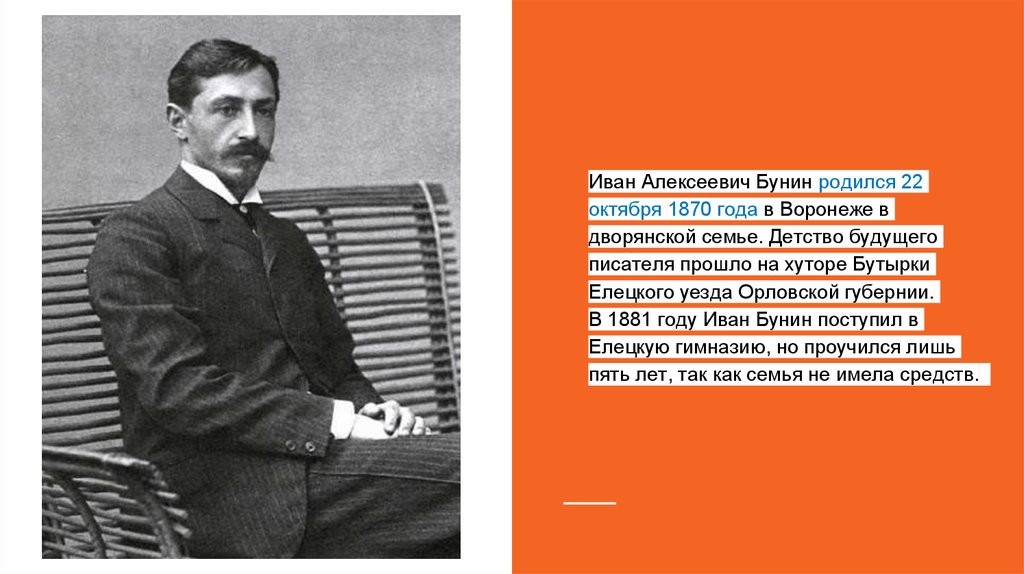 Если поедем вместе, всё будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось, со мной не было, да и не будет больше. На меня точно затмение нашло… Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара…
Если поедем вместе, всё будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось, со мной не было, да и не будет больше. На меня точно затмение нашло… Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара…
И поручик как-то легко согласился с нею. В легком и счастливом духе он довез ее до пристани, — как раз к отходу розового «Самолета», — при всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад.
Так же легко, беззаботно и возвратился он в гостиницу. Однако что-то уж изменилось. Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею — и пуст. Это было странно! Еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было… И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и, хлопая себя по голенищам стеком, несколько раз прошелся взад и вперед по комнате.
— Странное приключение! — сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. — «Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать…» И уже уехала…
Ширма была отодвинута, постель еще не убрана. И он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес, опустил белые пузырившиеся занавески, сел на диван… Да, вот и конец этому «дорожному приключению»! Уехала — и теперь уже далеко, сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на огромную, блестящую под солнцем реку, на встречные плоты, на желтые отмели, на сияющую даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор… И прости, и уже навсегда, навеки… Потому что где же они теперь могут встретиться? — «Не могу же я, — подумал он, — не могу же я ни с того, ни с сего приехать в этот город, где ее муж, ее трехлетняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь!» И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом, и мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную, такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее, мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть! Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно! — И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние.
Нет, этого не может быть! Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно! — И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние.
«Что за черт! — подумал он, вставая, опять принимаясь ходить по комнате и стараясь не смотреть на постель за ширмой. — Да что же это такое со мной? Кажется, не в первый раз — и вот… Да что в ней особенного и что собственно случилось? В самом деле, точно какой-то солнечный удар! И главное, как же я проведу теперь, без нее, целый день в этом захолустье?»
Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее особенностями, помнил запах ее загара и холстинкового платья, ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук ее голоса… Чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем необыкновенно, но теперь главным было все-таки это второе, совсем новое чувство — то странное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить в себе не мог, затевая вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже некому, некому было сказать теперь! — «А главное, — подумал он, — ведь и никогда уже не скажешь! И что делать, как прожить этот бесконечный день, с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой, в этом богом забытом городишке над той самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот розовый пароход!»
Читать дальше
краткий рассказ и анализ разочарования главного героя
Есть произведения, дайджест которых трудно сформулировать.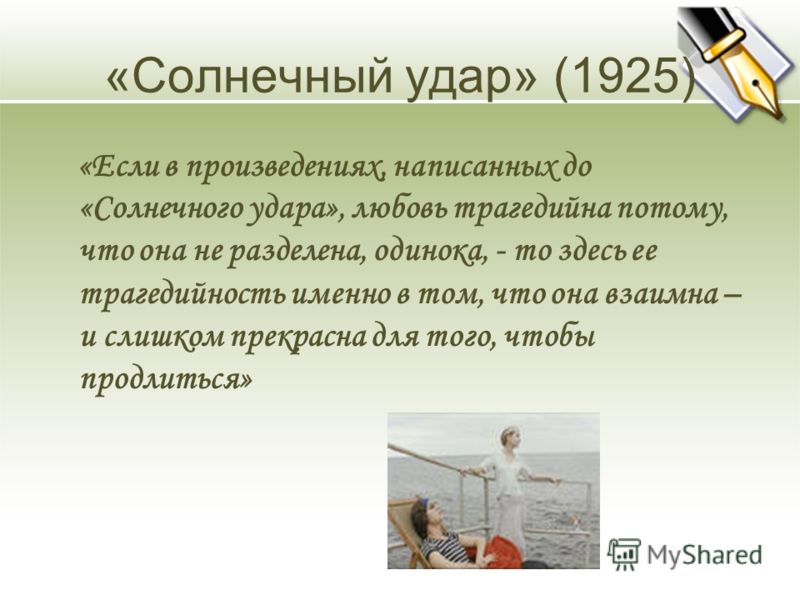 Мало что расскажет человеку, не знакомому с творчеством нобелевского лауреата и великого русского писателя, краткое содержание книги «Солнечное воздействие» автора. Этот небольшой рассказ Иван Бунин написал в эмиграции, в 1925 году, видимо, под впечатлением собственных воспоминаний о дореволюционной жизни, казавшейся ему солнечной и беззаботной, не кипящей другими страстями, кроме любви.
Мало что расскажет человеку, не знакомому с творчеством нобелевского лауреата и великого русского писателя, краткое содержание книги «Солнечное воздействие» автора. Этот небольшой рассказ Иван Бунин написал в эмиграции, в 1925 году, видимо, под впечатлением собственных воспоминаний о дореволюционной жизни, казавшейся ему солнечной и беззаботной, не кипящей другими страстями, кроме любви.
Бунин
Россия Писатель уехал в 1920 году, сев на пароход, направляясь в Константинополь. Затем он, побывав в Софии и Белграде, оказался в Париже, который вскоре сменился на юг Франции. Жизнь в чужой Европе не способствовала вдохновению, казалось, что лучшие остались дома. Но разделяло не только расстояние. Безвозвратно ушедшая атмосфера Москвы и Петербурга, миры Толстого и Гончарова канули, казалось, в небытие, а реалии чужбины не могли побудить писателя вновь взяться за перо. Только в 1924 года стали появляться первые полурассказы-полурассказы: «Митина любовь», «Дело корнета Елагина» и еще одно произведение, в котором появился новый Бунин, — «Солнечный удар». В их кратком содержании обнаруживаются ностальгические настроения. Действующие лица — офицеры, дворяне, другие граждане Российской империи, жившие среди привычных понятий чести и справедливости. Возможно, сюжеты несколько идеализировали народ разоренного государства и его образ жизни, но в этих произведениях была и правда, порой непонятная европейцам, но так близкая каждому русскому сердцу.
В их кратком содержании обнаруживаются ностальгические настроения. Действующие лица — офицеры, дворяне, другие граждане Российской империи, жившие среди привычных понятий чести и справедливости. Возможно, сюжеты несколько идеализировали народ разоренного государства и его образ жизни, но в этих произведениях была и правда, порой непонятная европейцам, но так близкая каждому русскому сердцу.
В 1933 году Бунин стал лауреатом Нобелевской премии, но шумный успех, связанный с этим событием, раздражал его. Деньги — немалая сумма — вскоре были потрачены. Прошли годы, писатель пережил немецкую оккупацию Франции, дождался признания в СССР, но домой так и не вернулся. Из-под его пера вышло множество замечательных романов и повестей, полных метафизики и чувственности. И.А. Бунин умер в Париже осенью 1953 года.
Краткое содержание. «Солнечный удар»
Бунин И.А. в своем рассказе рассказал историю, практически лишенную сюжета. Молодой офицер, лейтенант, на корабле, плывущем по Волге, знакомится с женщиной. Читатель не знает, насколько она прекрасна: он видит героиню глазами влюбленного мужчины, и это восприятие всегда субъективно. Тогда все происходит быстро. Если бы писатель хотел написать рассказ об обычном адюльтере, на который повлияла внезапная вспышка страсти, то из того же сюжета вышел бы простой и довольно скабрезный анекдот о даме и офицере. Парочка спускается с парохода на пристань небольшого уездного городка, уединилась в гостинице, и… Далее читатель может дать волю своему воображению. Но об этом «Солнечном ударе» Бунин не писал. Краткое содержание, даже в самом урезанном виде, не может обойтись без описания страданий молодого лейтенанта, оставшегося утром в одиночестве.
Читатель не знает, насколько она прекрасна: он видит героиню глазами влюбленного мужчины, и это восприятие всегда субъективно. Тогда все происходит быстро. Если бы писатель хотел написать рассказ об обычном адюльтере, на который повлияла внезапная вспышка страсти, то из того же сюжета вышел бы простой и довольно скабрезный анекдот о даме и офицере. Парочка спускается с парохода на пристань небольшого уездного городка, уединилась в гостинице, и… Далее читатель может дать волю своему воображению. Но об этом «Солнечном ударе» Бунин не писал. Краткое содержание, даже в самом урезанном виде, не может обойтись без описания страданий молодого лейтенанта, оставшегося утром в одиночестве.
Безумие
Юноша даже не подозревал, сколько он заработает на мимолетном романе. Он вдруг понимает, что без этой женщины ему не нравился весь белый свет. В ожидании следующего корабля он не знает, что делать, но это не так уж и плохо. Он не знает, как жить дальше, и готов совершить самый безумный поступок, чтобы вернуть ускользнувшее счастье. Именно во второй части рассказа Иван Бунин раскрывает себя как настоящий художник. «Солнечный удар», краткое содержание и название которого полностью характеризует болезненное состояние души, именуемое в психиатрии фрустрацией, позволяет увидеть, что желание жить как-то иначе, по-новому, вступает в противоречие с реальностью — жесткой и беспощадной. .
Именно во второй части рассказа Иван Бунин раскрывает себя как настоящий художник. «Солнечный удар», краткое содержание и название которого полностью характеризует болезненное состояние души, именуемое в психиатрии фрустрацией, позволяет увидеть, что желание жить как-то иначе, по-новому, вступает в противоречие с реальностью — жесткой и беспощадной. .
Женская жестокость
Лейтенант ни на кого не обижается. Более того, он получил именно то, что хотел, но странным образом эта «победа» оборачивается против самого незадачливого Казановы. Офицер был настолько ошеломлен полученными впечатлениями, что, словно в полусне, соглашается расстаться со своей дамой, еще не зная, насколько глубоким будет для него чувство этой утраты. Ему все еще не хватает жизненного опыта, чтобы предвидеть, что с ним произойдет в ближайшие несколько часов. Очевидно, многие мужчины испытывали в молодости такие чувства, в том числе и И. А. Бунин. «Солнечный удар», краткое содержание которого мы сегодня обсуждаем, умалчивает об эмоциях неизвестной дамы, ставшей причиной смятения духа. Скорее всего, она очень равнодушно перенесла это расставание, хотя запомнила его на всю жизнь.
Скорее всего, она очень равнодушно перенесла это расставание, хотя запомнила его на всю жизнь.
Михалковский «Солнечный удар»
Н.С. Михалков давно, по его собственному признанию, рассматривал это произведение как объект для экранизации. В 2014 году он наконец реализовал эту творческую идею, хотя и с множеством концептуальных дополнений. Даже краткое содержание повести Бунина «Солнечный удар» дает представление о том, что на основе столь лаконичного сюжета трудно поставить художественный фильм. Но повесть настолько хороша, что вполне могла бы стать связующим «скелетом» для нескольких рассказов, соединить их в нечто цельное и позволить взглянуть на трагические события Гражданской войны под другим углом. Резкие контрасты с бунинскими «Окаянными днями» придавали особую выразительность рассказу о мимолетном увлечении поручиком. Настоящей любовью автор не назвал чувство, герои друг друга не узнали его.
3, Воспоминания о Чехове, М. Горький, А. Куприн, И. А. Бунин
Перевод С.
 С. Котелянского и Леонарда Вульфа
С. Котелянского и Леонарда ВульфаБ. В. Хюбш: Нью-Йорк: 1921
И. А. Бунин
Я познакомился с Чеховым в Москве, к конец 95 года. Мы встречались тогда с перерывами, и я не сочла бы достойным упоминания, если бы я не запомнить некоторые очень характерные фразы.
— Ты много пишешь? — спросил он меня однажды.
Я ответил, что мало писал.
— Плохо, — сказал он почти сурово на своем низком глубоком голос. «Надо работать… не жалея себя… всю жизнь».
И, после паузы, без видимых связь, он добавил:
«Когда кто-то написал рассказ, я верю, что он следует вычеркнуть как начало, так и конец конец. Вот где мы, романисты, больше всего склонны врать. И надо писать коротко — так коротко насколько это возможно».
Потом мы заговорили о поэзии, и он вдруг стал
взволнованный. «Скажи, ты заботишься об Алексее
Стихи Толстого? Для меня он актер. Когда он
был мальчиком, он надел вечернее платье, и он никогда не
снял его».
После этих случайных встреч, в которых мы соприкоснулись на некоторые из излюбленных тем Чехова — как то надо работать «не щадя себя» и надо пишем просто и без тени фальши — мы не встречались до весны 99 года. Я пришел к Ялта на несколько дней, и однажды вечером я встретил Чехов на набережной.
«Почему бы вам не прийти ко мне?» были его первыми слова. «Обязательно приходи завтра».
«Во сколько?» Я спросил.
«Утром около восьми».
И видя, может быть, что я выгляжу удивленной, он добавлен:
«Мы встаем рано. А вы?»
— Да, я тоже, — сказал я.
«Ну тогда приходи, когда встанешь. Мы дадим ты кофе. Вы пьете кофе?»
«Иногда.»
«Вы должны всегда. Это замечательный напиток. Когда я работаю, я не пью ничего, кроме кофе и куриный бульон до вечера. Кофе в утром и куриный бульон в полдень. Если я этого не сделаю, моя работа страдает».
Я поблагодарил его за приглашение, и мы пересекли
набережной молча и сел на скамейку.
— Ты любишь море? Я спросил.
— Да, — ответил он. «Но это слишком одиноко.»
— Вот что мне в нем нравится, — ответил я.
«Интересно, — размышлял он, глядя сквозь очки вдаль и думая о своем собственные мысли. «Должно быть хорошо быть солдатом, или молодой студент… сидеть в собирайтесь и слушайте группу…».
А потом, как обычно у него, после паузы и без видимой связи он добавил:
«Море очень трудно описать. знать описание, которое школьник дал в упражнение? «Море бескрайнее». Только это. Замечательно, я думаю».
Некоторые люди могут подумать, что он притворился, говоря этот. А Чехов — аффектирован!
«Допускаю, — сказал человек, хорошо знавший Чехова, — что я встречал таких искренних людей, как Чехов. Но любой так просто и так свободно от позы и жеманства я никогда не знал!»
И это правда. Он любил все, что было искренним,
жизненной и веселой, лишь бы она не была грубой
ни тупой, и терпеть не мог педантов, или
книжные черви, которые так привыкли
составлять фразы, которые они не могут произнести никаким другим способом.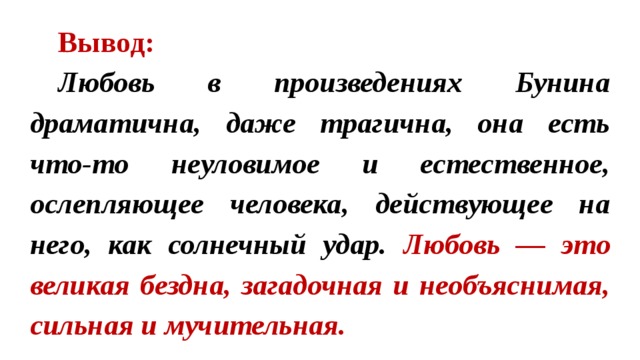 В своих сочинениях он почти никогда не говорил о себе.
или его взглядов, и это заставило людей думать, что он
человек без принципов и чувства долга перед своими
добрый. И в жизни он не был эгоистом и редко
говорил о своих симпатиях и антипатиях. Но оба
были очень сильными и прочными, а простота была
одна из вещей, которые он любил больше всего. «Море есть
необъятный»… Ему, с его страстью к
простота и его отвращение к напряженным и
затронуто, это было «замечательно». Его слова о
офицер и музыка показали другое
характеристика его: его резерв.
перехода из морского в офицерское не было
сомнения, вызванные его тайной тягой к молодости и
здоровье. Море одиноко… . И Чехов
любил жизнь и радость. В последние годы его
желание счастья, пусть даже самого простого,
постоянно проявлялся в его разговоре.
Это будет намеком, а не выражением.
В своих сочинениях он почти никогда не говорил о себе.
или его взглядов, и это заставило людей думать, что он
человек без принципов и чувства долга перед своими
добрый. И в жизни он не был эгоистом и редко
говорил о своих симпатиях и антипатиях. Но оба
были очень сильными и прочными, а простота была
одна из вещей, которые он любил больше всего. «Море есть
необъятный»… Ему, с его страстью к
простота и его отвращение к напряженным и
затронуто, это было «замечательно». Его слова о
офицер и музыка показали другое
характеристика его: его резерв.
перехода из морского в офицерское не было
сомнения, вызванные его тайной тягой к молодости и
здоровье. Море одиноко… . И Чехов
любил жизнь и радость. В последние годы его
желание счастья, пусть даже самого простого,
постоянно проявлялся в его разговоре.
Это будет намеком, а не выражением.
В Москве в 1895 году я увидел мужчину средних лет
(Чехову тогда было 35) в пенсне, тихонько
одетый, довольно высокий, легкий и изящный в
его движения. Он приветствовал меня, но так тихо
что я, тогда мальчик, принял его тишину за
холодность… В Ялте, в 1899 году, я
нашел его уже сильно изменившимся; он похудел;
лицо его стало печальнее; его отличие было столь же велико
как всегда, но это было отличием пожилого человека
человек, прошедший через многое и возвысившийся
своими страданиями. Голос стал мягче….
В остальном он был почти таким же, как и в
Москва; сердечный, говорящий с воодушевлением, но даже
проще и короче, и, пока он говорил, он
продолжал свои мысли. Он позволил мне понять
связи между его мыслями, а также я
мог, глядя сквозь очки на
море, слегка приподняв лицо. На следующее утро после
встретив его на набережной, я пошел к нему домой. я
хорошо помню яркое солнечное утро, которое я
провел с Чеховым в его саду. Он был очень
живо, и смеялся, и читал мне единственное стихотворение, так что
он сказал, что когда-либо писал: «Лошади, зайцы
и китайцы, басня для детей» (Чехов
написал это для детей друга. Видеть
Буквы.)
Он приветствовал меня, но так тихо
что я, тогда мальчик, принял его тишину за
холодность… В Ялте, в 1899 году, я
нашел его уже сильно изменившимся; он похудел;
лицо его стало печальнее; его отличие было столь же велико
как всегда, но это было отличием пожилого человека
человек, прошедший через многое и возвысившийся
своими страданиями. Голос стал мягче….
В остальном он был почти таким же, как и в
Москва; сердечный, говорящий с воодушевлением, но даже
проще и короче, и, пока он говорил, он
продолжал свои мысли. Он позволил мне понять
связи между его мыслями, а также я
мог, глядя сквозь очки на
море, слегка приподняв лицо. На следующее утро после
встретив его на набережной, я пошел к нему домой. я
хорошо помню яркое солнечное утро, которое я
провел с Чеховым в его саду. Он был очень
живо, и смеялся, и читал мне единственное стихотворение, так что
он сказал, что когда-либо писал: «Лошади, зайцы
и китайцы, басня для детей» (Чехов
написал это для детей друга. Видеть
Буквы.)
Однажды по мосту шли
«Стой! Ух! Хо! Хо!»
Толстые китайцы,
Впереди их, подняв хвосты,
Быстро бежали зайцы.
Вдруг китайцы закричали:
Зайцы еще выше подняли хвосты
И спрятались в кусты.
Мораль этой басни ясна:
Кто хочет есть зайцев
Каждый день вставая с постели
Должен слушаться отца.
После этого визита я ходил к нему все больше и больше часто. Отношение Чехова ко мне поэтому поменял. Он стал более дружелюбным и сердечный… Но он был еще сдержан, однако, так как он был сдержан не только со мной, но и с теми, кто был с ним наиболее близок, оно поднялось, я верил, не от холодности, а от чего-то гораздо важнее.
Очаровательный белокаменный дом, сверкающий на солнце;
садик, посаженный и ухоженный Чеховым
сам, который любил все цветы, деревья и животных;
его кабинет с немногими картинами и большой
окно, выходившее на долину р.
река Учан-Спо и синий треугольник р.
море; дом, дни и даже месяцы, которые я
провел там, и моя дружба с человеком, который
очаровал меня не только своей гениальностью, но и
его строгий голос и его детская улыбка — все это
навсегда останется одним из самых счастливых воспоминаний о
моя жизнь.
Он был очень веселым и любил смех, но он только смеялся своим очаровательным заразительным смехом, когда кто-то другой пошутил: он сам говорить самые забавные вещи без малейшего улыбка. Он любил шутки, нелепости прозвища, и в мистификации людей. … Даже ближе к концу, когда он почувствовал себя немного лучше его юмор был неудержим. И с каким тонким юмор, он бы рассмешил! Он бросил бы пару слов и подмигнул ему глазом над своим очки. … Его письма тоже, хотя их форма идеальна, полны восхитительного юмора.
Но сдержанность Чехова проявилась во многом.
другими способами, которые доказали силу его
характер. Хотя никто никогда не слышал, чтобы он жаловался
ни у кого не было больше причин жаловаться. Он был одним из
большая семья, которая жила в состоянии фактического
хотеть. Он должен был работать за деньги на условиях
который погасил бы самый пламенный
вдохновение. Он жил в крохотной квартирке, писал в
краю стола, посреди разговоров и
шуметь всей семьей и часто несколькими
посетители сидят вокруг него. Много лет он был
очень бедный. … Но он почти никогда не ворчал
на его участке. Не то чтобы он мало просил
жизнь: напротив, он ненавидел подлость и
скудным, хотя он был благородным спартанцем в том, как он
жил. Пятнадцать лет он страдал
изнурительной болезни, которая в конце концов убила его, но
его читатели никогда не знали об этом. Так же не могло быть
сказал о большинстве писателей. Действительно, мужественность с
который он понес свои страдания и встретил свою смерть, был
замечательный. Даже в худшем случае он почти преуспел
скрывая свою боль.
Он жил в крохотной квартирке, писал в
краю стола, посреди разговоров и
шуметь всей семьей и часто несколькими
посетители сидят вокруг него. Много лет он был
очень бедный. … Но он почти никогда не ворчал
на его участке. Не то чтобы он мало просил
жизнь: напротив, он ненавидел подлость и
скудным, хотя он был благородным спартанцем в том, как он
жил. Пятнадцать лет он страдал
изнурительной болезни, которая в конце концов убила его, но
его читатели никогда не знали об этом. Так же не могло быть
сказал о большинстве писателей. Действительно, мужественность с
который он понес свои страдания и встретил свою смерть, был
замечательный. Даже в худшем случае он почти преуспел
скрывая свою боль.
— Тебе нехорошо, Антоша? его мать или говорила сестра, видя, как он весь день сидит с его глаза закрыты.
«Я?» отвечал он, тихо открывая глаза который выглядел таким ясным и мягким без его очки. «О, это ничего. У меня есть немного головная боль.»
Он страстно любил литературу и говорить о
писателей и восхвалять Мопассана, Флобера или
Толстой был для него большой радостью.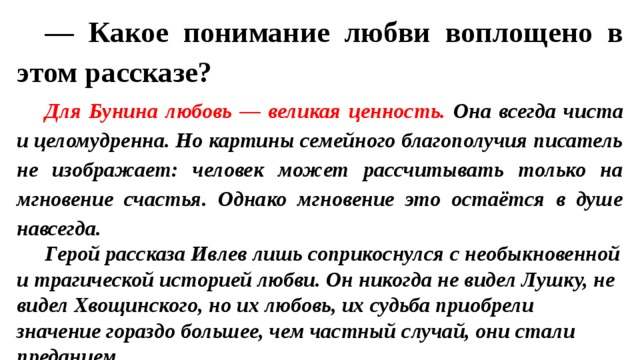 Он говорил с
особый энтузиазм только что упомянутых и
также лермонтовской «Тамани».
Он говорил с
особый энтузиазм только что упомянутых и
также лермонтовской «Тамани».
«Я не могу понять, — говорил он, — как простой мальчик мог бы написать «Тамань»! Ах, если бы это написано и хорошая комедия — тогда можно было бы довольствоваться смертью!»
Но его разговор о литературе был совсем другим. из обычного магазина, о котором говорили писатели, с его узость, и малость, и мелкое личное несмотря. Он обсуждал книги только с людьми которые любили литературу больше всех других искусств и были бескорыстные и чистые в своей любви к нему.
«Вы не должны читать свои записи другим людям
прежде чем оно будет опубликовано, — часто говорил он. — И оно
самое главное никогда не следовать чьим-либо советам.
Если вы сделали беспорядок, пусть кровь будет на
свою собственную голову. Мопассан своим величием так
подняли уровень письма, что это очень
трудно писать; но мы должны писать, особенно мы
Русские, и в письме надо быть смелым.
Есть большие собаки и маленькие собаки, но маленькие
собаки не должны быть обескуражены существованием
из больших собак. Все должны лаять — и лаять с
голос, который дал им Бог».
Все должны лаять — и лаять с
голос, который дал им Бог».
Все, что было в мире букв сильно заинтересовал его, и он возмутился глупость, фальшь, жеманство и шарлатанство, набрасывающееся на литературу. Но хотя он был зол, он никогда не был раздражителен и в его гневе не было ничего личного. Это принято говорить об умерших писателях, что они радовались успехам других и не завидовали их. Если, стало быть, я подозревал Чехова в по крайней мере ревность я должен быть доволен, чтобы ничего не говорить об этом. Но дело в том, что он радовался наличие таланта, спонтанно. Слово «бездарный» был, я думаю, самым разрушительным выражение, которое он использовал бы. Его собственные неудачи и успех он взял, как он один знал, как их взять.
Он писал в течение двадцати пяти лет и в течение
в то время его сочинения постоянно подвергались нападкам.
Будучи одним из величайших и тончайших
Русским писателям он никогда не использовал свое искусство для проповеди.
При этом русские критики не могли ни
понять его и не одобрить его. Разве они не
настаивать на том, чтобы Левитан «зажег» свою
пейзажи — то есть краска у коровы, гуся или
фигура женщины? Такая критика задевает
Чехова много, и озлобило его еще больше
чем он уже озлобился на русскую жизнь
сам. Его горечь покажет себя
на мгновение — только на мгновение.
Разве они не
настаивать на том, чтобы Левитан «зажег» свою
пейзажи — то есть краска у коровы, гуся или
фигура женщины? Такая критика задевает
Чехова много, и озлобило его еще больше
чем он уже озлобился на русскую жизнь
сам. Его горечь покажет себя
на мгновение — только на мгновение.
— Мы скоро будем отмечать твой юбилей, Антон. Павлович!»
— Я знаю ваши юбилеи. Двадцать пять лет они ничего не делать, кроме как оскорблять и высмеивать человека, а затем ты даешь ему ручку из алюминия и слюни Над ним целый день, и плачь, и целуй его, и хныкай!»
Говоря о своей славе и популярности, он ответь так же — двумя-тремя словами или шутка.
— Вы читали, Антон Павлович? можно было бы спросите, прочитав статью о нем.
Он лукаво поглядывал поверх очков, смехотворно вытянуть лицо и сказать глубоким голос:
«О, тысяча благодарностей! Там целая колонна, а внизу: «Есть еще писатель звали Чехова: недовольный человек, ворчун».
Иногда он серьезно добавлял:
«Когда вас критикуют, вспомните нас
грешники.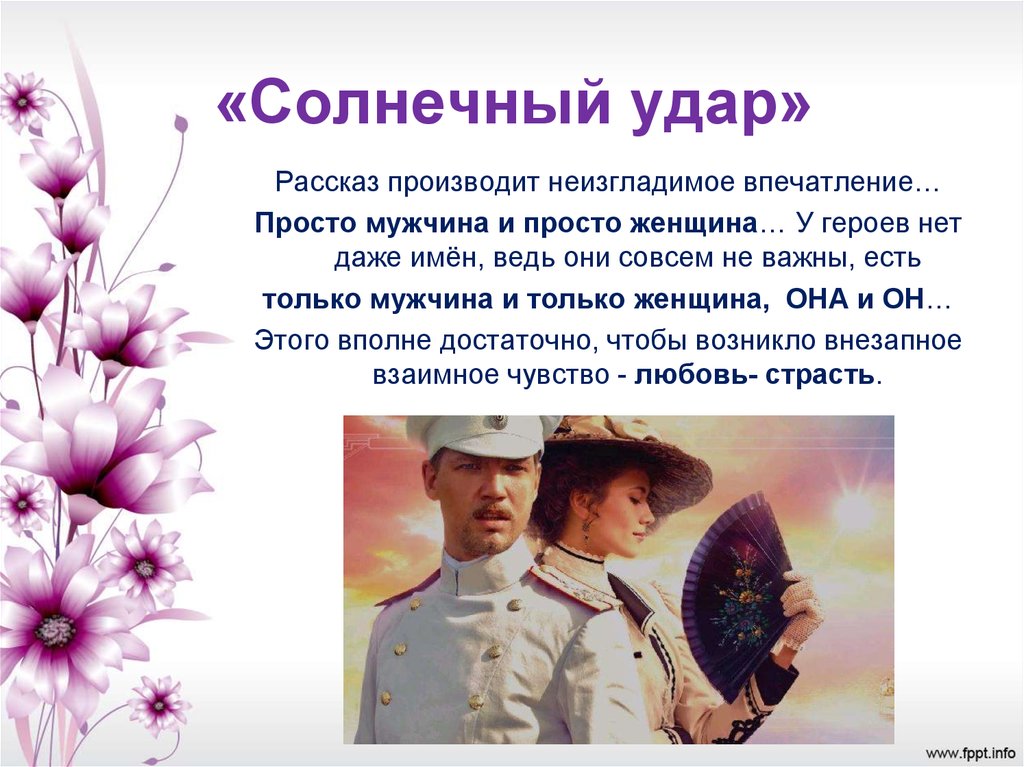 Критики ругали нас за пустяки
как если бы мы были школьниками. Один из них
предсказал, что я умру в канаве. Он
предположил, что меня исключили из школы за
пьянство.»
Критики ругали нас за пустяки
как если бы мы были школьниками. Один из них
предсказал, что я умру в канаве. Он
предположил, что меня исключили из школы за
пьянство.»
Я никогда не видел, чтобы Чехов выходил из себя. Очень редко был ли он раздражен, и если это случилось, он удивительно себя контролировал. Я помню, для например, что однажды он был раздражен, читая книгу о том, что он был «равнодушен» к вопросам морали и общества, и что он был пессимистом. Однако его раздражение выразилось только в двух словах:
«Полный идиот!»
И я не нашел его холодным. Он сказал, что ему холодно когда писал, и что он писал только тогда, когда мысли и образы, которые собирались выразить, были совершенно ясно для него, а затем он написал, постоянно, без перерывов, пока не довел его до конца.
«Писать следует только тогда, когда чувствуешь себя совершенно спокойно, — сказал он однажды.
Но это спокойствие было очень своеобразного характера. Нет
у другого русского писателя была его чуткость и его
сложность.
Действительно, нужен очень разносторонний ум, чтобы пролить свет на эту глубокую и сложную дух — этот «несравненный художник», как Толстой позвал его. Я могу только засвидетельствовать, что он был человек редкого духовного благородства, выдающийся и культивируется в лучшем смысле, который сочетал нежность и деликатность с полной искренностью, доброта и чуткость с полной откровенностью.
Быть правдивым и естественным и при этом сохранять обаяние подразумевает натуры редкой красоты, цельности, и власть. Я так часто говорю о Чехове хладнокровие, потому что его хладнокровие кажется мне доказательство силы его характера. Это было всегда его, я думаю, даже когда он был молод и в высшие духи, и это было то, что, быть может, что сделало его таким независимым и способным начать свою работу непритязательно и мужественно, без заигрывая со своей совестью.
Вы помните слова старого профессора в «Скучная история?»
«Я не скажу, что французские книги хороши и одарены
и благородный; но они не такие унылые как русские
книги, а главным элементом творческой силы является
часто можно найти в них чувство личного
свобода.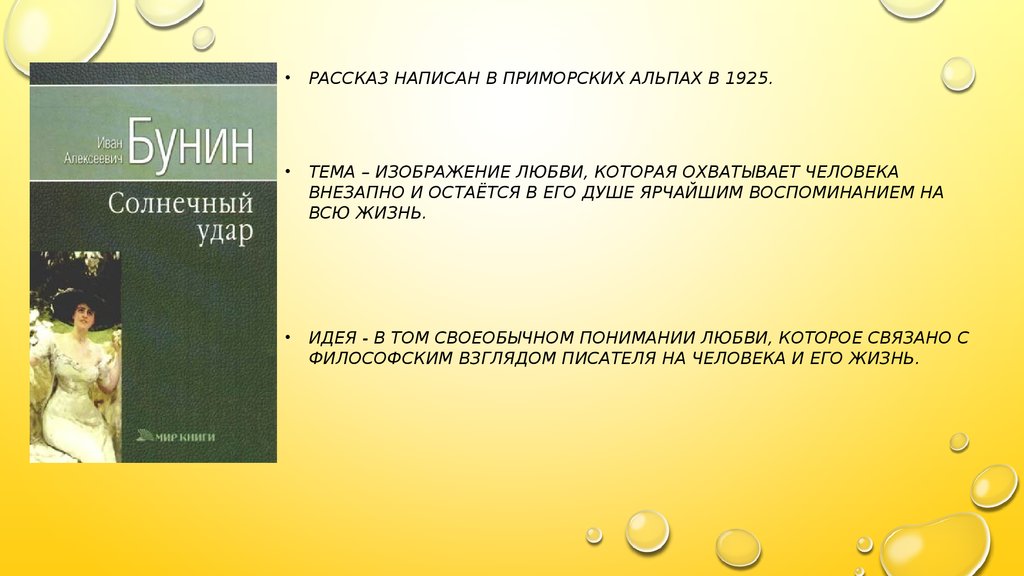 »
»
Чехов обладал в высшей степени этим «чувством личной свободы», и он не мог вынести этого другие должны быть без него. Он станет горьким и бескомпромиссным, если он думал, что другие позволяли себе это.
Эта «свобода», как известно, стоила ему большой иметь дело; но он не был из тех, кто два разных идеала — один для себя, другое для публики. Его успех был для очень долгое время гораздо меньше, чем он заслуживал. Но он ни разу за всю свою жизнь не сделал ни малейшего попытки увеличить свою популярность. Он был чрезвычайно суров ко всем проволочным натяжениям, которые сейчас прибегают для достижения успеха.
— Вы все еще называете их писателями? извозчики!» сказал он горько.
Его неприязнь к тому, чтобы из него время от времени выставляли напоказ казался чрезмерным.
«Скорпион» (издательская фирма) рекламирует свои
книги плохо», — написал он мне после публикации
«Северный цветок». «Они поставили мое имя первым,
и когда я прочитал рекламу в ежедневной Русские ведомости Я поклялся, что больше никогда не буду
любой грузовик со скорпионами, крокодилами или змеями».
Это было зимой 1900 года, когда Чехов, заинтересоваться некоторыми особенностями нового издательство «Скорпион» предоставило их по моей просьбе один из его юношеских рассказов «На море». Они напечатал его в сборнике рассказов, и он много раз пожалел об этом.
«Все это новое русское искусство — вздор, — говорил он. сказать. «Я помню, что однажды увидел вывеску в Таганрог: Искусственный (от «искусственного») минерал. Вода продается здесь! Ну, это новое искусство то же самое».
Его сдержанность исходила из возвышенности его духа и от его непрекращающегося стремления выразить себя точно. В конце концов случится так, что люди будет знать, что он был не только «несравненным художник», не только удивительный мастер языка но несравненный человек в придачу. но это потребуется много лет, чтобы люди вникли в его полнота его тонкости, силы и деликатности.
— Как поживаете, милый Иван Алексеевич? он написал
я в Ницце. «Я желаю вам счастливого Нового года. Я
получил ваше письмо, спасибо. В Москве
все в целости, сохранности и унылости. Здесь нет
новости (кроме Нового года) и не новости
ожидал. Моя пьеса еще не поставлена, и я
знать, когда это будет. Возможно, что я могу
приезжайте в Ниццу в феврале. … Приветствуйте
прекрасное жаркое солнце от меня и тихое море. Наслаждаться
себя, будь счастлива, не думай о болезни, и
часто пиши своим друзьям. … Хорошо держаться,
и веселый, и не забудь свою желтоватую
северяне, страдающие несварением желудка
и дурной характер» (8 января 19 г.04).
В Москве
все в целости, сохранности и унылости. Здесь нет
новости (кроме Нового года) и не новости
ожидал. Моя пьеса еще не поставлена, и я
знать, когда это будет. Возможно, что я могу
приезжайте в Ниццу в феврале. … Приветствуйте
прекрасное жаркое солнце от меня и тихое море. Наслаждаться
себя, будь счастлива, не думай о болезни, и
часто пиши своим друзьям. … Хорошо держаться,
и веселый, и не забудь свою желтоватую
северяне, страдающие несварением желудка
и дурной характер» (8 января 19 г.04).
«Приветствуйте прекрасное жаркое солнце и тихое море из мне»… Я редко слышал, чтобы он так говорил. Но я часто чувствовал, что он должен сказать это, и тогда мой сердце тоскливо болело.
Я помню одну ночь ранней весной. Это было поздно. Внезапно зазвонил телефон. Я слышал Низкий голос Чехова:
— Сэр, возьмите извозчика и приезжайте сюда. водить машину.»
«Драйв? В это время ночи?» Я ответил. — Что с вами, Антон Павлович?
«Я влюблен.»
— Это хорошо. Но уже девять… Ты
простудится».
Но уже девять… Ты
простудится».
— Молодой человек, не придирайтесь!
Через десять минут я был в Антке. Дом, где зимой жил Чехов наедине с его мать была темной и молчаливой, за исключением того, что свет проник через замочную скважину комнаты его матери, и две маленькие свечи горели в полумраке своего исследования. Мое сердце сжалось, как обычно, в вид того тихого кабинета, где проходил Чехов так много одиноких зимних ночей, горько думая быть может, на судьбе, которая дала ему так много и издевался над ним так жестоко.
«Что ночью!» он сказал мне даже больше, чем свою обычную нежность и задумчивую радость, встретив я в дверях. «Здесь так скучно! волнение — это когда звонит телефон и Софи Павловна спрашивает, что я делаю, а я отвечаю: ловлю мышей. Пойдем, поедем в Орианду. Мне плевать, если я простудлюсь!»
Ночь была теплая и тихая, с яркой луной,
легкие облака и несколько звезд в темно-синем
небо. Карета тихо катилась по белому
дороге, и, успокоенный ночной тишиной,
мы сидели молча, глядя на море, мерцающее тусклым светом.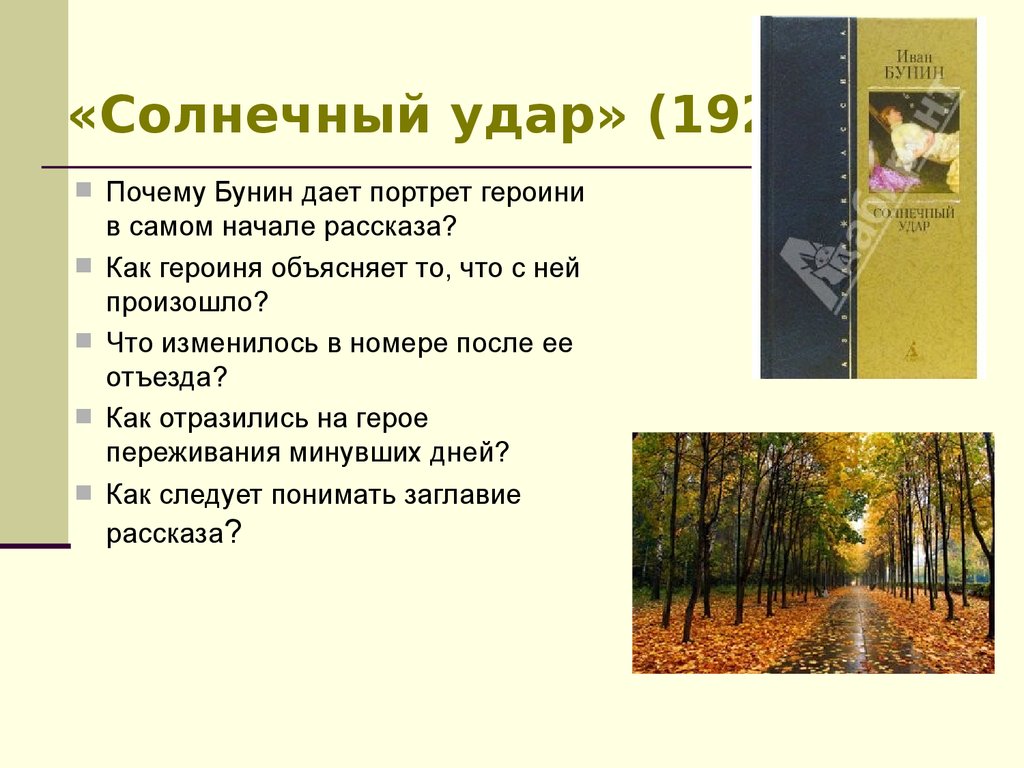 золото… Потом пришел лес, окутанный паутиной
тенями, но уже по-весеннему и
красиво…. Чёрные отряды великанов
кипарисы величественно поднимались в небо. Мы
остановил карету и прошел под ними, мимо
руины замка, которые были бледно-голубыми в
лунный свет. Чехов вдруг сказал мне:
золото… Потом пришел лес, окутанный паутиной
тенями, но уже по-весеннему и
красиво…. Чёрные отряды великанов
кипарисы величественно поднимались в небо. Мы
остановил карету и прошел под ними, мимо
руины замка, которые были бледно-голубыми в
лунный свет. Чехов вдруг сказал мне:
«Вы знаете, сколько лет меня будут читать? Семь.»
«Почему семь?» Я спросил.
— Значит, семь с половиной.
«Нет я сказала. «Поэзия живет долго, и чем дольше оно живет тем лучше, чем становится, — как вино».
Он ничего не сказал, но когда мы сели на скамейку, с которой мы могли видеть море, сияющее в лунный свет, он снял очки и сказал: глядя на меня своими добрыми, усталыми глазами:
«Поэты, сэр, это те, кто употребляет такие фразы, как «серебристая даль», «согласие» или «вперед, вперед, к борьбе с силами тьма!»
— Вы сегодня грустите, Антон Павлович, — сказал я, глядя на его доброе и красивое лицо, бледное в лунный свет.
Он задумчиво выкапывал маленькие камешки с
конец его палки, с его глаза на землю.

