| А н а к р е о н Ода I Л о м о н о с о в Ответ А н а к р е о н Ода XXIII Что жить положен срок, На что крушусь, вздыхаю, Что мзды скопить не мог; Не лучше ль без терзанья С приятельми гулять И нежны воздыханья К любезной посылать.  Л о м о н о с о в Ответ А н а к р е о н Ода XI Л о м о н о с о в Ответ А н а к р е о н Ода XXVIII Дай из рос в лице ей крови Цвет в очах ея небесной, Всех приятностей затеи Надевай же платье ало И о прочем рассудить.  Коль изображенье мочно, Вижу здесь тебя заочно, Вижу здесь тебя, мой свет; Молви ж, дорогой портрет. Л о м о н о с о в Ответ О мастер в живопистве первой, Потщись представить члены здравы, Возвысь сосцы, млеком обильны, Одень, одень ее в порфиру, |
29. Разговор с Анакреоном как программное произведение
«Смысл программного произведения Ломоносова „Разговор с Анакреоном“ в том, – писал советский литературовед Г. П. Макагоненко, – что европейски прославленному поэту, главе целого направления, выразителю определенной и распространенной концепции искусства противопоставлен Ломоносов, русский поэт, выразитель русской мысли». Это высказывание, при всей его неразвернутости, дает верную основу, верный угол зрения на «Разговор», что уже немало.
В
основе всего этого лежит более свободное
и широкое представление Ломоносова об
истине, которое, как подчеркнуто выше,
заключалось для него в слиянии своего
«я» с миром, в самоотдаче чему-то
обширнейшему, нежели он сам. Скажут: да
ведь и Анакреон сливается с миром, и
Анакреон свободно отдает себя тому, что
сильнее и обширнее его, и Анакреон в
своей чувственной любви приобщается к
бесконечности, к истине и т.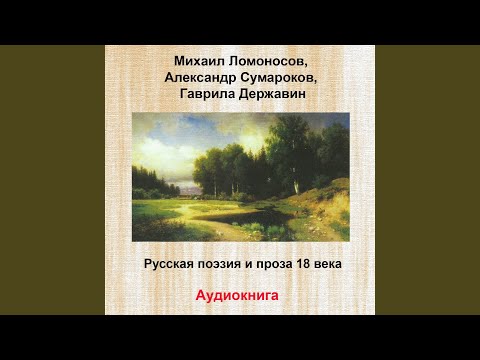 д. Но ведь
вопрос здесь не в том, может ли приобщиться,
а в том, сколько точек соприкосновения
с миром в этом единении, в этом приобщения
к истине у того и другого. Истина Анакреона
ограниченнее ломоносовской. Анакреон
(люди его типа) никогда не сможет понять
Ломоносова (людей его типа). Он сам
заказал себе путь к этому, сузив свой
горизонт. Ломоносов стоит выше, он видит
дальше и больше. Любовь для него – и
«нежность сердечная», и восхищение
перед вечной славой героев. Ломоносов
может понять Анакреона. Поэтому-то и
возможно продолжение «Разговора»:
д. Но ведь
вопрос здесь не в том, может ли приобщиться,
а в том, сколько точек соприкосновения
с миром в этом единении, в этом приобщения
к истине у того и другого. Истина Анакреона
ограниченнее ломоносовской. Анакреон
(люди его типа) никогда не сможет понять
Ломоносова (людей его типа). Он сам
заказал себе путь к этому, сузив свой
горизонт. Ломоносов стоит выше, он видит
дальше и больше. Любовь для него – и
«нежность сердечная», и восхищение
перед вечной славой героев. Ломоносов
может понять Анакреона. Поэтому-то и
возможно продолжение «Разговора»:
Анакреон,
безусловно, симпатичен Ломоносову.
Симпатичен прежде всего тем, что у него
слово не расходится с делом (это как раз
отмечается исследователями). Но
положительное отношение к Анакреону
прослеживается и по другим пунктам:
ироническое презрение к деньгам и умение
по достоинству оценить здоровую,
предметную сторону жизни. Причем
Ломоносов здесь не объединяется с
Анакреоном: просто он подробнее раскрывает
свое жизнепонимание. Обратите внимание:
ни о каком «подавлении» речи нет.
Ломоносовский образ мира развивается
в его репликах свободно, исподволь. Он
полнокровен, а не аскетичен.
Обратите внимание:
ни о каком «подавлении» речи нет.
Ломоносовский образ мира развивается
в его репликах свободно, исподволь. Он
полнокровен, а не аскетичен.
Но самое главное в этой паре стихотворений – появление темы «смерти», «рока» (в тогдашнем употреблении: синоним «смерти»).
Нельзя рассматривать «Разговор» (и, прежде всего, кульминацию его – противопоставление философии наслаждения и отказа от земных радостей, выраженное в образах Анакреона и Катона), забывая о национальном своеобразии позиции Ломоносова, которое проявляется не в одном лишь последнем стихотворении, где изображена Россия, а пронизывает все произведение от начала до конца и проступает даже в стихах Анакреона, переведенных Ломоносовым.
Главное
же в этой своеобразно-русской позиции
Ломоносова то, что он может, не переставая
быть самим собою, как бы сделаться на
время Анакреоном и Катоном. Включить в
себя жизненную философию каждого из
них, сознавая при этом, что его дух от
этого «включения», «вбирания в себя»
чужой точки зрения на мир не заполнен
до отказа, что остается еще, говоря
словами Гоголя, «бездна пространства».


