«Повести Белкина» краткое содержание для читательского дневника по циклу Пушкина (6 класс) – мое мнение, вывод, отзыв
4.7
Средняя оценка: 4.7
Всего получено оценок: 611.
Обновлено 6 Августа, 2021
4.7
Средняя оценка: 4.7
Всего получено оценок: 611.
Обновлено 6 Августа, 2021
«Повести Белкина» – знаменитый цикл повестей А. С. Пушкина, в которых автор описал разные жизненные истории, происходившие с представителями разных классов и сословий царской России.
Краткое содержание «Повести Белкина» для читательского дневника
ФИО автора: Пушкин Александр Сергеевич
Название: Повести Белкина
Число страниц: 64. Пушкин А. С. «Повести Белкина». Издательство «Литера». 2017 год
Жанр: Повести
Год написания: 1830 год
Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Кучминой Надеждой Владимировной.
Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.
Время и место действия
События в повестях разворачиваются в начале XIX века в разных уголках Российской империи.
Главные герои
Сильвио – меткий стрелок, вспыльчивый, но благородный человек.
Марья Гавриловна – богатая невеста, романтичная, наивная девушка, пострадавшая из-за своего легкомыслия.
Адриан Прохоров – гробовщик, жадный, скупой мужчина, который нередко обманывал своих клиентов.
Самсон Вырин – станционный смотритель, заботливый и любящий отец.
Дуня – красивая, но легкомысленная дочь Самсона Вырина.
Лиза Муромская – юная дворянка, большая проказница и выдумщица.
Алексей Берестов – молодой, красивый, образованный дворянин, благородный и искренний.
Обратите внимание, ещё у нас есть:
Сюжет
«Выстрел»
В молодости Сильвио участвовал в дуэли с молодым беспечным графом. Видя, что его противник совершенно не ценит жизнь, Сильвио отказался сделать выстрел.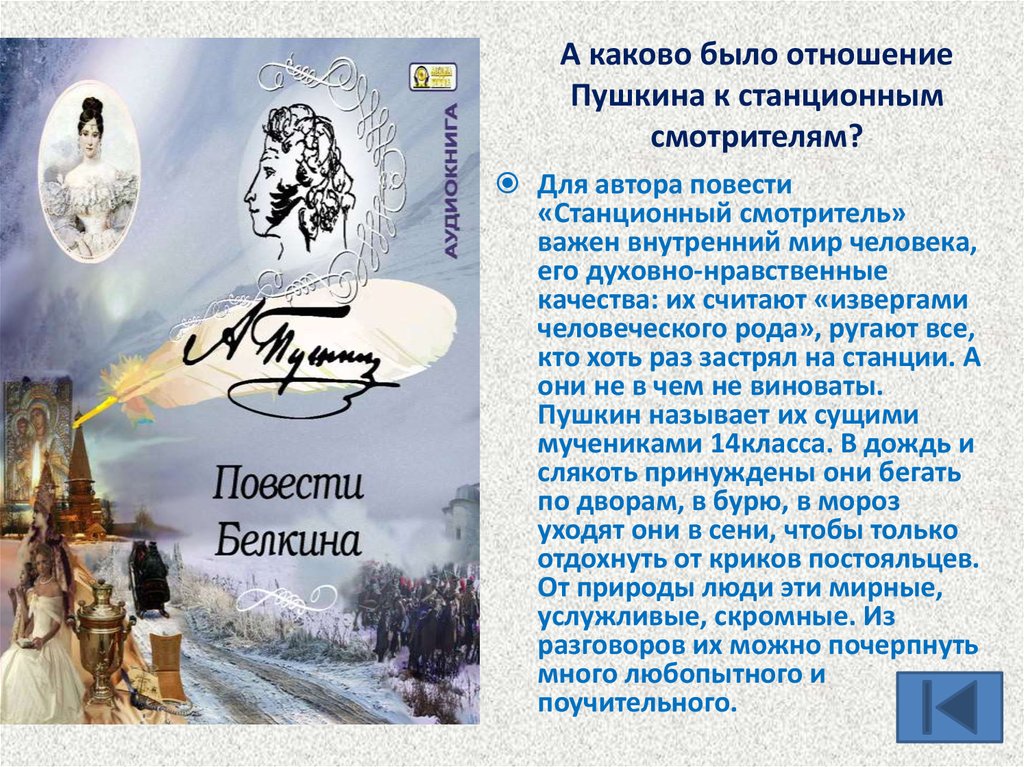
«Метель»
Марья Гавриловна, единственная дочь богатого помещика, была влюблена в бедного прапорщика Владимира. Родители девушки были против этого брака, и Владимир предложил своей возлюбленной тайно обвенчаться. Мария приехала в условленный час в церковь, но венчание не состоялось: из-за сильной метели Владимир добрался в церковь только утром. Девушка долгое время находилась в горячке, и родители, опасаясь за ее жизнь, согласились на её брак с Владимиром. Однако было поздно: молодой человек уехал на войну и вскоре погиб там.
«Гробовщик»
Адриан Порохов был старым опытным гробовщиком. Ему удалось скопить денег и переехать в новый домик. Соседи-немцы позвали его к себе в гости и во время застолья предложили выпить за своих клиентов – мертвецов. Порохов обиделся и вернулся домой, где ему приснилось, будто к нему на новоселье пришли все те, кому он делал гробы. Мертвецы предъявляли ему претензии по поводу качества его работы. В ужасе Порохов проснулся и не сразу понял, что всё это ему привиделось.
«Станционный смотритель»
У станционного смотрителя Самсона Вырина – добродушного и жизнерадостного старика – была красавица-дочь Дуня, которую он очень любил. Однажды на станции появился блестящий молодой офицер, который влюбился в Дуню и увёз её в Петербург. Убитый горем Вырин нашёл дом офицера и попросил вернуть Дуняшу, но тот выставил старика за дверь. Утратив смысл жизни, старик запил и вскоре скончался. Спустя несколько лет на станцию приехала Дуня с детьми, но уже не застала отца живым. Она отыскала его могилу и долго плакала над ней.
Убитый горем Вырин нашёл дом офицера и попросил вернуть Дуняшу, но тот выставил старика за дверь. Утратив смысл жизни, старик запил и вскоре скончался. Спустя несколько лет на станцию приехала Дуня с детьми, но уже не застала отца живым. Она отыскала его могилу и долго плакала над ней.«Барышня-крестьянка»
Два соседа-помещика – Муромский и Берестов – уже много лет не ладили друг с другом. Когда к Берестову приехал из Петербурга его красавец-сын Алексей, Лиза Муромская решила познакомиться с ним. Ради этого она переоделась крестьянкой и представилась ему Акулиной. Алексей так сильно полюбил Акулину, что даже был готов пойти против воли отца и жениться на ней. Лишь в последний миг невинный обман Лизы был раскрыт и счастливые влюбленные поженились на радость их отцам, которые к тому времени помирились.
Вывод и своё мнение
В своих произведениях автор раскрыл много проблем, среди которых любовь, нравственность, социальное неравенство. Но наиболее важной среди них стала проблема положения «маленького человека» в обществе. Интересно, что в повестях не встретишь резко положительных или резко отрицательных героев: каждый из них имеет свои достоинства и недостатки и оценивается исключительно по поступкам.
Интересно, что в повестях не встретишь резко положительных или резко отрицательных героев: каждый из них имеет свои достоинства и недостатки и оценивается исключительно по поступкам.
Главная мысль
Описание жизни разных сословий, от простого гробовщика до знатного графа, с их радостями и горестями, надеждами и разочарованиями.
Авторские афоризмы
«…Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу…»
«…Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты…»
«…В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы…»
Толкование непонятных слов
Трактир – устаревшее название гостиницы или постоялого двора с харчевней или рестораном.
Мундир – военная или гражданская форменная парадная верхняя одежда с золотым или серебряным шитьём.
Гусар – военный из частей легкой кавалерии.
Шандал – подсвечник.
Новые слова
Порок – нравственный, духовный недостаток, отрицательное моральное качество человека.
Сумасброд – тот, кто поступает безрассудно, не руководствуясь здравым смыслом.
Секундант – доверенное лицо участника дуэли, ведущее переговоры об условиях дуэли и наблюдающее за их выполнением.
Тест по повести
Доска почёта
Рейтинг читательского дневника
4.7
Средняя оценка: 4.7
Всего получено оценок: 611.
А какую оценку поставите вы?
Неизвестный Пушкин: «Повести Белкина» — это «Маленькие трагедии» со счастливым концом
Культура 3754
Поделиться
185 лет назад, 10 февраля 1837 года, великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в возрасте 37 лет скончался от ранения после дуэли. Полвека назад по чистому вдохновению я сочинил в Ленинграде и Комарово книгу о болдинском периоде в творчестве Пушкина, и кто-то из друзей посоветовал мне защитить ее как диссертацию, что и было сделано в 1972 году.
Полвека назад по чистому вдохновению я сочинил в Ленинграде и Комарово книгу о болдинском периоде в творчестве Пушкина, и кто-то из друзей посоветовал мне защитить ее как диссертацию, что и было сделано в 1972 году.
Когда в Комарово приехал Ося Бродский, с которым мы дружбанили, я затащил его в свою комнату и прочел кусок о «Моцарте и Сальери», который, как мне казалось, должен был быть ему, окруженному не только поклонниками, но и завистниками, близок. Бродский слушал внимательно, но отшутился в том смысле, что болдинские пьесы написаны Пушкиным на инерции белого стиха – не остановиться. Формула остроумная и неверная – не думаю, что Бродский так думал на самом деле. Вот фрагмент, дабы дать представление о моих тогдашних гипотезах.
Болдинское творчество Пушкина давно привлекает внимание читателей и исследователей, а ряд произведений, созданных «детородной осенью» 1830 года, кажутся до сих пор загадочными – и повести, опубликованные anonyme – за подписью мнимого Белкина, и даже называемые по сию пору неверно «маленькими трагедиями» четыре пьесы, и стихи, и повесть в октавах «Домик в Коломне».
На общем фоне позднего творчества «Повести Белкина» выглядят одиноко, случайно, как исключение, — пиром во время чумы: благостным, отрадным, счастливым островом в безбрежном океане страданий.
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.
Недаром Пушкин приписывает свои повести ирреальному, иллюзорному Белкину – секрет псевдонима в том, что сам Пушкин словно и не верит в водевильную возможность разрешения конфликта, в комедийно-благополучную защиту от судьбы. Впрочем, и в белкинские повести сквозь всеблагополучное, «беличье» мироощущение проглядывают реальные, общемировые мотивы, волнующие Пушкина, и дают намек на иной вариант судьбы, которого, однако, главным героям удается избежать. И дело не только в «третьих лицах», за счет которых строят свое счастье главные персонажи, хотя и это важно, потому что, как тонко подметил Наум Яковлевич Берковский, рядом со счастливыми судьбами в тех же «Повестях Белкина» показаны на заднем плане и неблагополучные: гибнет Сильвио, гибнет Владимир, умирает «станционный смотритель» Вырин, остается в девках дочь кузнеца Акулина.
В болдинской прозе Пушкина только видимость благополучия. Метель разлучила мнимых влюбленных и соединила настоящих; Сильвио стреляет не в человека, которому так долго и страстно мечтал отомстить, а в картину на стене; свидание Адриана Прохорова с мертвецами оказывается не явью, а сном, и дневное его сознание одерживает победу над ночным; трагическое предположение Вырина о судьбе дочери опровергается ее семейным благополучием, а вместе с этим предположением – и символические картинки с библейской легендой о блудном сыне; русские Ромео и Джульетта – Алексей и Лиза – остаются живыми, мирят семейства, и их любовь завершается браком. Еще один хеппи-энд!
Один из самых блистательных комментаторов пушкинских текстов В.С.Узин обнаруживает в «Повестях Белкина» угрозу гибели героям, проступающие контуры драматической коллизии, но нить драмы Пушкиным случайно оборвана.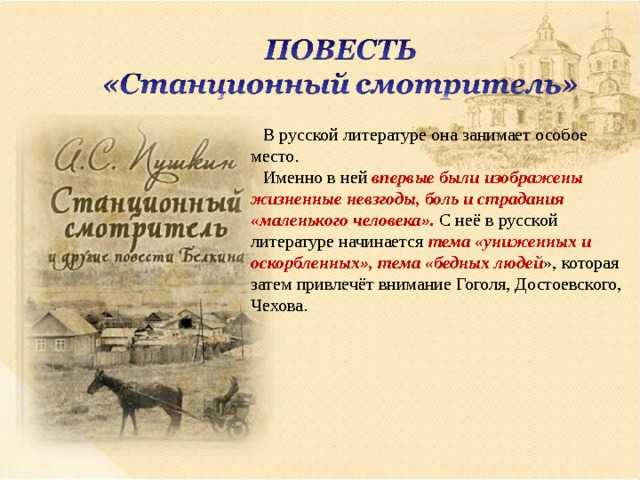 «Финальные аккорды их (повестей. – В.С.) не являются единственно возможными… предположительны и другие исходы… под внешним покровом изображенных в «Повестях Белкина» событий таятся роковые возможности».
«Финальные аккорды их (повестей. – В.С.) не являются единственно возможными… предположительны и другие исходы… под внешним покровом изображенных в «Повестях Белкина» событий таятся роковые возможности».
Здесь, естественно, встает вопрос – зачем понадобились Пушкину столь откровенно водевильные подтасовки трагических судеб? Ответ может быть только один. Ахматова считает «Повести Белкина» удивительным психологическим памятником – автор словно подсказывает судьбе, как спасти его, поясняя, что нет безвыходных положений, и пусть будет счастье, когда его не может быть, вот как у него самого, когда он надумал жениться на семнадцатилетней красавице, которая его не любит и едва ли полюбит. Или любовь – это улица с односторонним движением: один целует, другой подставляет щеку? Аристотель и вовсе считал, что быть любящим божественнее, чем быть любимым. Только что с того? Божественней не значит счастливее. В «Повестях Белкина» Пушкин словно бы гипнотизирует судьбу, заговаривает ее: я верую в счастье, и счастье будет.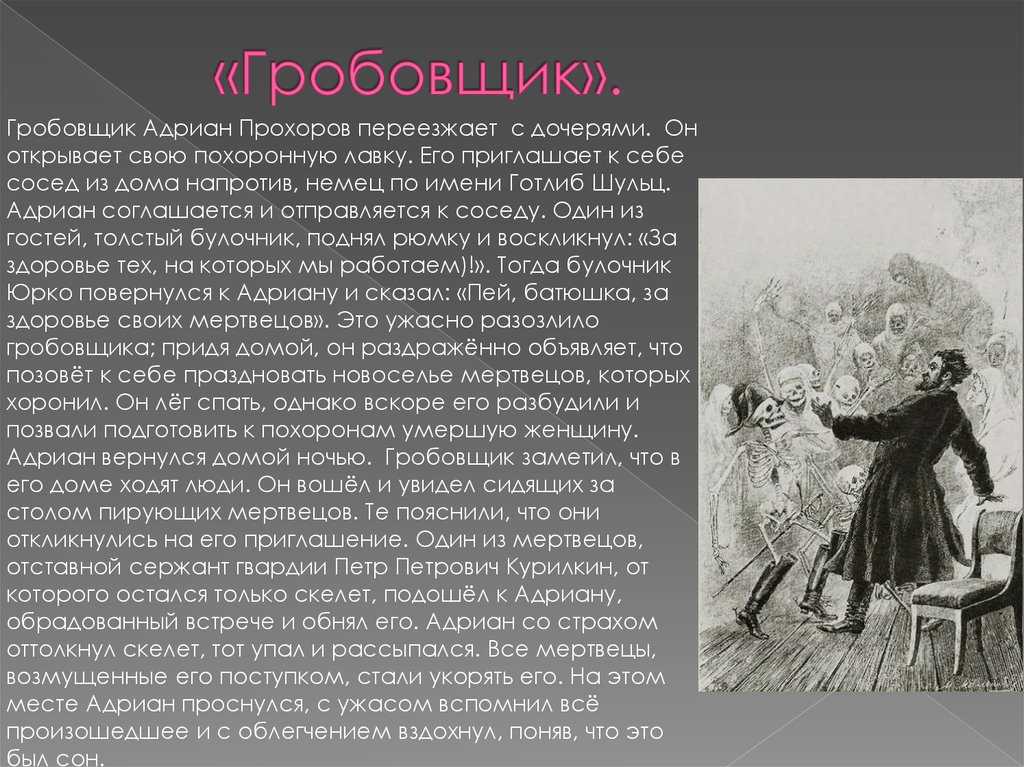
Еще раньше Узин также связывал благополучие «Повестей Белкина» с мучительным периодом жениховства Пушкина: «Тут действовала тайная надежда Пушкина, что он выйдет победителем из той метели, в которой закружилась его жизнь в 1830 году, и потому в этот многознаменательный период он то кидался смело в бой с судьбою, то предавался отчаянию, вызванному роковым несоответствием его нечеловеческих усилий добытым результатам».
Болдинское творчество Пушкина распадается на два параллельных ряда, и одновременно с благополучными судьбами в «Повестях Белкина» он дает их трагические варианты в своих пьесах. Пьесы и повести сюжетно совпадают настолько, что составляют четыре взаимные друг другу фабульные параллели.
И «Скупой рыцарь» и «Станционный смотритель», оба произведения – вариативное разветвление библейской притчи о блудном сыне. И Вырин и Барон пытаются навязать детям свое представление о жизни, кстати, выстраданное обоими. Замечателен эпиграф к «Станционному смотрителю» из Вяземского:
Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор.
Диктаторские наклонности Вырина подчеркнуты, хотя и шутливо. Дуня, как и Альбер, выступает против отцовской диктатуры и ускользает из-под нее, что не удается Альберу: он зависим от Барона до самой его смерти. Оба отца – и Барон, и Вырин – в борьбе с детьми погибают; оба исхода трагические, но в «Станционном смотрителе» сделан сюжетный и смысловой акцент на судьбе Дуни, которая завершается счастливо. Однако и вопрос о трагической судьбе Вырина не снят и из фона проступает на передний план – повесть кончается минорно: посещением могилы отца.
Вторая болдинская пьеса, «Моцарт и Сальери», своеобразно отражена в «Выстреле», чуть ли не полностью, до самой развязки совпадая сюжетно и проблематично. Мрачный, честолюбивый, властный Сильвио доводит беззаботного и счастливого от природы графа, как Сальери ненавидит «праздного» Моцарта. Конечно, совпадение здесь скользящее – сам граф напоминает скорее Гуана, чем Моцарта, своей беззаботной бесчувственностью к визиту Сильвио. «Выстрел» и «Моцарт и Сальери» аналогичны и одновременно противоположны. «Что пользы мне… лишить графа его жизни, когда он ею вовсе не дорожит?» — рассуждает Сильвио, а Сальери думает, казалось бы, иначе: «Что пользы, если Моцарт будет жив?». Оба, однако, замышляют убийство, оба – рационалисты, точка зрения пользы для них — главная. Однако «Выстрел» — оптимистическая параллель к «Моцарту и Сальери»: погибает Моцарт, отравленный Сальери, и остается живым беззаботный граф – погибает сам Сильвио в сражении под Скулянами, то есть уже вне сюжета повести.
«Что пользы мне… лишить графа его жизни, когда он ею вовсе не дорожит?» — рассуждает Сильвио, а Сальери думает, казалось бы, иначе: «Что пользы, если Моцарт будет жив?». Оба, однако, замышляют убийство, оба – рационалисты, точка зрения пользы для них — главная. Однако «Выстрел» — оптимистическая параллель к «Моцарту и Сальери»: погибает Моцарт, отравленный Сальери, и остается живым беззаботный граф – погибает сам Сильвио в сражении под Скулянами, то есть уже вне сюжета повести.
Кульминационный фабульный момент «Каменного гостя» — визит Статуи – пародийно отражен в посещении мертвыми клиентами гробовщика Адриана Прохорова («Гробовщик»). В обоих произведениях инициатива исходит от живых героев – и Гуан и Адриан приглашают в дом мертвецов. Еще одно совпадение – в антураже, который, однако, воспринимается не как место действия, а в качестве ударного, концептуального момента. Парадокс «Гробовщика» в том, что свое жизненное благополучие Адриан устраивает на кладбище и ставит в полную зависимость от смерти.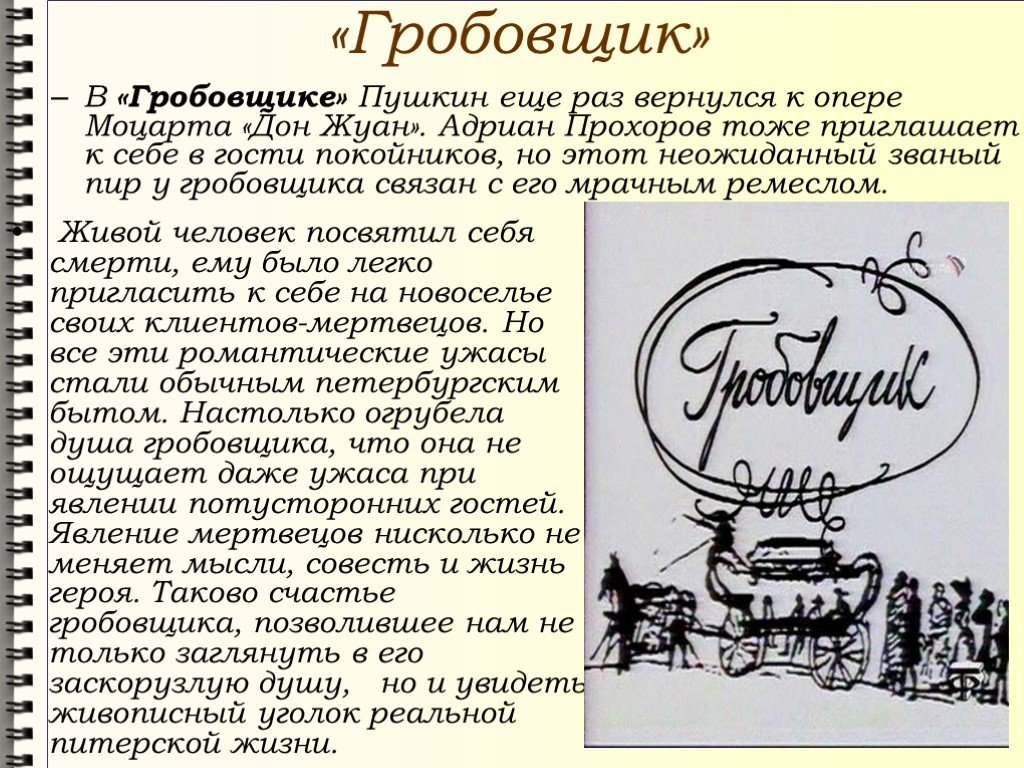 Трагизм «Каменного гостя» задан Пушкиным так же априори – легкость и счастье Гуана окружены, со всех сторон блокированы смертью: кладбищенский пейзаж, воспоминание Гуана о мертвой Инезе и Анны о покойном Альваре, вдовство Анны, статуя Командора, мысли о смерти Карлоса и его гибель – все это предостережения Гуану, которые постепенно становятся его предчувствиями. Оба – и Гуан, и Адриан – строят свое благополучие на зыбкой, чреватой сотрясениями сейсмической почве, оба игнорируют природные законы, оба приглашают к себе в гости мертвецов, оба бросают вызов судьбе. «Каменный гость» кончается, однако, трагически, и комедийно разрешается «Гробовщик».
Трагизм «Каменного гостя» задан Пушкиным так же априори – легкость и счастье Гуана окружены, со всех сторон блокированы смертью: кладбищенский пейзаж, воспоминание Гуана о мертвой Инезе и Анны о покойном Альваре, вдовство Анны, статуя Командора, мысли о смерти Карлоса и его гибель – все это предостережения Гуану, которые постепенно становятся его предчувствиями. Оба – и Гуан, и Адриан – строят свое благополучие на зыбкой, чреватой сотрясениями сейсмической почве, оба игнорируют природные законы, оба приглашают к себе в гости мертвецов, оба бросают вызов судьбе. «Каменный гость» кончается, однако, трагически, и комедийно разрешается «Гробовщик».
И, наконец, четвертый драматургический фрагмент Пушкина – «Пир во время чумы» — находит благополучное разрешение в «Метели». Вальсингам пытается забыть о погибшей жене, но такой возможности ему не дано, и напоминание Священника о Матильде возвращает его в трагический водоворот переживаний; Маша в «Метели» забывает о погибшем Владимире и выходит замуж вторично за гусарского полковника Бурмина – легко предположить, что в своем замужестве она будет счастлива.
Четыре трагические пьесы Пушкина комедийно и счастливо отражены в четырех повестях, как в кривых зеркалах. Есть еще одна повесть – «Барышня-крестьянка», которой как будто бы и нечему соответствовать. Правда, у этой повести имеется очевидный трагический прототип – «Ромео и Джульетта» Шекспира. Будем, однако, внимательнее.
Работа в Болдине над пьесами и повестями шла параллельно. Близкое хронологическое соседство маленьких повестей и маленьких трагедий обнаруживается и непосредственно в результатах – сюжетно, концептуально, философски. Зачем понадобился Пушкину весь этот, без сомнения, сознательный параллелизм – с двумя вариантами судеб: трагическим и благополучным? Пародия для Пушкина – перевертыш, литературный оборотень: в трагическом он выявляет веселье, ищет выход из безысходного. Неужели при такой четкости замысла он оставил «Барышню-крестьянку» без зеркального отражения?
Среди бумаг Пушкина сохранился листок, на одной стороне которого четыре варианта названия, год (1830) и рисунок — знамена, рыцарь в средневековых латах и проч.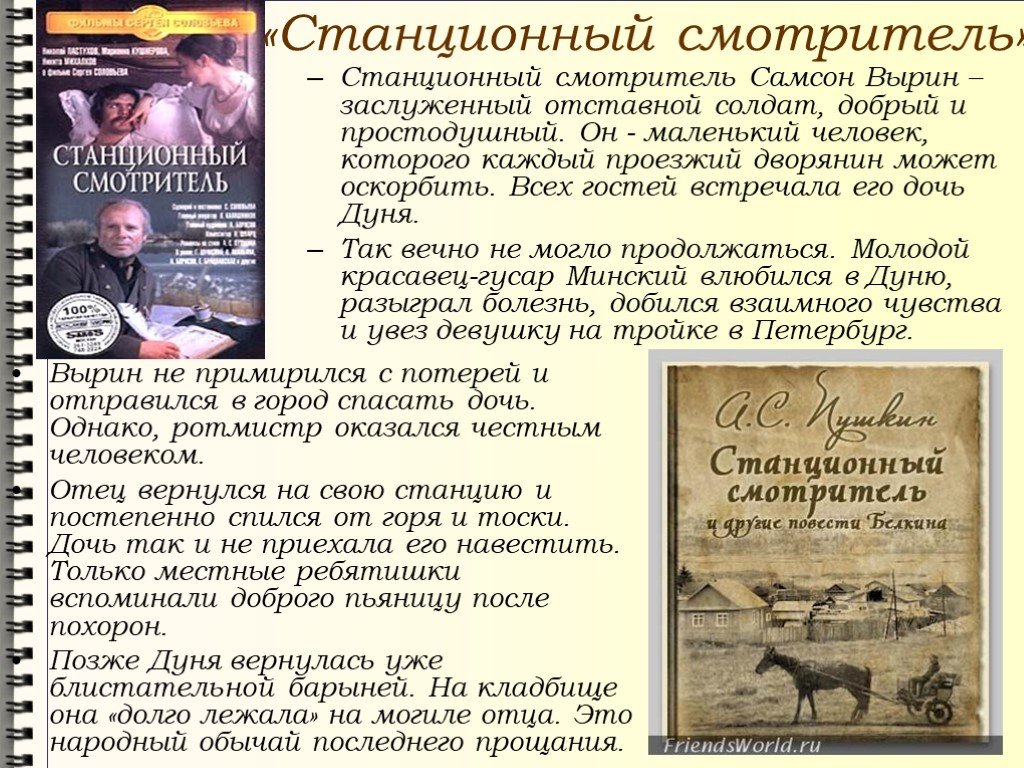 На другой стороне этого листка пять названий – по-видимому, список произведений, которые Пушкин предполагал издать отдельной книгой и между которыми видел прямую связь. В этом списке четыре болдинские пьесы – «Скупой», «Салиери», «Д.-Гуан» и «Plague», вполне отвечающие пушкинским проектам общего названия на лицевой стороне листка: «Драматические сцены», «Драматические очерки», «Драматические изучения», «Опыт драматических изучений». (А никак, кстати, не «Маленькие трагедии» – название неверное, хотя и закрепленное традицией; оно заимствовано из письма Пушкина Плетневу, где звучит как жанровое определение в контексте аналогичных понятий – повести, несколько драматических сцен, или маленькие трагедии, тридцать мелких стихотворений и т.д. – перечень того, что Пушкин написал болдинской осенью 1830 года.) Пятое произведение списка – «Октавы», то есть написанная в Болдине октавами повесть «Домик в Коломне». Почему комическая поэма должна была оказаться, по замыслу Пушкина, под одной обложкой с его трагическими пьесами – об этом я еще скажу.
На другой стороне этого листка пять названий – по-видимому, список произведений, которые Пушкин предполагал издать отдельной книгой и между которыми видел прямую связь. В этом списке четыре болдинские пьесы – «Скупой», «Салиери», «Д.-Гуан» и «Plague», вполне отвечающие пушкинским проектам общего названия на лицевой стороне листка: «Драматические сцены», «Драматические очерки», «Драматические изучения», «Опыт драматических изучений». (А никак, кстати, не «Маленькие трагедии» – название неверное, хотя и закрепленное традицией; оно заимствовано из письма Пушкина Плетневу, где звучит как жанровое определение в контексте аналогичных понятий – повести, несколько драматических сцен, или маленькие трагедии, тридцать мелких стихотворений и т.д. – перечень того, что Пушкин написал болдинской осенью 1830 года.) Пятое произведение списка – «Октавы», то есть написанная в Болдине октавами повесть «Домик в Коломне». Почему комическая поэма должна была оказаться, по замыслу Пушкина, под одной обложкой с его трагическими пьесами – об этом я еще скажу.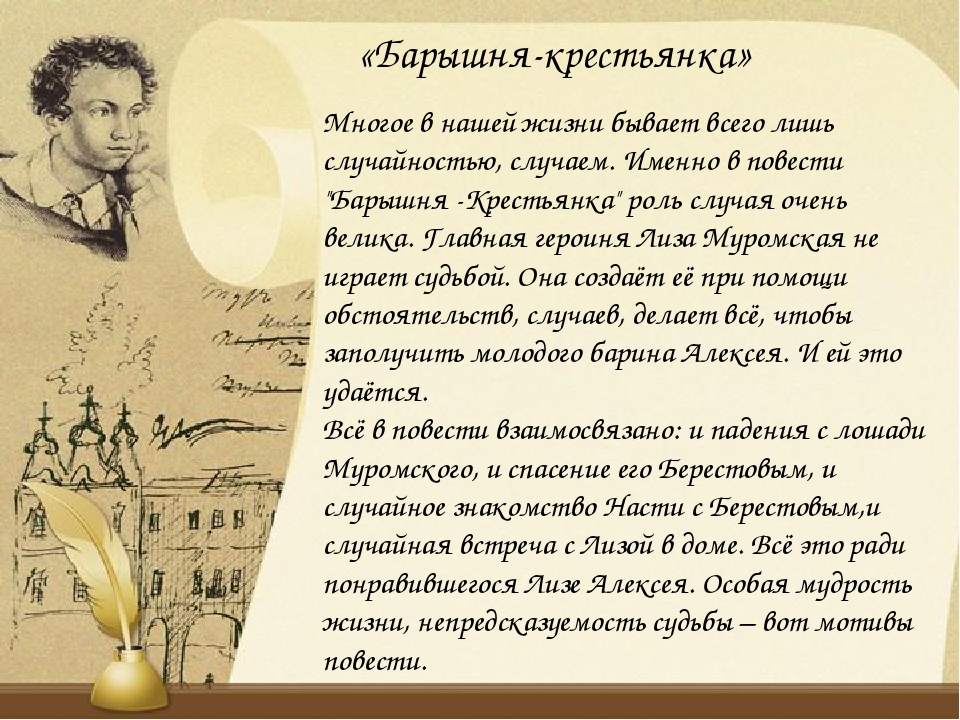 Сейчас важно другое: «Октавы» как раз и отражены в «Барышне-крестьянке», оба произведения составляют взаимно друг к другу сюжетную параллель. Причем интересно, что, несмотря на комизм «Домика в Коломне», он кончается все-таки неудачей героя (или героев, если принять версию М. Гершензона, по которой мнимая кухарка является любовником Параши): герой разоблачен и изгнан из дома. Подобное же переодевание предпринимается и Лизой, которая превращается в Акулину и влюбляет в себя Алексея. Барышня превращается в крестьянку, а черноусый гвардеец – в кухарку. Обе вещи кончаются одинаково – разоблачением, но разоблачение в повести приводит к свадьбе, а разоблачение в поэме – к разрыву между героями (если, повторяю, предположить между ними связь).
Сейчас важно другое: «Октавы» как раз и отражены в «Барышне-крестьянке», оба произведения составляют взаимно друг к другу сюжетную параллель. Причем интересно, что, несмотря на комизм «Домика в Коломне», он кончается все-таки неудачей героя (или героев, если принять версию М. Гершензона, по которой мнимая кухарка является любовником Параши): герой разоблачен и изгнан из дома. Подобное же переодевание предпринимается и Лизой, которая превращается в Акулину и влюбляет в себя Алексея. Барышня превращается в крестьянку, а черноусый гвардеец – в кухарку. Обе вещи кончаются одинаково – разоблачением, но разоблачение в повести приводит к свадьбе, а разоблачение в поэме – к разрыву между героями (если, повторяю, предположить между ними связь).
Итак, круг замкнулся, хотя остается еще неясной намеченная Пушкиным связь «Домика в Коломне» с его драматургическими произведениями – вряд ли можно считать, что Пушкин заключил свой список «Октавами» только для того, чтобы стала очевиднее пародийная связь между пятью его прозаическими и поэтическими произведениями.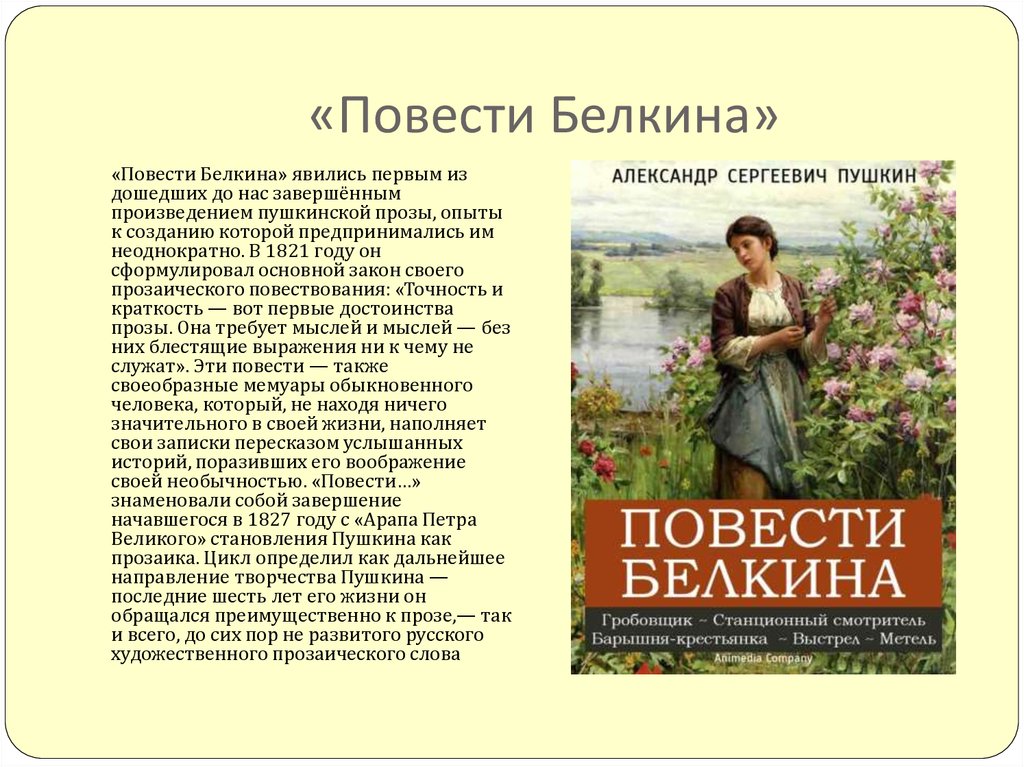
Предугадывая реакцию читателя на «Домик в Коломне», Пушкин заключает поэму двумя строфами, в которых дан полемический диалог с воображаемым читателем:
ХХХIХ
«Как! Разве все тут? Шутите!» — «Ей-богу», —
«Так вот куда октавы нас вели!
К чему ж такую подняли тревогу,
Скликали рать и с похвальбою шли?
Завидную ж вы избрали дорогу!
Ужель иных предметов не нашли?
Да нет ли хоть у вас нравоученья?»
«Нет… или есть: минуточку терпенья…
ХL
Вот вам мораль: по мненью моему,
Кухарку даром нанимать опасно;
Кто ж родился мужчиною, тому
Рядиться в юбку странно и напрасно:
Когда-нибудь придется же ему
Брить бороду себе, что несогласно
С природой дамской… Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего.
Вывод для читателя любой литературной эпохи, очевидно, недостаточный, но и все попытки выжать из поэмы большее, иное оказались безуспешными, если не считать смелое предположение русского фрейдиста профессора Ивана Ермакова, согласно которому «Домик в Коломне» следует расшифровывать, как домик колом мне, а лже-Мавруша означает самого Пушкина, который ведет свое происхождение от мавра. Но сама эта безрезультатность – следствие обособленного восприятия «Домика» или рассмотрения его поэмы в ряду все-таки чуждых ей произведений: так, Ходасевич объединил «Домик в Коломне» с «Медным всадником» и «Пиковой дамой» в единый цикл «петербургских повестей» и с помощью со слов Пушкина записанной Титом Костомаровым (Титовым) повести «Уединенный домик на Васильевском острове» придал всему сериалу (или, как сейчас говорят, «линейке») характер борьбы человека с потусторонними, дьявольскими силами. Но совсем иначе звучит и значит «Домик в Коломне» в единстве, продуманном и предначертанном самим Пушкиным. Соединив болдинские пьесы и болдинскую поэму в одну книгу, Пушкин дал ключ к разгадке всего цикла и заключительного нравоучения шутливых «Октав».
Но сама эта безрезультатность – следствие обособленного восприятия «Домика» или рассмотрения его поэмы в ряду все-таки чуждых ей произведений: так, Ходасевич объединил «Домик в Коломне» с «Медным всадником» и «Пиковой дамой» в единый цикл «петербургских повестей» и с помощью со слов Пушкина записанной Титом Костомаровым (Титовым) повести «Уединенный домик на Васильевском острове» придал всему сериалу (или, как сейчас говорят, «линейке») характер борьбы человека с потусторонними, дьявольскими силами. Но совсем иначе звучит и значит «Домик в Коломне» в единстве, продуманном и предначертанном самим Пушкиным. Соединив болдинские пьесы и болдинскую поэму в одну книгу, Пушкин дал ключ к разгадке всего цикла и заключительного нравоучения шутливых «Октав».
Ведь и все основные герои болдинских пьес поступают, как и незадачливый любовник Параши (примем на веру версию Гершензона), – «несогласно с природой». Сальери в споре с природой пытается убийством Моцарта перераспределить отпущенные ему и Моцарту дарования – его не устраивает естественная, кажущаяся ему несправедливой иерархия, и устранением Моцарта он надеется восстановить новую, соотнесенную с его ограниченными, чересчур земными и приземленными понятиями. Дон Гуан игнорирует не только нравственные установки своего времени, но и те тайные силы природы, по отношению к которым суеверие и безверие равно удалены от истины. И, наконец, Вальсингам в борьбе с отчаянием вырывает из своей души воспоминание – увы, безрезультатно, и природа мстит ему, открывая прежнюю рану и отнимая у него иллюзию забвения и все глубже погружая в мнемоническую пучину, ибо в природе человека помнить, а не забывать (если не считать склероза).
Дон Гуан игнорирует не только нравственные установки своего времени, но и те тайные силы природы, по отношению к которым суеверие и безверие равно удалены от истины. И, наконец, Вальсингам в борьбе с отчаянием вырывает из своей души воспоминание – увы, безрезультатно, и природа мстит ему, открывая прежнюю рану и отнимая у него иллюзию забвения и все глубже погружая в мнемоническую пучину, ибо в природе человека помнить, а не забывать (если не считать склероза).
Четыре отчаянных и безуспешных поединка с природой решены трагически, пятый – в «Домике в Коломне» — комически, пародийно, но с тем же минусовым в конце концов итогом: улан разоблачен в новой кухарке и вынужден постыдно спасаться бегством. Naturam furсa expellas, tamen usque reddit – как ни стараешься избавиться от природы, она всегда настаивает на своем. Применительно к «Октавам» — соответственно сниженный аналог этого афоризма: гони природу в дверь, она влетит в окно.
Собственно, пародиями Пушкин окружал самые сокровенные, интимные и заветные свои произведения. Вспомним хотя бы о его непристойных стихах на картинки к «Евгению Онегину» в «Невском альманахе». «Домик в Коломне» — шутливое резюме и одновременно ключ к болдинским пьесам. Сама по себе, вне контекста задуманной Пушкиным книги, поэма действительно может показаться эстетическим пустячком, формальным экзерсисом, недоступным широкому кругу читателей и понятным только поэтам, — так писал о «Домике в Коломне» Валерий Брюсов.
Вспомним хотя бы о его непристойных стихах на картинки к «Евгению Онегину» в «Невском альманахе». «Домик в Коломне» — шутливое резюме и одновременно ключ к болдинским пьесам. Сама по себе, вне контекста задуманной Пушкиным книги, поэма действительно может показаться эстетическим пустячком, формальным экзерсисом, недоступным широкому кругу читателей и понятным только поэтам, — так писал о «Домике в Коломне» Валерий Брюсов.
Забота Пушкина о будущих читателях неизмеримо больше, чем внимание этих читателей к Пушкину. Объединяя болдинские пьесы с «Домиком в Коломне», Пушкин недвусмысленно подчеркнул их семантическую связь – иначе это объединение нелепо. Тем не менее оно осталось незамеченным.
Подписаться
Авторы:
- org/Person»> Владимир Соловьев
Матильда Кшесинская
Опубликован в газете «Московский комсомолец» №5 от 4 февраля 2022
Заголовок в газете: Параллели
- 26 дек
Иркутские электросети трещат по швам: как спасти положение в области
- 6 дек
Электромобили по-сибирски: как развивается экотранспорт у берегов Байкала
- 23 ноября
Иркутские рекорды: Юлия Меньшова за одну встречу с поклонниками раздала почти полтысячи автографов
Что еще почитать
Российские танки Т-80 БВ прибыли на Запорожское направление
18177
Олег Цыганов
Российские военные предотвращают прорыв украинских сил в районе Торского в ДНР
20163
Олег Цыганов
Члены крупнейшего мексиканского наркокартеля выложили видео с Красной площади
18234
Александр Шляпников
Коронавирус MERS в нескольких шагах от пандемии: ученые забили тревогу
11912
Екатерина Пичугина
России поставлен тревожный диагноз: мобилизационную экономику создать не получится
25996
Дмитрий Попов
Что почитать:Ещё материалы
В регионах
Всего один симптом: инфекционист рассказал, как отличить свиной грипп от обычного
42613
ТомскМария Домрачева
Ярославль планируют украсить неудобным остановочным комплексом
Фото 20622
ЯрославльМногие люди неправильно чистят киви: вот как исправить частую ошибку
9702
КалмыкияМожно ли есть шоколад, покрывшийся белым налетом: однозначный ответ
8632
КалмыкияНе нужно варить и запекать: как приготовить морковь для салатов за 5 минут
5655
Калмыкия21 декабря – день зимнего солнцестояния: что категорически запрещено делать в это время
Фото 4746
Псков
В регионах:Ещё материалы
Belkin Tales.
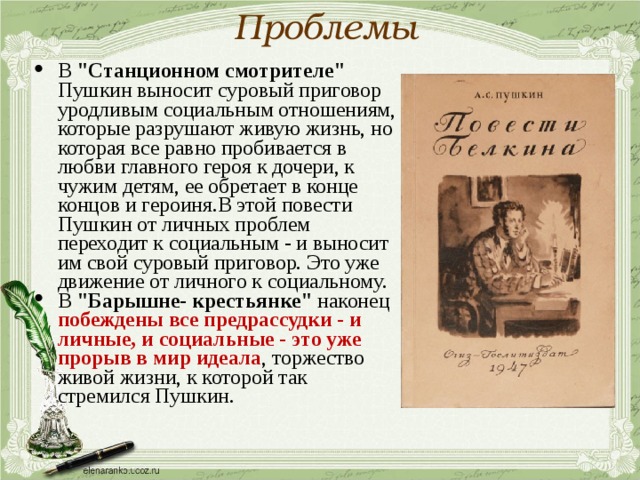 .. Что происходит с этими рассказчиками? : Русская литература
.. Что происходит с этими рассказчиками? : Русская литератураМежду авторами и рассказчиками в русской литературе XIX века
«Кто написал книгу?» Я с гордостью могу сказать, что на этот вопрос я всегда правильно отвечал на каждом экзамене по литературе, который когда-либо сдавал. Это мой любимый вопрос, потому что это самый простой вопрос; ответ на обложке! Читая русскую литературу девятнадцатого века, можно найти много высоко ценимых ответов на этот излюбленный вопрос: Тургенева, Толстого, Пушкина и многих других. Однако, когда мы отводим взгляд от имени на обложке и, наконец, заглядываем в книгу, мы обнаруживаем, что горстка этих авторов приложила огромные усилия, чтобы убедить нас в том, что мы ответили на самый простой вопрос неправильно. .
« Бедная Лиза » Карамзина — это история, пересказанная нам через слои повествования; по-видимому, сначала Эраст через рыдающие слезы рассказчику, а затем переданный нам в какой-то момент позже. Пушкинские «Сказки Белкина » написаны с той же целью обмана. Автор сразу уверяет, что не имя на обложке написало эти сказки, а Иван Петрович Белкин, который сам слышал их от целого ряда людей, которых он встречал в своих путешествиях. Пушкин и Карамзин создают то, что можно назвать матрешкой, по способу построения своих рассказов. Среди пластов повествования они берут самую маленькую и незаметную куклу и называют ее «себя», автором.
Автор сразу уверяет, что не имя на обложке написало эти сказки, а Иван Петрович Белкин, который сам слышал их от целого ряда людей, которых он встречал в своих путешествиях. Пушкин и Карамзин создают то, что можно назвать матрешкой, по способу построения своих рассказов. Среди пластов повествования они берут самую маленькую и незаметную куклу и называют ее «себя», автором.
Это совпадение между автором и рассказчиком (как показано в Бедная Лиза и Рассказы Белкина ) , , возможно, является наиболее определяющим аспектом рассказов и романов, которые мы прочитали в течение этого семестра. Он появлялся в той или иной степени почти во всех наших историях. Это эссе, посвященное эффекту совпадения рассказчика и автора в том виде, в каком оно проявляется, пожалуй, в наиболее успешной и влиятельной форме — в « сказках Белкина» Пушкина 9.0008 . Изучение того, что это значит, когда мы получаем историю через повествование из вторых рук.
Место, чтобы начать с этой идеей спросить, что означает совпадение в первую очередь для автора? Почему автор может так структурировать рассказ? Наиболее заметно кажется, что двусмысленность может сделать историю более убедительной. Сомнительно надежный рассказчик вносит в историю много двусмысленности. Авторы, в глубине души являющиеся коварными нарциссами и манипулятивными эмпатами, постоянно ищут способы сделать себя и, следовательно, свою литературу лучше. например в Belkin Tales и особенно в The Blizzard эта двусмысленность используется для создания неотразимого комедийного эффекта. Идея о молодом русском франкофиле, рассказывающем самую нелепую историю любви, от которой страдают даже лучшие сандлеровские мастера, с самым фантастическим финалом всех времен и якобы много путешествующим Иваном Петровичем, живущим «самой скромной жизнью», воспринимая это как Божья правда, бесспорно смешно. Вся комедия бита почти исключительно создается только подтекстом пушкинских рассказчиков. Двусмысленность между автором и рассказчиками (в данном случае) комически неотразима.
Сомнительно надежный рассказчик вносит в историю много двусмысленности. Авторы, в глубине души являющиеся коварными нарциссами и манипулятивными эмпатами, постоянно ищут способы сделать себя и, следовательно, свою литературу лучше. например в Belkin Tales и особенно в The Blizzard эта двусмысленность используется для создания неотразимого комедийного эффекта. Идея о молодом русском франкофиле, рассказывающем самую нелепую историю любви, от которой страдают даже лучшие сандлеровские мастера, с самым фантастическим финалом всех времен и якобы много путешествующим Иваном Петровичем, живущим «самой скромной жизнью», воспринимая это как Божья правда, бесспорно смешно. Вся комедия бита почти исключительно создается только подтекстом пушкинских рассказчиков. Двусмысленность между автором и рассказчиками (в данном случае) комически неотразима.
В родственном смысле эта двусмысленность также обеспечивает некоторую защиту от цензуры. Столкнувшись с оппозицией культурного авторитета, автор, позаботившийся отдалиться на много шагов от повествования, всегда может отвернуться от себя и сказать: «мнения и убеждения, представленные в тексте, не обязательно отражают взгляды автора. ” Для русских девятнадцатого века это врожденное защитное качество многослойного повествования и минимизации автора должно было быть одним из их самых полезных инструментов. Для такого автора, как Пушкин, который иногда ссорился с русским царем, или для таких авторов, как Чехов или Тургенев, которые, казалось, хотели продвигать через свою литературу более радикальные и контркультурные идеи, согласие автора и рассказчика было бесценным в отсрочке. И действительно, маленькая трилогия Чехова, тургеневская «Записки спортсменов», и «» Пушкина «Сказки Белкина » — все они построены с учетом повествовательных слоев.
” Для русских девятнадцатого века это врожденное защитное качество многослойного повествования и минимизации автора должно было быть одним из их самых полезных инструментов. Для такого автора, как Пушкин, который иногда ссорился с русским царем, или для таких авторов, как Чехов или Тургенев, которые, казалось, хотели продвигать через свою литературу более радикальные и контркультурные идеи, согласие автора и рассказчика было бесценным в отсрочке. И действительно, маленькая трилогия Чехова, тургеневская «Записки спортсменов», и «» Пушкина «Сказки Белкина » — все они построены с учетом повествовательных слоев.
Преимущества двусмысленности повествования из вторых и третьих рук заключаются как в том, что его часто приятно читать, так и в том, что оно существует как буфер между идеями текста и автора. Хотя никто не может в совершенстве видеть мыслительный процесс автора, пишущего текст, представляется вероятным, что для многих авторов русской литературы эти два преимущества определяли их структурные решения, особенно потому, что культура, в которой они писали, была культурой, контролируемой литературной цензурой. .
.
Как упоминалось ранее, пушкинские «Сказки Белкина » являются ярким примером совпадения рассказчика и автора. Если не присматриваться слишком внимательно, защитный отпечаток литературной цензуры очевиден. Усилия Пушкина в основном направлены на то, чтобы сделать Ивана Петровича как можно более правдоподобным для читателя, минимизировав при этом собственную роль автора. В разделе «От редакции» Пушкин решает обе эти задачи одним махом. Он сразу же дает зрителю описание внешности Белкина и многочисленные биографические подробности персонажа в виде письма его очевидного знакомого, опубликованного «без каких-либо изменений и комментариев». Пушкин даже подписывает письмо правдоподобной датой «16 ноября 1830 года», как будто оно действительно имело целью характеристику живого, ныне покойного человека. Это отношение к Ивану Петровичу Белкину как к реальному человеку, который (что важно) написал следующие рассказы, есть начало пушкинского самоумаления. Процесс завершается всего двумя буквами «А.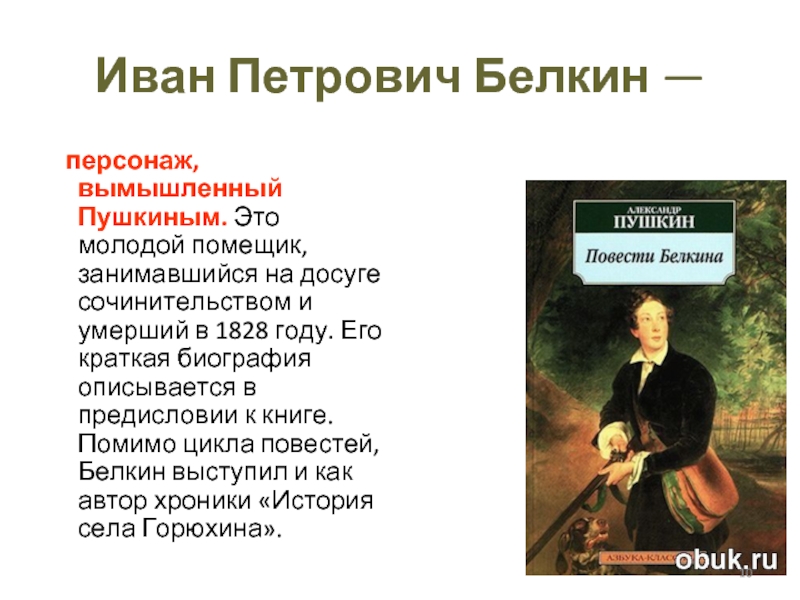 П», подписанными внизу введения. Интересно, что вместо того, чтобы полностью исключить себя из текста, Пушкин решает по-особому определить свою роль. Пушкин не может быть автором книги (несмотря на то, что написано на обложке), потому что Пушкин является редактором книги. Эти вещи вместе, Белкин как автор и Пушкин как редактор, устанавливают совпадение рассказчика и автора в тексте.
П», подписанными внизу введения. Интересно, что вместо того, чтобы полностью исключить себя из текста, Пушкин решает по-особому определить свою роль. Пушкин не может быть автором книги (несмотря на то, что написано на обложке), потому что Пушкин является редактором книги. Эти вещи вместе, Белкин как автор и Пушкин как редактор, устанавливают совпадение рассказчика и автора в тексте.
Как я уже упоминал, кукольные слои повествования идут на шаг глубже, чем просто Белкин и А.П. Эти сказки представлены не только как сказки Белкина, а как сказки, которые Белкин адаптировал от разных людей. Состав этих людей важен на этом этапе; нам дают и любопытного студента, и титулярного советника, и подполковника, и приказчика, и мисс К.И.Т. (какую-то девчонку), а также самого Белкина, который как бы намеренно пустой, как открытая книга. Среди этой группы мы видим довольно разнообразный спектр слоев общества, некоторые из которых, безусловно, были бы необычными, а некоторые потенциально даже неудобными для российской читающей публики того времени. Включая этот круг рассказчиков, Пушкин вносит в текст демократический эффект и мотив. Слои повествования позволяют Пушкину исследовать истории тех, о ком не обязательно слышно в широком национальном дискурсе. И, конечно, сделано это таким образом, чтобы вернуться к присущей структуре защите от цензуры; Пушкину не нужно подтверждать мнение своих рассказчиков, потому что он может излагать их по своему усмотрению, а затем перенаправлять любую потенциальную цензуру, ссылаясь на то, что «мнения и убеждения, представленные в тексте, не обязательно отражают мнение автора». Кажется мощным политическим заявлением, что Пушкин смог начать включать голоса более простых людей в выдающуюся интеллектуальную/литературную мысль своего времени, и опять-таки почти исключительно благодаря тому, что связал многих рассказчиков вместе в одном тексте. Этот ход, по-видимому, повторили многие авторы, прямо ссылающиеся на Пушкина, особенно на Гоголя.0007 Шинель и маленькая чеховская трилогия.
Включая этот круг рассказчиков, Пушкин вносит в текст демократический эффект и мотив. Слои повествования позволяют Пушкину исследовать истории тех, о ком не обязательно слышно в широком национальном дискурсе. И, конечно, сделано это таким образом, чтобы вернуться к присущей структуре защите от цензуры; Пушкину не нужно подтверждать мнение своих рассказчиков, потому что он может излагать их по своему усмотрению, а затем перенаправлять любую потенциальную цензуру, ссылаясь на то, что «мнения и убеждения, представленные в тексте, не обязательно отражают мнение автора». Кажется мощным политическим заявлением, что Пушкин смог начать включать голоса более простых людей в выдающуюся интеллектуальную/литературную мысль своего времени, и опять-таки почти исключительно благодаря тому, что связал многих рассказчиков вместе в одном тексте. Этот ход, по-видимому, повторили многие авторы, прямо ссылающиеся на Пушкина, особенно на Гоголя.0007 Шинель и маленькая чеховская трилогия.
Взаимодействия и эффекты, происходящие между авторами и рассказчиками в русской литературе XIX века, многообразны. Благодаря этой литературной структуре эти авторы смогли избежать культурной цензуры своего времени, чтобы (во многих случаях) создавать широкие и важные политические сообщения. Все это время пишет иногда непостижимо сложные и убедительные повествования, которые продолжают удерживать нас (по крайней мере меня и вас) столетия спустя. Во многих отношениях, в том числе и в том, что упоминается в этом очерке, совпадение автора и рассказчика в одном тексте было одним из факторов, способствовавших мощному повествованию, пришедшему из России в девятнадцатом веке.
Благодаря этой литературной структуре эти авторы смогли избежать культурной цензуры своего времени, чтобы (во многих случаях) создавать широкие и важные политические сообщения. Все это время пишет иногда непостижимо сложные и убедительные повествования, которые продолжают удерживать нас (по крайней мере меня и вас) столетия спустя. Во многих отношениях, в том числе и в том, что упоминается в этом очерке, совпадение автора и рассказчика в одном тексте было одним из факторов, способствовавших мощному повествованию, пришедшему из России в девятнадцатом веке.
Купить онлайн-книгу Belkin’s Stories Book по низким ценам в Индии
Мягкая обложка Александр Пушкин
Распроданный
Первоначальная цена рупий 399.00
Первоначальная цена
рупий 399,00
—
Первоначальная цена
рупий 399. 00
00
Первоначальная цена рупий 399.00
Текущая цена рупий 319,20
рупий. 319,20 — рупий 319.20
Текущая цена рупий 319.20
| /
Доставка в течение 1–3 рабочих дней.
🎁 Предложения и скидки🎁 Получите кэшбэк до 75/- при покупке на сумму от 299/- через кошелек Mobikwik*
🎁 Получите 5% кэшбэк до 500 ₹ на Simpl
🎁 Получите до 100 рупий кэшбэк через Lazypay
🎁 50% кэшбэк до рупий. 40 на Airtel
🎁 Получите до рупий. 25 Кэшбэк на кошелек AmazonPay
🎁 Используйте код купона WELCOME , чтобы получить скидку на первый заказ
🎁 Заработайте рупий. 100 по рекомендации друзей
📚 Просмотр таблицы состояния книг Новый: Это новые книги, приобретенные у издателей и авторов.
