Гомер «Одиссея»
После героической и торжественной, возвышенной «Илиады» вторая поэма Гомера воспринимается с некоторым трудом, так, словно медаль повернули обратной стороной. Как известно, «Одиссея» сюжетно может быть разделена на три части: путешествие Телемаха, рассказы Одиссея у царя феакийцев Алкиноя, месть Одиссея женихам. Из этих трех частей только вторая представляет особый интерес в беллетристическом смысле для современного среднего читателя. Действительно, многим еще с детства запоминаются приключения Одиссея в пещере циклопа, остров сладкоголосых сирен, чудовищные Харибда и Сцилла. Приятно читать про мифических лотофагов и лестригонов, быков Гелиоса и т.д. Одним из лучших эпизодов поэмы является также разговор Одиссея с душами у врат Аида. Но эти фантастические перипетии занимают в поэме не так уж много места. И путешествие Телемаха к Менелаю не представляет, на мой взгляд, какого-то особого интереса, это как бы вспомогательная линия действия. Именно месть Одиссея является лейтмотивом всей поэмы.
 При этом, правда, нельзя сказать, что сам Гомер полностью одобряет одиссеевы зверства. Однако, не изменяя себе, он живописует весьма красочно (само собой разумеется) повешенье рабынь Телемахом:
При этом, правда, нельзя сказать, что сам Гомер полностью одобряет одиссеевы зверства. Однако, не изменяя себе, он живописует весьма красочно (само собой разумеется) повешенье рабынь Телемахом:
«Там, как дрозды длиннокрылые или как голуби, в сети
Целою стаей — летя на ночлег свой — попавшие (в тесных
Петлях трепещут они, и ночлег им становится гробом),
Все на канате они голова с головою повисли;
Петлями шею стянули у каждой; и смерть их постигла
Скоро: немного подергав ногами, все разом утихли».
Сравнение повешенных с пойманными голубями – есть в этом что-то варварски наивное. И то сказать, Телемах – «добродетельный» и «благородный» юноша, едва перешедший за двадцатилетний рубеж и нигде пока не воевавший, занимается этим палачеством, да еще массовым убийством безоружных, в основном, людей. Такая вот мужская инициация… Постоянная и неотступная внутренняя этическая оценка героев во время чтения мешает, пожалуй, восприятию Гомера как выдающегося художника слова.
 Вся вина несчастных служанок-рабынь заключается в том, что они совершили «развратные действия» со свободными мужчинами. Казалось бы, кому от этого вред? Но по меркам Одиссея они совершили гнусное предательство (царя, рода). Надо признать, что за последние три тысячи лет человечество (по крайней мере, какая-то его часть) значительно продвинулось по пути социального самосознания и толерантности (а равно и по пути зверств). Впрочем, критика Гомера с религиозно-этических позиций началась, согласно А.Ф. Лосеву, уже с VI в. до н. э.
Вся вина несчастных служанок-рабынь заключается в том, что они совершили «развратные действия» со свободными мужчинами. Казалось бы, кому от этого вред? Но по меркам Одиссея они совершили гнусное предательство (царя, рода). Надо признать, что за последние три тысячи лет человечество (по крайней мере, какая-то его часть) значительно продвинулось по пути социального самосознания и толерантности (а равно и по пути зверств). Впрочем, критика Гомера с религиозно-этических позиций началась, согласно А.Ф. Лосеву, уже с VI в. до н. э.
Я бы сказал, что «быт» в «Одиссее» явно превалирует над героикой, мифологией и откровенной фантастикой. Это кладезь древней европейской этнографии, истории общественно-политических отношений (независимо от перевода). Не зря на эту тему написаны десятки объемистых томов. «Илиада» наполнена деяниями, «Одиссея» — делами и делишками; эпос приобретает черты поэзии. Если «Илиаду» приятно и, может быть, даже предпочтительно не читать, а слушать, то «Одиссею», по большей части, хочется неспешно перелистывать, углубляясь в комментарии. Тогда-то и можно не столько осознать и сформулировать (что не просто), сколько прочувствовать связь между эпохой Одиссея и днем сегодняшним. Все мы находимся на одной и той же «реке времени»; связь эту олицетворяет, в том числе, и гомеровский эпос. Ведь в самой поэтической манере Гомера самобытно переплетаются эмоциональная вовлеченность в повествование, характерная для очевидца событий, и рефлексия, свойственная уже как бы автору исторического романа, оценивающего эти события в перспективе. Что же касается рефлексии читателя, то, несомненно, «Одиссея», как и «Илиада» — мощнейший её источник.
Тогда-то и можно не столько осознать и сформулировать (что не просто), сколько прочувствовать связь между эпохой Одиссея и днем сегодняшним. Все мы находимся на одной и той же «реке времени»; связь эту олицетворяет, в том числе, и гомеровский эпос. Ведь в самой поэтической манере Гомера самобытно переплетаются эмоциональная вовлеченность в повествование, характерная для очевидца событий, и рефлексия, свойственная уже как бы автору исторического романа, оценивающего эти события в перспективе. Что же касается рефлексии читателя, то, несомненно, «Одиссея», как и «Илиада» — мощнейший её источник.
Приключения Одиссея | История Древнего мира. Реферат, доклад, сообщение, кратко, презентация, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест
В поэме Гомера «Одиссея» рассказывается об удивительных приключениях Одиссея во время его возвращения из Трои на родной остров Итаку. Долгих 10 лет скитался Одиссей, много опасностей выпало на его долю, но из всех положений хитроумный и многоопытный Одиссей выходил победителем. Однажды, заблудившись в морских просторах, попал он на остров одноглазых великанов — циклопов. Свирепый циклоп
Однажды, заблудившись в морских просторах, попал он на остров одноглазых великанов — циклопов. Свирепый циклоп
Но хитроумный Одиссей нашёл выход. Когда людоед уснул, греки заострили на огне большое бревно и выкололи им глаз великану. Покидая остров циклопов, Одиссей прокричал Полифему:
— Знай же, циклоп, что тебя ослепил Одиссей, знаменитый властитель Итаки!
Узнав, кто его враг, циклоп обратился к Посейдону с просьбой наказать отважного мореплавателя. С тех пор бог морей невзлюбил Одиссея. Волны и ветры влекли его корабль прочь от родной Итаки, к побережьям, где обитали коварные волшебницы и страшные чудовища.
Одиссей и сирены. Рисунок на древнегреческой вазе Рисунок на древнегреческой вазе |
Однажды корабль Одиссея оказался возле острова сирен, полуженщин-полуптиц. Волшебным пением они зачаровывали мореплавателей. Никто был не в силах сопротивляться их пению, и корабли гибли на скалах. Только Одиссею удалось послушать пение сирен и остаться в живых. Он приказал привязать себя к мачте крепким канатом, а всем своим спутникам, гребцам и матросам, — залепить уши воском. Материал с сайта http://doklad-referat.ru
После долгих скитаний Одиссей вернулся на Итаку и явился в родной дом под видом нищего. Многие годы Одиссея ждала его жена Пенелопа. Но знатные ахейцы на Итаке считали своего басилея погибшим. Они требовали, чтобы Пенелопа выбрала себе из них мужа, который бы стал новым басилеем. Однако Одиссей вернулся вовремя. Поэма заканчивается рассказом о том, как с помощью богини Афины он истребил всех женихов, добивавшихся руки Пенелопы и власти на Итаке.
Гомер называет Одиссея хитроумным и многоопытным. Докажите, что он показан именно таким.
Доклад про Одиссея сообщение по истории 5 класс кратко
Одиссей — главный герой поэмы Гомера «Одиссея». Он был царем острова Итаки и участником Троянской войны, где и прославился. Так каким героем был Одиссей?
Несколько веков древнегреческие мифы рассказывают о том, что творилось в те времена. Так как в этих историях была доля правда, ученым было проще восстановить исторические события. Одними из самых известных записей, дошедших до наших дней, стали поэмы поэта Гомера.
Одиссей был очень умным и хитрым героем, способным выходить победителем из любой ситуации. Отцом Одиссея был царь Лаэрт, а матерью Антиклея — верная спутница Артемиды.
Однажды, Одиссей прибыл в Спарту, чтобы побороться за руку и сердце Елены Прекрасной. Женихов было там много, но отец боялся, что выбрав одного, он разозлит остальных. Тогда Одиссей предложил Елене выбирать самой, а женихов обязать клятвой, что никаких претензий к ее выбору иметь не будут. Девушка выбрала своего суженого. А Одиссею приглянулась больше другая девушка — Пенелопа. Ее отец пообещал, что выдаст дочь замуж за того, кто быстрее всех доберется до финиша в забеге.
Одиссей одержал победу, но отец девушки хотел нарушить обещание и стал уговаривать Пенелопу остаться дома. Тогда Одиссей снова предложил, чтобы девушка сделала выбор сама. И она выбрала его, несмотря на то, что отец был против. После свадьбы пара отправилась на остров Итаку.
Вскоре женихи Елены Прекрасной не сдержали обещания и выкрали ее. Начиналась Троянская война. Провидец сказал Одиссею, что если тот решит отправиться на войну, то вернется только через 20 лет одиноким и нищим. Ему не хотелось бросать молодую жену и сына Телемаха.
Когда они прибыли в Трою, поступило новое предсказание, которое гласило, что первый кто сойдет с корабля на землю — умрет. Никто не решался обречь себя на верную гибель, поэтому первым решился пойти Одиссей, а за ним остальные. Но он пошел на хитрость и спрыгнул с корабля на свой щит, а на землю наступил совсем другой человек. Герой уверенно шел к победе и именно он подал идею людям с Троянским конем, чтобы попасть за ворота города.
После победы Одиссей вернулся в Итаку. Затем он отбил свою жену от женихов, а позже оказался в изгнании по воле Посейдона. Гомер недостаточно точно описал чем же закончилась история Одиссея. Одни источники утверждают, что он погиб во время своего изгнания, а другие говорят, что Одиссея превратили в коня и так он и провел остаток своих дней.
Вариант 2
Мифы Древней Греции повествуют о богах и героях, их походах, подвигах и правлениях. Всем там правил бог грома Зевс, и его жена Гера. В подводном царстве главным был Посейдон, ну а Аид забрал себе подземное царство мертвых. Ад, если говорить понятнее. Зевс, Посейдон и Аид – три брата, равноправно правящие всей Грецией. Вообще богов много, как и героев. Например, Геракл и его 12 подвигов (на самом деле не только этим он прославился), Персей и голова Горгоны, Тесей и битва с Минотавром в лабиринте. Одним из представителей героев является Одиссей.
В подводном царстве главным был Посейдон, ну а Аид забрал себе подземное царство мертвых. Ад, если говорить понятнее. Зевс, Посейдон и Аид – три брата, равноправно правящие всей Грецией. Вообще богов много, как и героев. Например, Геракл и его 12 подвигов (на самом деле не только этим он прославился), Персей и голова Горгоны, Тесей и битва с Минотавром в лабиринте. Одним из представителей героев является Одиссей.
Кто он такой и как начал свой путь?
Одиссей был сыном Лаэрта. Являлся царем Итаки и очень умным человеком. Он уже был средних лет на момент начала Троянской войны. У него была жена Пенелопа и сын Телемах. Одиссей должен был принят участие в войне, но он не хотел уходить от своей семьи, как и не хотел, чтобы семья потеряла его. Поэтому Одиссей попытался схитрить, но не вышло: Паламей воспользовался сыном Одиссея и распознал его обман, за что Одиссей возненавидел Паламея и хотел отомстить.
Позже уже сам Одиссей хитростью смог найти Ахиллеса, которого пыталась спрятать его мать. И именно благодаря Одиссею Троя была разгромлена, ведь именно он предложил построить коня и пробраться на вражескую территорию.
И именно благодаря Одиссею Троя была разгромлена, ведь именно он предложил построить коня и пробраться на вражескую территорию.
Возвращение домой и его знаменитые подвиги.
Много кого из друзей потерял Одиссей по пути. Не облегчило его злой рок и то, что 7 лет герою Троянского сражения пришлось томиться на острове Огигия с нимфой по имени Калипсо. Только после этого Одиссей смог начать путешествие в Итаку. Кстати, а как же так получилось, что Одиссей попал к Калипсо на целых 7 лет? А это наказание Посейдона за то, что Одиссей ослепил Полифема, сына Посейдона. А что, собственно, за Полифем? Это циклоп – людоед, к которому не посчастливилось попасть Одиссею и его команде. Но благодаря своей смекалке, Одиссею удалось не только вытащить своих ребят, но и ранить циклопа в глаз, тем самым ослепив его.
Но самыми знаменитыми его подвигами являются битва против сирен и плаванье против Сциллы и Харибды. Про двух чудищ сказать особо нечего, но вот сирены… Женщины – птицы, поющие морякам песни, которыми и манят их к себе в логово, чтобы убить и съесть. Но Одиссея они не обманули. Он приказал всем в уши вложить затычки из воска, а его самого привязать к мачте, чтобы тот не поддался соблазну. Если же Одиссей просил отвязать его, то товарищи связывали его тело еще крепче.
Но Одиссея они не обманули. Он приказал всем в уши вложить затычки из воска, а его самого привязать к мачте, чтобы тот не поддался соблазну. Если же Одиссей просил отвязать его, то товарищи связывали его тело еще крепче.
Одиссей
Интересные ответы
- Бельгия — доклад сообщение
Бельгия – королевство, находящееся в Северо-Западном регионе Европы. На севере имеет границы с Нидерландами, на западе — с Люксембургом и Францией, на востоке — с Германией.
- Доклад на тему Планета Сатурн сообщение
Сатурн является второй по размерам и шестой по счёту планетой в Солнечной системе. Своё название планета получила в честь древнеримского бога земледелия. Самой характерной чертой этой планеты считаются знаменитые кольца
- Земноводные — сообщение доклад (2, 3, 7 класс. Окружающий мир. Биология)
Земноводные явились первыми на Земле существами, вышедшими из воды и поселившимися на поверхности.
 Эти животные зародились миллионы столетий назад из кистеперых рыб
Эти животные зародились миллионы столетий назад из кистеперых рыб - Жизнь и творчество Платона
Платон является древнегреческим философом, создавшим одно из основных философских направлений античной науки. Появляется на свет будущий философ в состоятельной семье
- Первые паровозы Черепановых — сообщение доклад
Развитее паровозостроения в мире началось в первой половине девятнадцатого столетия. Первый паровоз в России был выпущен в 1845 году, — эпоху Николая Первого, на Александровском заводе
Одиссея — Гомер
Поэма, написанная гекзаметром (шестистопным дактилем), состоит из 12 110 стихов. Нынешний вид — разделение на 24 песни, она приобрела в III в. до н. э., когда один из первых библиотекарей Александрийской библиотеки Зенодот Эфесский, изучив поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», разделил каждую на 24 песни (рапсодии) — по числу букв греческого алфавита и обозначил каждую песнь буквами греческого алфавита (заглавными — «Илиаду», строчными — «Одиссею»)
Как и «Илиада», «Одиссея» также начинается с обращения к Музе.
1-я песнь. Начало повествования в «Одиссее» отнесено к 10 году после падения Трои. Одиссей томится на острове Огигии, насильно удерживаемый нимфой Калипсо; в это время на Итаке к его жене Пенелопе сватаются многочисленные женихи, пирующие в его доме и расточающие его богатства. По решению совета богов, покровительствующая Одиссею Афина направляется в Итаку и побуждает юного одиссеева сына Телемаха отправиться в Пилос и Спарту расспросить о судьбе отца.
2-я песнь. С помощью Афины Телемах (тщетно пытавшийся удалить из дома женихов) тайно уезжает из Итаки в Пилос.
3-я песнь. Престарелый царь Пилоса Нестор сообщает Телемаху сведения о некоторых ахейских вождях, но за дальнейшими справками направляет его в Спарту к Менелаю.
4-я песнь. Радушно принятый Менелаем и Еленой, Телемах узнает, что Одиссей находится в плену у Калипсо. Меж тем женихи, испуганные отъездом Телемаха, устраивают засаду, чтобы погубить его на обратном пути.
5-я песнь. С V книги начинается новая линия ведения рассказа: боги посылают Гермеса к Калипсо с приказом отпустить Одиссея, который на плоту пускается по морю. Спасшись чудом от бури, поднятой враждебным ему Посейдоном, Одиссей выплывает на берег острова Схерии, где живёт счастливый народ — феаки, мореплаватели со сказочно быстроходными кораблями.
Спасшись чудом от бури, поднятой враждебным ему Посейдоном, Одиссей выплывает на берег острова Схерии, где живёт счастливый народ — феаки, мореплаватели со сказочно быстроходными кораблями.
6-я песнь. Встреча Одиссея на берегу с Навсикаей, дочерью царя феаков Алкиноя.
7-я песнь. Алкиной принимает странника в своем роскошном дворце.
8-я песнь. Алкиной устраивает в честь странника пир и игры. На играх слепой певец Демодок поет о подвигах Одиссея.
9-я песнь. Одиссей наконец открывает свое имя и рассказывает о своих приключениях. Рассказы («апологи») Одиссея: Одиссей посетил страну лотофагов, питающихся лотосом, где всякий, вкусивший лотоса, забывает о родине; великан-людоед, циклоп Полифем, сожрал в своей пещере нескольких товарищей Одиссея, но Одиссей опоил и ослепил циклопа и спасся с прочими товарищами из пещеры под шерстью баранов; за это Полифем призвал на Одиссея гнев своего отца Посейдона.
10-я песнь. Одиссей продолжает рассказывать свои приключения. Прибытие на остров Эолию. Бог ветров Эол благосклонно вручил Одиссею мех с завязанными в нём ветрами, но уже недалеко от родины спутники Одиссея развязали мех, и буря снова отбросила их к Эолову острову. Но раздраженный Эол повелевает Одиссею удалиться. Людоеды-лестригоны уничтожили все корабли Одиссея, кроме одного, который пристал к острову волшебницы Кирки, обратившей спутников Одиссея в свиней; преодолев чары с помощью Гермеса, Одиссей в течение года был мужем Кирки.
Прибытие на остров Эолию. Бог ветров Эол благосклонно вручил Одиссею мех с завязанными в нём ветрами, но уже недалеко от родины спутники Одиссея развязали мех, и буря снова отбросила их к Эолову острову. Но раздраженный Эол повелевает Одиссею удалиться. Людоеды-лестригоны уничтожили все корабли Одиссея, кроме одного, который пристал к острову волшебницы Кирки, обратившей спутников Одиссея в свиней; преодолев чары с помощью Гермеса, Одиссей в течение года был мужем Кирки.
11-я песнь. Одиссей спускается в преисподнюю вопросить прорицателя Тиресия и беседует с тенями матери и умерших друзей.
12-я песнь. Затем Одиссей проплывает мимо Сирен, которые завлекают мореплавателей волшебным пением и губят их; проезжал между утесами, на которых обитают чудовища Сцилла и Харибда. На острове солнечного бога Гелиоса спутники Одиссея убили быков бога, и Зевс послал бурю, погубившую корабль Одиссея со всеми спутниками; Одиссей выплыл на остров Калипсо.
13-я песнь. Одиссей заканчивает свой рассказ. Феаки, одарив Одиссея, отвозят его на родину, и разгневанный Посейдон обращает за это их корабль в утес. Превращенный Афиной в нищего старика, Одиссей отправляется к верному свинопасу Эвмею.
Феаки, одарив Одиссея, отвозят его на родину, и разгневанный Посейдон обращает за это их корабль в утес. Превращенный Афиной в нищего старика, Одиссей отправляется к верному свинопасу Эвмею.
14-я песнь. Пребывание у Эвмея — жанровая идиллическая картинка.
15-я песнь. Возвращающийся из Спарты Телемах благополучно избегает засады женихов.
16-я песнь. Телемах встречается у Эвмея с Одиссеем, который открывается сыну.
17-я песнь. Одиссей возвращается в свой дом в виде нищего, подвергаясь оскорблениям со стороны женихов и слуг.
18-я песнь. Старик-Одиссей дерется с местным нищим Иром и подвергается дальнейшим издевательствам.
19-я песнь. Одиссей делает приготовления к мщению. Только старая няня Эвриклея узнает Одиссея по рубцу на ноге.
20-я песнь. Злые знамения удерживают женихов, намеревающихся погубить пришельца.
21-я песнь. Одиссей открывается Эвмею и Филойтию и призывает их содействовать в отмщении женихам. Пенелопа обещает свою руку тому, кто, согнув лук Одиссея, пропустит стрелу через 12 колец. Нищий пришелец единственный выполняет задание Пенелопы.
Пенелопа обещает свою руку тому, кто, согнув лук Одиссея, пропустит стрелу через 12 колец. Нищий пришелец единственный выполняет задание Пенелопы.
22-я песнь. Одиссей убивает женихов, открывшись им, и казнит изменивших ему слуг.
23-я песнь. Пенелопа узнает наконец Одиссея, сообщающего ей известную лишь им двоим альковную тайну.
24-я песнь. Поэма завершается сценами прибытия душ женихов в преисподнюю, свидания Одиссея с его отцом Лаэртом, восстания родственников убитых женихов и дальнейшего заключения мира между Одиссеем и родственниками убитых .
Виктор Авдеев — Моя одиссея читать онлайн
Виктор Федорович Авдеев
Моя одиссея
ГИМНАЗИЧЕСКАЯ ПАРТА
После смерти матери нас, сирот — брата, двух сестер и меня, самого меньшего в роду, — тетки забрали в стольный город Всевеликого Войска Донского — Новочеркасск. Я был рад покинуть свою степную станицу на Хопре. Мне надоело с матерчатой сумкой через плечо ходить в церковноприходскую школу, дразнить собак в подворотнях и очень хотелось хоть разок прокатиться в поезде.
Везли нас в красном телячьем вагоне. Я слушал грохот колес, то и дело норовил высунуть голову в открытую дверь и гордился, что наш состав перегоняет все встречные казачьи подводы.
Дорога обогатила мой жизненный опыт: тайком от теток я начал курить и научился сплевывать сквозь зубы, как один мальчишка на станции.
Новочеркасск поразил меня своим великолепием. Улицы у нас в Тишанской станице густо заросли «калачиками», которые мы объедали не хуже поросят; здесь же вокзальная площадь блестела голубым отполированным булыжником, и на ней вытянулось с полдюжины пролеток: извозчики в порыжелых шляпах ждали пассажиров. Все дома вокруг были каменные, крытые железом, а многие даже двухэтажные. Высоко на горе ослепительно блистал златоглавый купол огромного кафедрального собора, и мне показалось, что там ярится само солнце. На главной улице не было ни одной собаки. Сунув руки в карманы, я важно прохаживался по гладким каменным дорожкам – тротуарам – и не косился на подворотни. Вот это городище! Наверно, больше его и во всем мире нету.
Вот это городище! Наверно, больше его и во всем мире нету.
Осмотреться как следует в Новочеркасске я не успел: заразился сыпным тифом, затем тут же брюшным и, наконец, возвратным. Из больницы я выбрался месяца четыре спустя, переставляя ноги как чужие. После выздоровления у меня еще сильнее стали виться волосы и появился собачий аппетит. В январе 1920 года на кронштейне атаманского дворца навсегда спустился казачий штандарт: город взяла красная конница. Все подорожало. Тетки объявили, что им нечем кормить такую прожорливую ораву – пусть об этом позаботится новая власть. Они отдали моих сестер в приют бывшего епархиального училища, а меня с братом Владимиром – в интернат имени рабочего Петра Алексеева.
Помещался интернат на Дворцовой площади в трех зданиях бывшей Петровской гимназии, и заведовала им сама основательница мадам Петрова – высокая седая женщина, такая важная, что я сперва принял ее за великую княгиню, портрет которой еще дома, в станице, видел на картинке в журнале «Нива». Едва пришли в интернат, брат сразу отправился в библиотеку.
Едва пришли в интернат, брат сразу отправился в библиотеку.
Я остался один в большой комнате, раньше служившей рекреационным залом. Разношерстная толпа воспитанников с хохотом играла в чехарду. Некоторые носили мундиры с блестящими гербовыми пуговицами и ругались по-французски. Передо мной остановился плотный широкогрудый подросток с прямым взглядом смелых черных глаз, в синих казацких шароварах и желтых сапогах с подковками. Над его нешироким загорелым лбом торчком стоял черный густой чуб; левая щека темнела шрамом.
– Гля, пацан, что это у тебя? – громко спросил он меня.
– Где?
Он ткнул пальцем в синюю пуговку на моей рубахе. Я с деревенской наивностью нагнул голову посмотреть, что произошло с пуговкой, и тут подросток ловко и больно ухватил меня за нос и дернул книзу.
– Во субчик. Чего кланяешься?
Ребята вокруг захохотали. Подросток выпятил нижнюю дерзкую губу, поднял к груди кулаки, ожидая, не кинусь ли я драться. От волнения я вдруг ослабел и вынужден был прислониться к стене.
– Ты чего это… такой белый? – несколько озадаченно спросил он.
– Тифом болел. Еще не поправился.
Подросток смутился. Неожиданно он дружески полуобнял меня:
– Ну… не обижайся, пацан, ладно? Давай познакомимся, – и сердечно протянул мне смуглую крепкую руку. – Володька Сосна. А ты чей?
Я назвался.
– Знаешь что, Авдеша, сыграем в айданы? И Володька Сосна достал из кармана горсть крашеных бараньих костей из коленных суставов. Видно. он хотел чем-то показать свое расположение.
Дома в станице я довольно сносно стрелял из рогатки, гонял чекухой деревянные шары, но айданов у нас не было, и я смущенно в этом признался.
– Не умеешь играть? – изумленно спросил Володька и посмотрел на меня с таким видом, точно я был умственно отсталый. – Во дикари живут у вас на Хопре! Айда на улицу, обучу.
Игра напоминала бабки: в ней так же ставился кон, и по нему били залитой свинцом сачкой. Наловчился я довольно быстро. Весь интернат имени рабочего Петра Алексеева увлекался айданами, и среди воспитанников они расценивались наравне с деньгами и порциями хлеба.
– О, да ты настоящий парень, – хлопнул меня по плечу Володька Сосна после того, как я выменял за новый карандаш десяток айданов, которые тут же и спустил своему учителю. – Хочешь дружить? После обеда сходим к нам, покажу тебе дрозда в клетке, разговаривает похлеще попугая.
Оказывается, Володька не был казеннокоштным, как мы с братом, а ночевал дома. Его отчим и мать играли в малороссийской труппе у нас в городе, в Александровском саду; он обещал бесплатно сводить меня на спектакль.
Под вечер я пошел с ним на Ратную улицу смотреть дрозда в клетке. От низкого слепящего солнца зеленые пирамидальные тополя казались облитыми глазурью; по остывающим плитам тротуаров прыгали кузнечики. Володька взбежал на крыльцо одноэтажного дома с зелеными поднятыми жалюзи, увитого по стенам диким виноградом. На пороге комнаты, капризно вытянув красивые ноги в шелковых чулках, сидела гибкая, нарядная женщина с ярко накрашенными губами. Худощавый, гладко выбритый мужчина в расшитой украинской сорочке без пояса, в кавалерийских галифе и козловых чувяках, пытался ее поднять.
– Хватит дурить, Полина. Маленькая?
– Вот поцелуй, тогда встану! Я оторопел: может, повернуть обратно? Володька легонько подтолкнул меня в плечо.
– Мама, я товарища привел. Чего бы нам поесть? Я первый раз в жизни видел артистов. Вот они какие! Неужто они ссорятся, как самые обыкновенные люди?
Сосновская мельком, спокойно оглядела меня черными подведенными глазами. Черные короткие волосы ее открывали смуглую шею, украшенную крупными янтарными монистами.
– Там я оставила тебе на столе. И, словно забыв о нас, Сосновская вновь сложила на груди руки; ее капризный взгляд, яркие надутые губы, вся ребячливая поза выражали готовность просидеть на пороге хоть до утра.
– Что это, Володька, – шепотом спросил я, когда мы вдвоем закрылись в тесной грязной кухне, заставленной немытой посудой. – Отчим разобидел твою маханшу?
Читать дальше|
Подобно тому, как рассказ о сиренах содержит в себе скрещивание мифа и рационального труда, «Одиссея» в целом представляет собой свидетельство диалектики просвещения. Гомеровская речь творит всеобщность языка, если уже не предполагает таковую; она разлагает иерархический порядок общества экзотерической формой его представления, даже там и именно там, где она его прославляет; со времён гнева Ахилла и скитаний Одиссея пение является ностальгической стилизацией того, что уже более не позволяет себя спеть, а герой авантюры оказывается прообразом как раз того буржуазного индивидуума, понятие которого возникает в ходе унифицированного самоутверждения, праисторический образец которого и представляет собой скиталец. Осознание буржуазно-просветительского элемента у Гомера акцентировалось позднеромантической немецкой интерпретацией Античности, следовавшей ранним работам Ницше. Ницше, как немногим со времён Гегеля, удалось постичь диалектику просвещения. Им было сформулировано его двойственное отношение к господству. Следует «вбивать просвещение в народ, чтобы проповедники все становились проповедниками с нечистой совестью, — таким же образом следует поступать и с государством. Сделать для правителей и государственных деятелей весь их образ действий целенаправленной ложью — вот задача просвещения…» 1. Самообман толпы касательно этого пункта, например, во всякой демократии, ценен в высочайшей степени: к умалению и управляемости людей стремятся тогда как к «прогрессу!» 2. В силу того, что такого рода двойственный характер просвещения выступает в качестве исторического лейтмотива, его понятие, равно как и понятие прогрессирующего мышления расширяется вплоть до начала исторического предания. Но в то время как само отношение Ницше к просвещению, и тем самым к Гомеру, оставалось всё же двойственным; в то время как он усматривал в просвещении равным образом как универсальное движение суверенного духа, чьим завершителем он себя ощущал, так и враждебную жизни, «нигилистическую» силу, у его профашистских отпрысков сохранился один только второй момент, перверсивно превращённый в идеологию. Злобному взору тех, кто со всей мнимой непосредственностью господства чувствуют себя едиными и объявляют вне закона всякое посредничество, «либерализм» любого оттенка, удалось увидеть нечто верное. Действительно, линии разума, либеральности, буржуазности простираются несравнимо далее, чем то предполагает историческое представление, датирующее понятие бюргера лишь концом средневекового феодализма. В силу того, что неоромантической реакцией бюргер идентифицируется уже и там, где более раннему буржуазному гуманизму грезилась священная заря, долженствующая легитимировать его самого, мировая история и просвещение оказываются одним и тем же. Однако усмотрение антимифологического, просвещенческого характера гомеровских сочинений, противопоставление их хтонической мифологии, остаётся неистинным в силу своей ограниченности. Служа репрессивной идеологии, Рудольф Борхардт, к примеру, наиболее значительный и потому самый слабый среди эзотериков немецкой тяжёлой индустрии, слишком рано останавливается в своём анализе. Он не замечает того, что превозносимые им силы порождения сами представляют собой уже некую ступень просвещения. В силу того, что он чересчур уж бесцеремонно вещает роман за эпос, от него ускользает то, что на самом деле имеют общего эпос и роман: господство и эксплуатацию. Самобытный миф уже содержит в себе тот момент лжи, который торжествует в мошенничестве фашизма, и ответственность за который последним взваливается на просвещение. Ничьи сочинения, однако, не предоставляют более красноречивого свидетельства сплетённости воедино просвещения и мифа, чем гомеровские, — основные тексты европейской цивилизации. У Гомера эпос и миф, форма и материя не столько просто расходятся врозь, сколько вступают в спор друг с другом. Эстетическим дуализмом удостоверяется тут философско-историческая тенденция. «Аполлинистический Гомер является лишь продолжателем того всеобщего человеческого процесса искусства, которому мы обязаны индивидуацией» Примечания»>3. В материальных слоях у Гомера сконденсировались мифы; но рассказ о них, то единство, которого ему удалось добиться от разрозненных сказаний, является одновременно и описанием пути бегства субъекта от мифических сил. В более глубинном смысле это относится уже и к «Илиаде». Гневом мифического сына богини, направленным против рационального предводителя рати и организатора, противящейся дисциплине праздностью этого героя, наконец трактовкой гибели победоносно павшего как национально-эллинского, более уже не как племенного бедствия, опосредованной мифической верностью погибшим соратникам — всем этим прочно удерживается переплетение праистории и истории. И тем вернее это относится к «Одиссее», чем ближе она стоит по форме к приключенческому роману. В противостоянии выживающего Я многоликому року находит своё выражение и противостояние просвещения и мифа. Странствия от Трои до Итаки являются путём телесно беспредельно слабой перед лицом природного насилия и только ещё формирующей себя в самосознании самости сквозь мифы. Трясущийся от страха потерпевший кораблекрушение предвосхищает труд компаса. Его бессилие, которое более не оставляет неизвестной ни одну из частей моря, в то же время нацелено на низвержение власти прежних сил. Однако вполне заурядная ложь мифов, то есть то, что на самом-то деле земля и море не населены демонами, волшебная иллюзия и диффузия традиционной народной религии представляется взгляду достигшего совершеннолетия заблуждением по сравнению с однозначной определённостью цели его собственного самосохранения, по сравнению с возвращением на родину и к прочному имущественному состоянию. Все вместе приключения, переживаемые Одиссеем, являются исполненными опасности соблазнами, совращающими самость с пути её логики. Он предаётся им все снова и снова, пробуя их подобно ничему не научающемуся ученику — иногда даже подобно безрассудно любопытствующему — с той же ненасытностью, с какой мимом опробуются его роли. «Но там, где опасность, зреет… спасущее тоже» 4: знание, в котором заключается его идентичность и которое даёт ему возможность выжить, имеет своей субстанцией опыт многообразного, отвлекающего, разлагающего, и владеющим знанием оказывается тот, кто самым отважно-дерзким образом подвергает себя угрозе смерти, благодаря которой он утверждает и упрочивает себя в жизни. Именно это является тайной имеющей место между эпосом и мифом тяжбы: самость не образует собой непреклонной противоположности по отношению к приключению, но в своей непреклонности только формирует себя через это противостояние, будучи всего лишь единством во множественности того, чем это единство отрицается. На гомеровской ступени идентичность самости до такой степени является функцией неидентичного, диссоциированньгх, неартикулированных мифов, что она вынуждена заимствовать себя у последних. Время, эта внутренняя форма организации индивидуальности, является ещё до такой степени нестойким, что единство всей авантюры остаётся совершенно внешним, а её последовательность — пространственной чередой сценических площадок, мест проживания локальных божеств, к которым прибивает героя штормом. Когда в исторически более поздние времена самость опять и опять испытывала подобного рода упадок сил, или же такого рода слабость предполагалась повествованием в читателе, представленное в нём жизнеописание вновь соскальзывало в череду следующих друг за другом авантюр. Мореплаватель Одиссей обманывает божества природы точно так же, как некогда цивилизованный путешественник обманывал дикарей, предлагая им за слоновую кость разноцветные стеклянные бусы. Лишь изредка выступает он в качестве обменивающегося. В таком случае раздаются и принимаются дары. Дар у Гомера занимает промежуточное положение между обменом и жертвой. В качестве жертвоприношения он должен возместить собой пролитую кровь, будь то кровь чужака, будь то кровь захваченного пиратами оседлого жителя, и учредить собой клятвенное отречение от мести. Но вместе с тем в даре заявляет о себе и принцип эквивалентности: хозяин получает реальную или символическую компенсацию за своё деяние, гость — провизию на дорогу, долженствующую дать ему возможность в принципе добраться домой. Посейдон, стихийный враг Одиссея, сам мыслит в понятиях эквивалентности, непрерывно сетуя на то, что последний в местах остановок в своих скитаниях получает даров больше, чем составила бы полностью его доля от троянских трофеев, доводись ему, вопреки чинимым Посейдоном препятствиям, переправить её домой. Но такого рода рационализация может быть прослежена у Гомера вплоть до ситуации самых настоящих жертвоприношений. Пропорциями размеров предназначенного для гекатомб в каждом отдельном случае принимается в расчёт степень благожелательности божеств. И если обмен является секуляризацией жертвы, то последняя сама оказывается уже чем-то вроде магической схемы рационального обмена, неким мероприятием человека, имеющим своей целью порабощение богов, которые ниспровергаются именно системой выказываемых им почестей. Момент обмана в жертве является прообразом одиссеевой хитрости, подобно тому, как многочисленные хитрости Одиссея как бы инкрустируют собой приносимую природным божествам жертву 7. Перехитрить божества природы удаётся как герою, так и солярным богам. Олимпийские друзья Одиссея используют отлучку Посейдона к эфиопам, провинциалам, все ещё почитающим его и приносящим ему обильные жертвы, для того, чтобы препроводить своего протеже в безопасное место. Обман уже содержится в самой той жертве, которую с удовольствием принимает Посейдон: ограничение аморфного морского божества определённой локальностью, священным регионом, ограничивает в то же время и его власть, и ради насыщения эфиопскими быками он вынужден отказаться от того, чтобы излить свой гнев на Одиссея. Все жертвоприношения, планомерно осуществляемые человеком, обманывают того бога, которому они посвящены: они подчиняют его примату человеческих целей и лишают его власти, а совершенный в отношении него обман беспрепятственно превращается в тот, который учиняется над верующей паствой неверующим проповедником. Посредством калькуляции своего собственного участия он способствует негации той силы, сторону которой это участие принимает. Так выторговывает он себе свою обречённую гибели жизнь. Но никоим образом обман, хитрость и рациональность не представляют собой простой противоположности архаике жертвы. Благодаря Одиссею момент обмана в жертве, эта самая глубинная, пожалуй, причина лживого характера мифа, всего только возвышается до уровня самосознания. Древнейшим должен быть опыт того, что символическая коммуникация с божеством посредством жертвы не является реальной. Заложенное в жертве замещение, так превозносимое новомодными иррационалистами, неотделимо от обожествления приносимого в жертву, от иллюзии проповеднической рационализации убийства апофеозом избранника. Нечто от подобного рода обмана, которым бренная личность возвеличивается до носителя божественной субстанции, издавна давало себя знать в том Я, которое самим своим существованием обязано принесению в жертву будущему мгновения настоящего. До тех пор, пока единичный приносится в жертву, до тех пор, пока жертва включает в себя противоположность коллектива и индивидуума, до тех пор обман остаётся объективно соположенным в жертве. И если верой в замещение посредством жертвы обозначается памятование о том, что есть не изначального, относящегося к истории господства в самости, то для сформировавшейся самости она становится одновременно и заблуждением: самостью является как раз тот человек, который считается уже более не обладающим магической силой замещать себя. Конституцией самости перерезается как раз та флуктуирующая связь с природой, на установление которой претендует жертвование самостью. Всякая жертва есть реставрация, уличаемая исторической реальностью в той лжи, с которой она предпринимается. Но судя по всему, почтенная вера в жертву представляет собой уже ту вдолбленную схему, сообразно которой порабощённые повторно сами над собой учиняют несправедливость, которая была над ними уже учинена, для того, чтобы суметь вынести её. Доминирующая на сегодняшний день теория жертвы связывает её с представлением о коллективном теле племени, в соответствии с которым пролитая кровь члена племени должна возвратиться вспять в виде силы. Численно возрастающему коллективу время от времени удавалось выжить только благодаря испытываемому от вкушения человеческой плоти наслаждению; вероятно, сладострастие многих этнических или социальных групп было каким-то образом связано с каннибализмом, о чём сегодня свидетельствует уже только испытываемое к вкусу человеческого мяса отвращение. Обычаи более поздней эпохи, такие, например, как обычай ver sacrum, когда во времена голода целое поколение молодых людей определённого года рождения по требованиям обряда понуждалось к эмиграции, достаточно отчётливо сохраняют черты подобного рода варварской и просветлённой рациональности. Задолго до возникновения мифологических народных религий она должна была разоблачить себя в качестве иллюзорной: по мере того, как систематическая охота начала поставлять племени животных в количестве достаточном для того, чтобы сделать излишним поедание членов племени, умудрённые опытом охотники и звероловы должны были находить всё более и более безумными заповеди шаманов, отдающие их на съедение. Магическая интерпретация жертвы коллективом, полностью отрицающая её рациональность, является её рационализацией; но прямолинейная просвещённая гипотеза, согласно которой то, что сегодня является идеологией, некогда могло быть истиной, слишком простодушна 10: новейшие идеологии являются всего лишь репризами древнейших, тем более прибегающими к прежде неизвестным идеологиям, чем явственнее развитием общества уличаются во лжи идеологии до сего времени санкционированные. Иррациональность жертвы, на которую ссылаются столь часто, является не чем иным, как выражением того обстоятельства, что практика жертвоприношения имеет более длительную историю, чем её сама по себе уже неистинная, то есть партикулярно рациональная необходимость. Именно за этот зазор между рациональностью и иррациональностью жертвы ухватывается хитрость. Всякая демифологизация имеет форму беспрерывного убеждения на опыте в тщетности и ненужности жертв. Если принцип жертвоприношения ради его иррациональности оказывается преходящим, то он одновременно продолжает жить в силу своей рациональности. Последняя изменилась, но не исчезла. Самость противится растворению в слепой природе, о чьих правах все вновь и вновь заявляет жертва. Но при этом она остаётся обречённой как раз природным связям, живым, стремящимся утвердить себя в противовес живому. Девальвация жертвы рациональностью самосохранения является обменом в той же степени, в какой им всегда была жертва. Твердая в своей идентичности самость, возникающая в ходе преодоления жертвы, вновь является жестоким, неукоснительно соблюдаемым ритуалом принесения в жертву, которым человек, противопоставляя своё сознание природной связи, торжественно празднует самого себя. И поэтому отчасти верным оказывается известный рассказ из скандинавской мифологии, согласно которому Один повесился на дереве в качестве жертвы самому себе, и тезис Клагеса, гласящий, что всякая жертва есть принесение в жертву Богу Бога, как оно и изображается в монотеистической перелицовке мифа, в христологии. В классовой истории враждебность самости жертве всегда включала в себя жертвование самостью, ибо оплачивалось отрицанием природного в человеке ради господства над не являющейся человеком природой и другими людьми. Именно это отрицание, ядро всякой цивилизаторной рациональности, является зародышевой клеткой продолжающей бурно разрастаться мифической иррациональности: отрицанием — природного в человеке спутан и делается непроницаемым не один только телос обуздания внешней природы, но и — телос собственной жизни. В тот момент, когда человек в качестве сознания самого себя отсекает себя от природы, ничтожными становятся и все те цели, ради которых он сохраняет себя живым: социальный прогресс, рост всех материальных и духовных сил, даже само сознание, а возведение на престол средства в качестве цели, принимающее в эпоху позднего капитализма характер откровенного безумия, различимо уже в праистории субъективности. Противоразумность тоталитарного капитализма, чья техника, призванная удовлетворять потребности, в её опредмеченном, определяемом отношениями господства облике делает невозможным удовлетворение потребностей и понуждает к искоренению человека — эта Противоразумность имела свой прототипической образ в герое, который избегает жертвы тем, что жертвует собой. История цивилизации есть история интроверсии, становления интровертивной жертвы. Другими словами: история самоотречения. Любой отрекающийся отдаёт больше от своей жизни, чем ему бывает возвращено, больше, чем та жизнь, которую он защищает. Именно таким и является Одиссей — самостью, беспрестанно превозмогающей самое себя 12 и через то упускающей свою жизнь, ей спасаемую и уже только лишь припоминаемую как скитания. И тем не менее он в то же время является и жертвой, приносимой ради упразднения жертвоприношения. Его барское самоотречение, будучи борьбой с мифом, замешает собой то общество, которое уже более не нуждается ни в самоотречении, ни в господстве: оно властвует над самим собой не для того, чтобы совершать насилие над собой или другими, но ради примирения. Трансформация жертвы в субъективность проходит под знаком того лукавства, которое всегда было присуще жертвоприношению. В лживости лукавства заключающийся в жертве обман становится элементом характера, увечьем самого «битого, тертого», на чьей физиономии запечатлены те удары, которые он, самосохраняясь, нанёс самому себе. Здесь находит своё выражение связь духа и физической силы. Носитель духа, повелитель, в качестве какового почти всегда представляем хитроумно-лукавый Одиссей, несмотря на все рассказы о его подвигах в каждом из случаев физически слабее тех архаических сил, с которыми он вынужден вести бой не на жизнь, а на смерть. Те случаи, в которых прославляется голая физическая сила нашего искателя приключений, случаи провоцируемого женихами кулачного боя с Иром и натягивания тетивы лука, являются ситуациями спортивного рода. Самосохранение и телесная мощь расходятся врозь: атлетические способности Одиссея являются способностями джентльмена, который, будучи избавленным от практических забот, может тренировать своё тело по-барски сдержанно. Одиссей символическим образом учиняет над этими аутсайдерами повторно то, что реально было учинено над ними задолго до того организованным помещичеством, и легитимирует себя в качестве аристократа. Но там, где он встречается с первобытными силами, не одомашненными и не расслабленными, ему приходится труднее. Ни в одном из случаев он не выказывает способность сам вступить в физическую схватку с продолжающими своё экзотическое существование мифическими силами. Он вынужден признать те церемониалы жертвоприношения, с которыми он вновь и вновь встречается, в качестве преданных: нарушить их он не в состоянии. Вместо этого он формально превращает их в условие своего собственного разумного решения. Последнее всегда осуществляется как бы внутри праисторического приговора, лежащего в основе ситуации жертвоприношения. Последний остаётся признанным, его буква пунктуально соблюдается. Но ставший бессмысленным приговор опровергается тем, что его собственный устав то и дело предоставляет возможность избежать его. Не кто иной, как стремящийся к господству над природой дух в состязании с ней всегда добивается отмщения за превосходство природы над ним. Все буржуазное Просвещение едино в требовании трезвости, чувства реальности, правильной оценки соотношения сил. Желание не смеет быть отцом мысли. Но это происходит от того, что всякая власть в классовом обществе связана гложущим сознанием собственного бессилия перед лицом физической природы и её социальных преемников, многих. Только сознательно управляемое приспосабливание к природе делает последнюю подвластной тому, кто физически слабее. Рацио, вытесняющее мимесис, является не просто его противоположностью. Оно само есть мимесис: мимесис мёртвого. Субъективный дух, ликвидирующий одушевлённость природы, овладевает омертвленной природой только тем, что имитирует её косность и ликвидирует самого себя в качестве анимистичного. Подражание начинает служить господству не позднее того, как человек пред человеком становится антропоморфным. Схемой одиссевого хитроумия является овладение природой посредством такого рода уподобления. В оценке соотношения сил, которой выживание как бы заранее ставится в зависимость от признания собственного поражения, виртуально — от смерти, уже заложен in nuce принцип буржуазного дезиллюзионизма, внешняя схема овнутрения жертвы, самоотречения. Хитроумный выживает только ценой своих собственных грёз, которые он девальвирует тем, что расколдовывает, подобно силам вовне, самого себя. Он никогда не может иметь именно все целиком, он всегда должен уметь ждать, иметь терпение, отказываться, он не смеет отведать ни лотоса, ни плоти священных быков Гипериона, и когда он ведёт свой корабль сквозь теснину вод морских, он должен включать в калькуляцию утрату тех своих спутников, которых срывает с судна Сцилла. Это формула хитроумия Одиссея — то, что отступник-инструментальный дух, покорно подлаживаясь к природе, воздает ей тем самым должное и как раз благодаря этому обманывает её. Мифические чудовища, в зоне действия власти которых он оказывается, представляют собой во всех случаях как бы окаменелые договора, правовые притязания праисторической эпохи. Так предъявляет себя ко времени развитого патриархата более древняя народная религия в её распылённых реликтах: под небом Олимпа они превратились в фигуры абстрактной судьбы, чуждой чувственности необходимости. То, что было невозможно, скажем, выбрать иной маршрут, кроме такового между Сциллой и Харибдой, можно было бы истолковать вполне рационалистически, как трансформацию в миф превосходства сил морского течения над старинным кораблём. Самость репрезентирует рациональную всеобщность наперекор неизбежности судьбы. Но так как он обнаруживает всеобщее и неизбежное перекрещивающимися друг с другом, его рациональность с необходимостью приобретает ограничивающую форму, форму исключения. Он должен выскользнуть из окружающих его и угрожающих ему правовых отношений, которые до известной степени предписаны каждой из мифических фигур. Он воздает должное правовым установлениям таким образом, что они теряют над ним власть в силу того, что он делает уступку этой власти. Невозможно слышать сирен и не пасть жертвой их чар: им нельзя противиться. Противление и ослепление суть одно и то же, и тот, кто противится им, тем самым как раз и проигрывает тому мифу, с которым он повстречался. Но хитроумие есть ставшее рациональным противление. Одиссей и не пытается плыть каким-либо иным путём, кроме того, который пролегает мимо острова сирен. Он также не пытается, например, кичась превосходством своего знания, свободно услышать искусительниц, воображая, что его свобода послужила бы ему достаточной защитой. Наложение оков, связывание относится лишь к той стадии, когда пленных уже более не умерщвляют немедленно. Одиссей признаёт архаическое всевластие пения тем, что, будучи технически просвещённым, заставляет связать себя. Он склоняется перед песнью желания и расстраивает её так же, как он расстраивает планы смерти. Связанный слушающий стремится к сиренам точно так же, как любой другой. Но в трагедии это было бы их последним часом, подобно тому, как таковым для Сфинкса был тот момент, когда Эдип разгадал его загадку, тем самым выполнив его приказ и его низвергнув. Ибо право мифических фигур, в качестве права более сильных, живо только благодаря невыполнимости его установлении. Когда же случается такое, что они удовлетворяются, то с мифом бывает покончено вплоть до самого отдалённого его наследия. Со времени счастливо-несчастливой встречи Одиссея с сиренами все песни больны и вся западноевропейская музыка в целом страдает от той абсурдности пения, которой в то же время любому музыкальному искусству вновь возвращается движущая его сила. С расторжением договора посредством неукоснительного следования его букве изменяется историческое местоположение языка: он начинает превращаться в обозначение. Мифический рок, фатум был одним с высказанным словом. Кругу представлений, к которому принадлежат неотвратимо приводимые в исполнение мифическими фигурами правопритязания судьбы, ещё неизвестно различие слова и предмета. Слово обладает тут непосредственной властью над вещью, экспрессия и интенция перетекают друг в друга. Хитроумие, однако, заключается в том, что это различие используется. Тогда цепляются за слово для того, чтобы изменить дело. Так возникает сознание интенции: нужда заставляет Одиссея убедиться в наличии тут дуализма тем, что он на опыте узнает, что одно и то же слово способно означать различное. В силу того, что имя Udeis может приписать себе как герой, так и никто, первый обретает способность разрушить чары собственного имени. Неизменяемые слова остаются формулами неумолимых законов природы. Такого рода уподобление мёртвому посредством языка уже содержит в себе схему современной математики. Хитрость как средство обмена, где всё идёт, как надо, где выполняется договор и где, тем не менее, оказывается обманутым партнёр, отсылает к тому типу хозяйствования, который появляется если не в мифической древности, то, по меньшей мере, в эпоху ранней Античности: к древнейшему «случайному обмену» между замкнутыми натуральными хозяйствами. «Излишки при случае обмениваются, но центром тяжести в обеспечении остаётся производимое для себя». 13 Именно образ действий участника случайного обмена напоминает образ действия авантюриста Одиссея. Уже в патетическом образе бродяги феодал оказывается носителем черт восточного купца, Примечания»>14 возвращающегося с неслыханным богатством домой вследствие того, что ему впервые удаётся, вопреки традиции, вырваться за пределы узких рамок натурального хозяйства, «сплавать». Экономически авантюрный характер его предприятий является не чем иным, как иррациональным аспектом его рацио по отношению ко всё ещё преобладающей традиционной форме хозяйства. Эта иррациональность рацио нашла своё выражение в хитроумии как в уподоблении буржуазного разума любому неразумию, противостоящему ему в качестве ещё более мощной силы. Хитроумный одиночка уже является homo oeconomicus, которому однажды уподобятся все разумные существа: поэтому одиссея уже является робинзонадой. Оба прототипических потерпевших кораблекрушение превращают свою слабость — слабость индивидуума как такового, отделяющегося от коллективности — в свою социальную силу. Когда оказываются они отданными на произвол морских течений, беспомощно изолированными, самой их изолированностью диктуется им беспощадное следование атомистической выгоде. Позднее это было зафиксировано буржуазной экономикой в понятии риска: возможность гибели должна служить моральным оправданием наживы. С точки зрения общества с развитыми меновыми отношениями и его индивидов авантюры Одиссея являются не чем иным, как изображением того многообразия риска, которым пролагается путь к успеху. Одиссей живёт в соответствии с тем первопринципом, которым некогда было конституировано буржуазное общество. Можно было сделать выбор — либо обмануть, либо погибнуть. Последние встречаются обоим исключительно лишь в отчуждённой форме, как враги или как точки опоры, всегда — как инструменты, вещи. Однако одна из первых авантюр подлинного Nostos соотносится со временами намного более древними, чем варварский век шутовских проделок демонов и колдовства божеств. Речь идёт о рассказе о лото-фагах, поедателях лотоса. Тот, кто вкусит от этого блюда, обречён подобно слушающему сирен или тому, к кому прикоснулся жезл Кирке. Но тому, кто стал жертвой этого колдовства, не предуготовано ничто дурное: «и посланным нашим.
Подобной идиллии, весьма напоминающей счастье наркотиков, при помощи которых при ужесточившихся общественных порядках порабощённые слои были принуждены обрести способность переносить непереносимое, не в состоянии предаться самосохраняющийся разум, преследующий свои интересы. На самом деле она является лишь видимостью счастья, тупым растительным существованием, скудным, как существование животных. Но счастье содержит истину в себе. По сути своей оно есть результат. Оно расцветает на упразднённом страдании. Поэтому прав тот страдалец, которому неймётся среди лотофагов. В противоположность им он отстаивает их же собственное дело, осуществление утопии, но посредством исторического труда, в то время как просто пребывание в состоянии блаженства лишает их каких бы то ни было сил. Но в силу того, что Одиссеем осознается эта правота, она неумолимо вступает в отношения бесправия. Совершенно непосредственно его деятельность разворачивается как деятельность во имя господства. Это счастье «в дальних пределах мира» 18 столь же мало допустимо для самосохраняющегося разума, сколь и более опасное из более поздних фаз. Ленивые разгоняются и отправляются на галеры:
Лотос — восточное кушанье. И по сей день играют его мелко нарезанные ломтики свою роль в китайской и индийской кухне. Вероятно соблазн, приписываемый ему, является не чем иным, как соблазном регрессии на стадию собирательства плодов земли, 20 равно как и моря, более древнюю, чем земледелие, скотоводство и даже охота, короче — чем любое производство. Вряд ли является случайностью то, что представление о сказочно-праздной жизни связывается эпопеей с поеданием цветов, даже если это такие цветы, про которые сегодня ничего такого и не скажешь. Поедание цветов, на Ближнем Востоке все ещё общепринятое в качестве десерта, европейским детям известное в качестве липучки из розовой воды или засахаренных фиалок, обещает состояние, в котором репродукция жизни независима от сознательного самосохранения, блаженство сытости независимо от полезности планомерного питания. Следующая фигура, которую перехитрил Одиссей — перехитрить и быть тертым, битым — это эквиваленты у Гомера — циклоп Полифем, несёт свой единственный, величиной с колесо глаз как отпечаток того же самого доисторического мифа: один-единственный глаз напоминает собой нос и рот, он примитивнее, чем симметрия глаз и ушей 22, лишь в силу которой, в единстве двух покрывающих друг друга ощущений, вообще имеют место идентификация, глубина, предметность.
Изобилие не нуждается в законе и цивилизаторный приговор анархии звучит почти как донос на изобилие:
Это — в некотором смысле уже патриархальная родовая община, базирующаяся на угнетении физически более слабых, но ещё не организованная в соответствии с критерием постоянной собственности и её иерархией, и, собственно говоря, именно разобщённостью обитателей пещер мотивируется отсутствие у них объективного закона и, тем самым, гомеровский упрёк во взаимном неуважении, в диком состоянии. При этом позднее в одном месте Опровергается прагматическая верность рассказчика его собственному цивилизованному приговору: на ужасный вопль ослеплённого весь его клан, несмотря на все их неуважение друг к другу, сбегается ему на помощь, и только трюк с именем Одиссея удерживает глупцов от того, чтобы оказать содействие себе подобному. 26 Глупость и беззаконие выявляются тут в качестве тождественного определения: когда Гомер называет циклопа «без закона мыслящим чудовищем», Примечания»>27 то это означает не просто то, что его мышлению чуждо уважение к законам благонравия, но также и то, что само его мышление является беззаконным, несистематичным, рапсодическим постольку, поскольку он оказывается неспособным решить ту простую для буржуазного ума задачу, что его незваные гости могут ускользнуть из пещеры под брюхом овец, а не оседлав их, и не замечает софистической двусмысленности ложного имени Одиссея. Полифем, доверяющий могуществу бессмертных, тем не менее является людоедом, и этому соответствует то, что, несмотря на все его доверие к богам, он отказывает им в почтении: «Видно, что ты издалека иль вовсе безумен, пришелец», — а более поздние времена глупца от чужака отличали уже менее добросовестно и незнание обычая, равно как и всякую неосведомлённость непосредственно клеймили в качестве глупости:
Нам, циклопам, нет нужды ни в боге Зевсе, ни в прочих «Знаменитей!» — иронизирует повествующий Одиссей. В виду же, пожалуй, имелось: древнее; власть солярной системы признается, но примерно таким же образом, каким феодал признает власть бюргерского богатства, в то же время втайне чувствуя себя более благородным и совершенно не осознавая того, что та несправедливость, которая была учинена над ним, одного пошиба с несправедливостью, выразителем интересов которой он является сам. Ближайшее божество, морской бог Посейдон, отец Полифема и враг Одиссея, древнее универсального, дистанцированного божества небес Зевса, и как бы на плечи субъекта перекладывается теперь вековая распря между народной религией стихий и логоцентричной религией закона. Но живущий без закона Полифем — это не просто злодей, в которого его превращают табу цивилизации, выставляющие его этаким великаном-Голиафом в сказочном мире просвещённого детства. В той убогой области, в которой его самосохранение стало упорядоченным и приобрело характер привычки, он не испытывает недостатка в умиротворении. Хвастливо-восторженно, как и всякий охмелевший, обещает он одарить Одиссея, гостя, подарками 30, и лишь то, что Одиссей представляется как Никто, наводит его на злую мысль возместить себе сделанный гостю подарок, съев предводителя последним — вероятно потому, что он назвал себя Никто и в силу этого не считается существующим слабым в остроумии циклопом. 31 Физическая жестокость этого сверхсилача обусловлена его всякий раз переменчивой доверчивостью. Поэтому выполнение положений мифологического устава всегда становится бесправием по отношению к осуждённому, бесправием даже по отношению к законы учреждающему природному насилию. Полифем и все иные чудовища, которых вокруг пальца обводит Одиссей, являются прототипами прогрессирующе глупого черта христианской эпохи вплоть до Шейлока и Мефистофеля. Глупость великана, субстанция его варварской жестокости до тех пор, пока у него всё идёт хорошо, олицетворяет собой нечто лучшее, лишь только её ниспровергнет кто-то, должно быть, лучше соображающий. Отождествление рацио с его противоположностью, состоянием сознания, в котором ещё не выкристаллизовалось никакой идентичности — его репрезентирует остолоп-великан — находит своё завершение, однако, в хитрости с именем. Она является составной частью широко распространённого фольклора. В древнегреческом здесь налицо игра слов; в слове, о котором идёт речь, расходятся врозь имя — Одиссей — и интенция — никто. Слуху современного человека слова «Odysseus» и «Udeis» все ещё кажутся сходными, и вполне можно себе представить, что в одном из тех диалектов, на которых из поколения в поколение передавалась история возвращения на родную Итаку, имя островного владыки действительно звучало одинаково со словом «никто». На самом же деле тут субъект Одиссей отрекается от собственной идентичности, делающей его субъектом, и сохраняет себе жизнь посредством мимикрии аморфному. Он называет себя Никто потому, что Полифем не является самостью, а смешение имени и вещи лишает обманутого варвара возможности выскользнуть из западни: его зов в качестве призыва к возмездию остаётся магически связанным с именем того, кому он хочет отомстить, и именно это имя обрекает призыв на бессилие. Ибо вводя в имя интенцию, Одиссей тем самым изымает его из магического круга. Его самоутверждение тут, как и в эпопее в целом, как и во всей цивилизации, является самоотречением. Тем самым самость попадает как раз в тот принудительный круг природных связей, которого, посредством уподобления, она стремится избежать. Хитрость, состоящая в том, что умный надевает на себя личину глупца, оборачивается глупостью, лишь только он срывает с себя эту личину. Такова диалектика словоохотливости. Со времён Античности вплоть до фашизма Гомера упрекали в болтовне, в болтливости как его героев, так и самого сказителя. Тем не менее по сравнению со спартанцами как былых времён, так и современности иониец пророчески выказал своё превосходство тем, что изобразил тот рок, который навлекает на хитреца, человека средства его речь. Речь, способная обмануть физическое насилие, не в состоянии сдержать самое себя. Как пародия сопровождает её поток сознания, само мышление: чья непоколебимая автономия приобретает элемент шутовства — нечто маниакальное — как только, посредством речи, вступает она в реальность, как если бы мышление и реальность были одного имени, в то время как ведь первое именно благодаря дистанции обладает властью над последней. Но эта дистанция в то же время является и страданием. Поэтому умный — вопреки пословице — всегда обуреваем искушением сказать слишком много. По сравнению с рассказом о бегстве из мифа как спасении от варварства людоеда, волшебная история о Кирке вновь отсылает к собственно магической стадии. Кирке соблазняет мужчин поддаться инстинкту, и с давних пор звериное обличье соблазнённых связывается с этим её деянием, а сама Кирке становится прототипом Гетеры, каковой мотив наилучшим образом выражен, пожалуй, строфами Гермеса, приписывающими ей эротическую инициативу как нечто само собой разумеющееся: «в испуге …Станет на ложе с собой тебя призывать чародейка — …Ты не подумай отречься от ложа богини» 33. Сигнатурой Кирке является двусмысленность, ибо в своих действиях она по очереди выступает то погубительницей, то спасительницей; двусмысленность задаётся уже самой её родословной: она — дочь Гелиоса и внучка Океана.
Вместо того чтоб напасть на пришельцев, они подбежали Как к своему господину, хвостами махая, собаки Заколдованные люди ведут себя подобно диким зверям, слушающим игру Орфея. Мифическое колдовство, жертвой которого они стали, возвращает в то же время и свободу подавленной в них природе. То, что отменяется рецидивом их грехопадения в миф, само есть миф. Подавление инстинкта, делающее их самостью и отделяющее их от животного, является интроверсией подавления, осуществляемого безнадёжно замкнутым круговоротом природы, на что намекает, согласно более ранней трактовке, само имя Кирке. Зато насильственное волшебство, напоминающее им об идеализированной праистории совместно со звероподобием, как, впрочем, и идиллия лотофагов, создаёт, сколько бы ни смущалось оно самого себя, видимость умиротворения. Но так как они однажды уже были людьми, цивилизаторная эпопея не способна изобразить с ними случившееся иначе, чем представив его в виде гибельного падения, и едва ли где-либо ещё в гомеровском изложении можно заметить хотя бы след вожделения как такового. Спутники Одиссея превращаются не подобно предыдущим гостям в священные творения дикой природы, а в нечистых домашних животных, в свиней. Возможно, к истории о Кирке примешалась память о хтоническом культе Деметры, в котором свинья была священным животным. 39 Но также возможно, что мысль о человекоподобной анатомии свиньи и её наготе является мыслью, объясняющей этот мотив: как если бы ионийцы налагали на смешение с подобным такое же табу, которое сохраняется среди евреев. Наконец, можно подумать и о запрете на каннибализм, ибо, вполне как у Ювенала, вкус человеческого мяса снова и снова описывается тут как сходный со вкусом мяса свиньи. Как бы то ни было, впоследствии любая цивилизация предпочитала называть свиньями тех, чей инстинкт вспоминает об ином вожделении, нежели то, что санкционируется обществом во имя его собственных целей. Брак является тем срединным путём общества, посредством которого оно мирится с этим: жена остаётся бессильной, между тем как власть достаётся ей лишь опосредованно, через мужа. Нечто от этого проглядывает в поражении Гетерической богини «Одиссеи», в то время как развитой брак с Пенелопой, литературно более ранний, репрезентирует более позднюю ступень объективности патриархальных устоев. С вступлением Одиссея на Эю двусмысленность страсти и запрета, содержащаяся в отношении мужа к жене, приобретает уже форму охраняемого контрактом обмена. Тому предпосылкой является отказ, самоотречение. Одиссей устоял перед волшебством Кирке.
За то наслаждение, которое она дарует, она назначает цену, в соответствии с которой наслаждение пренебрежительно отвергается; последняя Гетера на деле оказывается первым женским характером. При переходе от саги к истории она вносит решающий вклад в процесс формирования буржуазной холодности. Своим поведением она практикует запрет на любовь, который впоследствии осуществлялся тем решительнее, чем в больший обман должна была вводить любовь как идеология ненависть конкурента. В мире меновых отношений несправедлив тот, кто даёт больше; но любящий всегда оказывается более любящим. И в то время как жертва, которую он приносит, прославляется, ревниво следится за тем, чтобы любящий не был избавлен от жертвы. Именно в самой своей любви любящий объявляется несправедливым и карается за это. Неспособность к господству над самим собой и другими, удостоверяемая его любовью, является достаточным основанием для того, чтобы отказать ему в исполненности. Вместе с воспроизводством общества расширяется воспроизводство одиночества. Даже в нежнейших разветвлениях чувства продолжает одерживать верх механицизм, до тех пор пока сама любовь, чтобы вообще суметь найти путь к другому, не понуждается к холодности настолько, что полностью разрушается как нечто осуществимое в действительности. Однако завесу над тем, сколь дорого обходится установление упорядоченных отношений между полами, лишь слегка приподымают те тёмные строфы, в которых описывается поведение друзей Одиссея, превращаемых Кирке обратно в людей по требованию её, в соответствии с договором, повелителя. Сначала говорится:
Но будучи таким вот образом удостоверенными и утверждёнными в их мужественности, они не счастливы:
Так могла звучать самая древняя свадебная песнь, сопровождающая трапезу, которой празднуется рудиментарный брак, длящийся один год. Настоящий брак, брак с Пенелопой, имеет с ним гораздо больше общего, чем можно было бы предположить. Девка и супруга комплементарны друг другу как аспекты женского самоотчуждения в патриархальном мире: супруга выражает стремление к твёрдому порядку в жизни и имуществе, в то время как девка в качестве её тайной союзницы в свою очередь подчиняет имущественным отношениям то, что оставляется вакантным имущественными правами супруги, и торгует похотью. Кирке, как и развратница Калипсо, подобно мифическим силам судьбы Примечания»>48 и буржуазным домашним хозяйкам, выведены тут в качестве прилежных ткачих, в то время как Пенелопа, подобно девке, недоверчиво оценивает вернувшегося домой: не является ли он в действительности всего лишь стариком-нищим или уж вовсе ищущим приключений божеством. Столь превозносимая сцена узнавания Одиссея конечно патрицианского сорта:
У неё не возникает никакого спонтанного побуждения, она стремится всего лишь не совершить ошибки, что вряд ли позволительно под давлением тяготеющего над ней порядка. Юный Телемах, ещё не вполне приноровившийся к своему будущему положению, раздражен этим, но всё же чувствует себя уже достаточно мужчиной, чтобы поставить мать на место. Упрек в упрямстве и черствости, который он бросает ей, это именно тот же самый упрек, который ранее был сделан Одиссею Кирке. Так достигают взаимопонимания замужние с женатыми. Содержанием испытания, которому она подвергает вернувшегося домой, является незыблемое местоположение супружеского ложа, устроенного супругом в юности на пне оливкового дерева, этого символа единства пола и имущественного владения. С умилительным лукавством заводит она об этом речь, как если бы это ложе могло быть передвинуто со своего места, и, «полон негодования», отвечает ей супруг обстоятельным рассказом о своей добротной любительско-ремесленной поделке: как у прототипичного бюргера у него, ловкача, имеется хобби. Оно состоит в воспроизведении того ремесленного труда, из которого в рамках дифференцированных отношений собственности он с необходимостью давным-давно был изъят. Он радуется этому труду, потому что свобода делать что-то для него излишне ненужное утверждает его в его праве распоряжаться теми, кто вынужден заниматься этим трудом под страхом смерти.
Брак означает не просто вознаграждаемое упорядочивание проживаемого, но также и: солидарно, сообща противостоять смерти. Примирение в нём растёт в обмен на подчинение, подобно тому, как до сих пор в истории гуманное всегда процветало лишь за счёт варварского, тщательно скрываемого гуманностью. Конечной станцией скитаний в собственном смысле слова никоим образом не являются убежища подобного рода. Таковой является станция Гадеса. Образы, которые созерцает наш искатель приключений в первой Nekyia, являются преимущественно теми матриархальными» образами, которые изгоняются религией света: вслед за матерью, в противоположность которой Одиссей принуждает себя к патриархальной целесообразной суровости Примечания»>53, древнейшие героини. Тем не менее образ матери бессилен, слеп и безгласен 54, он — фантом, равно как и эпическое повествование в тех его моментах, в которых оно во имя образа отрекается от языка. Требуется жертвенная кровь живого воспоминания для того, чтобы наделить образ языком, при посредстве которого он, оставаясь всё-таки тщетным и эфемерным, вырывает себя из мифической немоты. Лишь благодаря тому, что субъективность, познавая ничтожность образов, овладевает самой собой, она обретает, отчасти, ту надежду, которую напрасно обещают ей образы. Обетованная земля Одиссея — это не архаическое царство образов. Все эти образы как тени мира мёртвых открывают в конечном итоге ему свою истинную сущность — то, что они являются видимостью. Он становится свободным от них после того, как однажды опознает их в качестве мёртвых и с барским жестом сохраняющего самого себя отказывает им в той жертве, которую он отныне приносит только тем, кто предоставляет ему знание, полезное его жизни, в котором власть мифа утверждает себя уже только имагинативно, будучи пересаженной в дух. В глазах ионийца все это должно было выглядеть в высшей степени комичным. Но этот комизм, в зависимость от которого поставлено само примирение, предназначен не человеку, а разгневанному Посейдону. 57 Недоразумение должно рассмешить свирепого бога морской стихии, чтобы в его смехе растаял его гнев. Что является аналогом совета соседки у братьев Гримм, как матери избавиться от ребёнка-уродца: «Ей нужно принести уродца в кухню, посадить на плиту, развести огонь и вскипятить воду в двух яичных скорлупках: это рассмешит уродца, и как только он засмеётся, с ним будет покончено» 58. Смех — это заклятье вины субъективности, но той временной приостановкой прав, о которой он заявляет; указывает он и на нечто, лежащее за пределами коллизии. Он предвещает путь к родине. Тоска по родине высвобождает ту авантюру, посредством которой субъективность, протоистория которой даётся «Одиссеей», выскальзывает из праисторического мира. В том, что понятие родины противостоит мифу, который фашисты хотели бы лживо перелицевать в родину, и заключается глубочайшая парадоксальность эпопеи. Дефиниция Новалиса, в соответствии с которой вся философия есть ностальгия, правомерна лишь постольку, поскольку эта ностальгия не поглощается фантазмами утерянной древности, но представляет себе родину, саму природу в качестве сперва отнятой силой у мифа. Родина — это в-выскользнутости-бытие. Поэтому упрёк в том, что гомеровские сказания «возносятся над землёй», является порукой их истинности. «Они обращаются к человечеству» Примечания»>59. Пересадка мифов в роман так, как она осуществляется в приключенческом повествовании, не столько фальсифицирует их, сколько увлекает миф во временной поток, тем самым раскрывая бездну, которая отделяет его от родины и примирения. Ужасна та месть, на которую цивилизацией обрекается первобытный мир, и в этой мести, наиомерзительнейшее свидетельство которой встречается у Гомера в отчёте об изувечивании пастуха Меланфия, она уподобляется самому этому первобытному миру. То, благодаря чему она возвышается над ним, никоим образом не есть содержание рассказанных деяний. Это — самоосознавание, позволяющее прервать насилие в момент рассказа. Сама речь, язык в противоположность мифическому пению — вот что является законом гомеровского выскользновения. Вовсе не случайно им вновь и вновь вводится в качестве рассказчика ускользающий герой. Лишь холодная дистанция рассказа, который даже об ужасном повествует так, как если бы оно было предназначено для развлечения, позволяет в то же время выявить себя тому ужасу, который в песнопении торжественно сплетался с судьбой. В XXII песне «Одиссеи» описано наказание, которому повелевает подвергнуть неверных служанок, впавших в гетеризм, сын островного владыки. С невозмутимым хладнокровием, по своей бесчеловечности сравнимом разве что с impassibilite великих рассказчиков девятнадцатого столетия, изображена тут участь казнимых, невыразительно уподобляемая смерти птиц в сетях, что сопровождается тем безмолвием, оцепенелость которого представляет собой подлинный остаток всякой речи. Им завершается строфа, повествующая, что повешенные друг подле друга «немного подергав ногами, все разом утихли» 60. С тщательностью, от которой веет холодом анатомирования и вивисекции Примечания»>61, ведётся тут рассказчиком протокол конвульсий казнимых, низвергаемых во имя правопорядка и законности в тот мир, откуда невредимым возвратился их судия Одиссей. Рак бюргер, размышляющий о казни, Гомер утешает и себя и своих слушателей, являющихся, собственно говоря, читателями, уверенно констатируя, что это длилось недолго, всего лишь одно мгновение — и все было кончено. 62 Однако после этого «не долго» останавливается внутренний поток повествования. Не долго? — вопрошает жест рассказчика и уличает свою безучастность во лжи. Приостанавливая повествование, жест этот препятствует тому, чтобы казнённые были забыты, и раскрывает неизъяснимую бесконечную муку той единственной секунды, в течение которой служанки борются со смертью. В качестве эхо от Не Долго не остаётся ничего, кроме Quo usque tandem, оскверняемого позднее как ни в чём не бывало риторами, тем самым приписывавшими самим себе снисходительность. Для конфликта праисторических времён, варварства и культуры у Гомера имеется утешительная присказка-памятование: В некотором царстве, в некотором государстве жили-были… Лишь как роман превращается эпос в сказку. |
Чему «Одиссея» Гомера может научить нас возвращению в мир после года изоляции
Чему «Одиссея» Гомера может научить нас возвращению в мир после года изоляции
Иллюстрация/Джессика ТэнниДжоэл Кристенсен, BA/MA ‘014 мая 2021 г.
Джоэл Кристенсен — адъюнкт-профессор классических исследований в Брандейсе. Эта статья переиздана из The Conversation.
В древнегреческом эпосе «Одиссея» гомеровский герой Одиссей описывает дикую страну циклопов как место, где люди не собираются вместе на публике, где каждый принимает решения за свою семью и «ни о чем не заботится». друг друга.
Для Одиссея и его зрителей эти слова означают, что Циклоп и его люди нелюди. В отрывке также сообщается, как люди должны жить: вместе, в сотрудничестве, с заботой об общем благе.
За последний год мы стали свидетелями насилия со стороны полиции, все более тенденциозной политики и продолжающегося американского наследия расизма во время определяющей поколение пандемии. И у многих это наблюдалось, порой, в изоляции дома. Я беспокоюсь о том, как мы можем исцелиться от нашей коллективной травмы.
Как учитель греческой литературы я склонен обращаться к прошлому, чтобы понять настоящее. Я нашел утешение в гомеровском эпосе «Илиада» и его сложных представлениях о насилии после терактов 11 сентября. И я нашел утешение в Одиссее после неожиданной смерти моего отца в 61 год, в 2011 году.
Точно так же Гомер может помочь нам вернуться в наши обычные миры после года минимизации социальных контактов. Я также считаю, что он может дать рекомендации о том, как люди могут исцеляться.
Разговор и узнавание
Когда Одиссей, герой троянской войны, который возвращается домой через 10 лет, впервые появляется в эпосе, он плачет на берегу изолированного острова, за которым наблюдает богиня Калипсо, чье имя означает «тот, кто прячется», далее подчеркивает его обособленность и обособленность.Чтобы добраться от этого бесплодного берега до своего семейного очага, Одиссею нужно снова рискнуть своей жизнью в море. Но в процессе он также заново открывает для себя, кто он есть в этом мире, воссоединяясь со своей семьей и своим домом, Итакой.
Разговор занимает центральное место в сюжете. В то время как прибытие Одиссея на Итаку наполнено действием — он переодевается, расследует преступления и убивает преступников — на самом деле вторая половина эпоса разворачивается медленно. И многое из этого происходит через разговоры между персонажами.
Когда Одиссей, замаскированный под нищего, получает убежище от своего ничего не подозревающего слуги Эумайоса, они вдвоем долго разговаривают, рассказывая правдивые и ложные истории, чтобы раскрыть, кто они на самом деле. Евмей приглашает Одиссея следующими словами: «Наслаждаемся страшными муками нашими: ибо спустя время человек находит радость и в страдании, после того как скитался и много страдал».
Евмей приглашает Одиссея следующими словами: «Наслаждаемся страшными муками нашими: ибо спустя время человек находит радость и в страдании, после того как скитался и много страдал».
Может показаться странным, что воспоминания о боли могут доставлять удовольствие. Но то, что показывает нам «Одиссея», — это сила рассказа наших историй.Удовольствие приходит от осознания того, что боль позади, но оно также приходит от понимания того, какое место мы занимаем в этом мире. Это чувство принадлежности отчасти возникает из-за того, что другие люди знают о том, что мы пережили.
Когда Одиссей, наконец, через 20 лет воссоединяется со своей женой Пенелопой, они занимаются любовью, но затем Афина, покровительница Одиссея и богиня мудрости и войны, удлиняет ночь, чтобы они могли с удовольствием рассказать друг другу обо всем, что они пережили. Удовольствие заключается в моментах обмена.
Исцеляющие слова
В прошлом году я фантазировала о моментах воссоединения, пока пандемия затягивалась. И я вернулся к воссоединению Одиссея и Пенелопы, размышляя, почему важен этот разговор и какую функцию он выполняет.
И я вернулся к воссоединению Одиссея и Пенелопы, размышляя, почему важен этот разговор и какую функцию он выполняет.
Разговорная терапия была важной частью психологии на протяжении столетия, но разговоры и рассказывание историй постоянно формируют людей. Современный психологический подход нарративной терапии, впервые предложенный психотерапевтами Майклом Уайтом и Дэвидом Эпстоном, может помочь нам лучше понять это.
Нарративная терапия утверждает, что многое из того, что мы страдаем эмоционально и психологически, проистекает из историй, в которые мы верим, о нашем месте в мире и нашей способности влиять на него. Уайт показывает, как зависимости, психические заболевания или травмы мешают некоторым людям вернуться к своей жизни. В этих и других ситуациях может помочь нарративная терапия. Это заставляет людей пересказывать свои собственные истории, пока они не поймут их по-другому. Как только люди смогут переосмыслить то, кем они были в прошлом, у них появится больше шансов наметить свой курс в будущем.
«Одиссея», я думаю, тоже об этом знает. Как я утверждаю в своей недавней книге «Многодушный человек», Одиссей должен рассказать свою собственную историю, чтобы сформулировать для себя и своей аудитории свои переживания и то, как они изменили его.
Одиссею потребовался один длинный вечер, но четыре книги стихов, чтобы рассказать историю своего путешествия, уделяя особое внимание решениям, которые он принял, и боли, которую он и его люди пережили. Переосмысление прошлого и понимание своего места в нем подготавливает героя к встрече с будущим.Когда Одиссей пересказывает свою собственную историю, он прослеживает свои страдания до момента, когда он ослепил одноглазого великана Полифема и хвастался этим.
Сосредоточив свое действие на начале своей истории, Одиссей вооружается чувством контроля — надеждой, что он сможет повлиять на грядущие события.
Возвращение в мир
Здесь есть важный отголосок идей, встречающихся в других местах греческой поэзии: Нам нужны врачи от недугов тела и разговоры от болезней души.
После прошедшего года некоторым из нас может быть трудно выражать оптимизм. Действительно, я прошел через это безрадостное состояние в своей собственной жизни, когда мне пришлось присутствовать на виртуальных похоронах моей бабушки в прошлом году, и я чувствовал, что мы не чтим должным образом наших умерших. Но этой весной, когда мы приветствовали появление на свет нашего третьего ребенка, моя история сменилась надеждой, когда я посмотрел ей в глаза.
В данный момент я считаю, что, подобно Одиссею, нам нужно найти время, чтобы рассказать друг другу наши истории и по очереди выслушать.Если мы сможем рассказать о том, что произошло с нами за последний год, мы сможем лучше понять, что нам нужно, чтобы двигаться к лучшему будущему.
Одиссея – Иллюстрация Гарета Хайндса
Бессмертная эпическая поэма Гомера — мой самый популярный графический роман. Он пересказывает полную историю приключений Одиссея на 250 страницах полностью нарисованного искусства. Текст является моей собственной адаптацией, основанной на нескольких разных переводах. Как и во всех моих адаптациях, он остается очень верным оригинальному тексту.
Текст является моей собственной адаптацией, основанной на нескольких разных переводах. Как и во всех моих адаптациях, он остается очень верным оригинальному тексту.
2010 г., Candlewick Press, 256 стр., полноцветный – ЗАКАЗАТЬ ПОДПИСАННУЮ КОПИЮ
в мягкой обложке 14,99 долл. США ISBN 978-0763642686
в твердом переплете 24,99 долл. США ISBN 978-0763642662
Примеры страниц:
«Мифические испытания редко бывают более изнурительными или подлинными… великолепный пример способности Хайндов сочетать исторические приключения с человеческим пониманием». – Обзор со звездочкой в списке книг
«Хиндс добавляет еще одну великолепную адаптацию к своему творчеству… читатели переносятся в мир, в котором легко сочетаются реалистичность и фантастика.— Киркус снял отзыв
«В этих образах богов и героев, монстров и волшебниц оживает безвременное прошлое» — обзор Horn Book со звездочкой
«Глубина диалогов, выдающаяся индивидуальность персонажей, терпеливо и с любовью проработанный переход между кадрами… делают работу доступной». – обзор со звездочкой BCCB
– обзор со звездочкой BCCB
«Моим ученикам ПОНРАВИЛОСЬ читать «Одиссею», и они НАМНОГО лучше справились со своим модульным тестом (который я совсем не изменил по сравнению с тем, который использую с обычным текстом).Эта книга — восторг!» – Рецензент учителя на BarnesandNoble.com
Booklist Десять лучших графических романов для молодежи
ALA Великие графические романы для подростков
BCCB Blue Ribbon Winner
Library Media Connection «Лучшие из лучших» графические романы
SLJ Battle of the Books Contender
Инди Next List
Список графических романов Texas Maverick
Материал:
Одиссея нарисована карандашом и акварелью на акварельной бумаге холодного отжима.Черновые макеты, а также окончательный шрифт, границы панелей, воздушные шары и звуковые эффекты были выполнены в цифровом виде.
Сообщения в блоге Odyssey
Обработка видеороликов
Руководство для учителя
Краткое содержание Одиссеи — Сюжет Одиссеи
Краткое изложение Одиссеи
Спустя годы после окончания Троянской войны греческий герой Одиссей все еще не вернулся домой на Итаку. Большинство людей считают, что он мертв. Но мы этого не делаем: Гомер сразу сообщает нам, что Одиссея держат как (добровольно) сексуального пленника на острове богини Калипсо.О, и морской бог Посейдон злится на Одиссея и не видит причин отпускать его домой.
Большинство людей считают, что он мертв. Но мы этого не делаем: Гомер сразу сообщает нам, что Одиссея держат как (добровольно) сексуального пленника на острове богини Калипсо.О, и морской бог Посейдон злится на Одиссея и не видит причин отпускать его домой.
Вернувшись на Итаку, жена Одиссея Пенелопа сталкивается с толпой нежелательных женихов. Сын Одиссея и Пенелопы, Телемах, теперь типичный капризный подросток, получает визит от богини Афины (которая всегда дружила с Одиссеем). Она говорит ему отправиться на поиски новостей о его пропавшем отце, поэтому он направляется в Пилос, чтобы навестить короля Нестора. Нестор принимает его, угощает ужином, а затем велит ему отправиться к царю Менелаю в Спарту.Он снова делает то, что ему говорят.
В Спарте Телемах узнает от Менелая, что Одиссей жив и… здоров и содержится в плену на острове Калипсо. Менелай также рассказывает Телемаху о том, как его брат, царь Агамемнон, был убит, когда вернулся домой из Трои, неверной женой Клитайместрой и ее любовником Эгисфом. Зато круто: убийц убил сын Агамемнона Орест. Эта забавная история поднимает вопрос о том, будет ли убит Одиссей, когда он вернется домой, и если да, то отомстит ли Телемах за смерть своего отца.Тем временем, вернувшись в Итаку, женихи Пенелопы замышляют устроить засаду и убить Телемаха, когда он вернется домой. О, напряжение!
Зато круто: убийц убил сын Агамемнона Орест. Эта забавная история поднимает вопрос о том, будет ли убит Одиссей, когда он вернется домой, и если да, то отомстит ли Телемах за смерть своего отца.Тем временем, вернувшись в Итаку, женихи Пенелопы замышляют устроить засаду и убить Телемаха, когда он вернется домой. О, напряжение!
На горе Олимп, где обитают все боги, богиня Афина просит своего отца, Зевса, царя богов, сжалиться над Одиссеем и заставить Калписо освободить его. Зевс говорит что угодно, и вскоре Одиссей уплывает на импровизированном плоту.
К несчастью, Посейдон нагоняет бурю, и вместо того, чтобы вернуться домой, Одиссея выбрасывает на берег в стране фаяков.К счастью, Афина заставляет местную принцессу Наусику влюбиться в него. Наусикаа забирает его домой, чтобы познакомиться со своими родителями, королем и королевой Файакии. В обмен на их гостеприимство Одиссей рассказывает им (и нам) обо всем, что произошло с ним после окончания Троянской войны, а именно:
Одиссей покинул Трою на корабле своих итакских людей. На первой же остановке они разграбили вещи местных жителей. Через несколько дней, брошенных штормом, они высадились на острове Пожирателей Лотосов.Несколько парней съели цветок лотоса (то есть все наркотики, о которых вас когда-либо предупреждали ваши родители), забыли свои дома и семьи, и их пришлось силой доставить обратно на корабль.
На первой же остановке они разграбили вещи местных жителей. Через несколько дней, брошенных штормом, они высадились на острове Пожирателей Лотосов.Несколько парней съели цветок лотоса (то есть все наркотики, о которых вас когда-либо предупреждали ваши родители), забыли свои дома и семьи, и их пришлось силой доставить обратно на корабль.
Далее Одиссей и его люди пришли в страну гигантских одноглазых циклопов. Они наткнулись на пещеру Циклопов, и местный Циклоп (Полифем) запечатал вход в пещеру огромным валуном и съел нескольких Итаканцев. Не круто. Одиссей применил свой запатентованный трюк и сумел ослепить чудовище; На следующее утро он и его люди сбежали, проехав под животом стада овец Полифема.
Но когда Одиссей уплыл со своими людьми, его эго взяло верх над ним. Он насмехался над Циклопом, называя ему свое настоящее имя. Оказывается, Полифем был сыном Посейдона, бога моря. Упс. Думаю, именно поэтому Посейдон так ненавидит нашего героя.
Затем Одиссей и его люди прибыли на остров Айолоса, бога ветра. Он помог Одиссею, поместив все ветры — кроме нужного им западного бриза — в симпатичный маленький мешочек. К сожалению, Одиссей не сказал своим людям, что в сумке.По дороге домой они открыли его, думая, что он полон сокровищ. Большая ошибка. Все ветры вырвались наружу и разбушевались, загнав их на остров волшебницы Цирцеи, которая многих мужчин превратила в свиней.
Он помог Одиссею, поместив все ветры — кроме нужного им западного бриза — в симпатичный маленький мешочек. К сожалению, Одиссей не сказал своим людям, что в сумке.По дороге домой они открыли его, думая, что он полон сокровищ. Большая ошибка. Все ветры вырвались наружу и разбушевались, загнав их на остров волшебницы Цирцеи, которая многих мужчин превратила в свиней.
С помощью богов Одиссей вернул своих людей в людей и занялся сексом с Цирцеей. В течение года. Наконец, один из его людей сказал: «Мы можем уже идти?», и Одиссей сказал: «Хорошо». Подождите — сначала им нужно было отправиться в Подземный мир и получить совет от пророка Тиресия.(Только не спрашивайте дорогу у Apple Maps.)
В Подземном мире Тиресий предсказал, что Одиссей доберется до дома, но не без труда. Одиссей говорил с несколькими другими известными мертвыми людьми (например, со своими военными приятелями Ахиллеем и Агамемноном). Он также встретил призрак своей матери Антиклеи, которая умерла от горя из-за длительного отсутствия сына. Затем, после быстрой остановки на острове Цирцеи, чтобы узнать больше направлений (кто сказал, что мужчины не спрашивают дорогу?), Одиссей и его люди отправились в путь, чтобы испытать серию приключений:
Затем, после быстрой остановки на острове Цирцеи, чтобы узнать больше направлений (кто сказал, что мужчины не спрашивают дорогу?), Одиссей и его люди отправились в путь, чтобы испытать серию приключений:
(1) Когда они прошли мимо сирен , чудовищные женщины с красивыми голосами, которые пытаются заманить моряков на смерть, Одиссей заставил своих людей заткнуть уши и привязать его к мачте, чтобы он мог слушать песню, не преследуя ее.Он стал единственным человеком, который услышал песню сирен и выжил.
(2) Далее им встретились два ужасных чудовища (любопытно, тоже женского пола) по имени Скилла и Харибда. Как и предсказывала Цирцея, Скилла (у которой шесть голов) съела шесть Итаканцев; остальные едва избежали Харибды (гигантского вихря, который всасывает море и снова извергает его).
(3) Затем они высадились на острове Гелиоса, бога солнца, где содержался его особенный скот. Несмотря на предупреждение Тиресия и Цирцеи не есть скот, люди Одиссея не могли контролировать свой голод. Плохой звонок. Вскоре после этого все погибли во время шторма, кроме Одиссея.
Плохой звонок. Вскоре после этого все погибли во время шторма, кроме Одиссея.
(4) Но его ждала собственная неудача: он оказался на острове Калипсо, чтобы провести в плену семь лет, прежде чем выйти на свободу и потерпеть кораблекрушение с фаяками, где он и рассказывает эту историю.
Вот и вся история Одиссея с фаяками. Они настолько тронуты его страданиями, что нагружают его сокровищами и переправляют обратно на Итаку. (К сожалению, в ответ на их хлопоты бог Посейдон превращает их и их корабль в камень.) Но веселье еще не закончилось — ему еще предстоит разобраться со всеми этими надоедливыми женихами.
Когда Одиссей возвращается домой, Афина переодевает его нищим, чтобы он мог разобраться в ситуации. Затем Одиссей обращается за помощью к свинопасу Евмею, который укрывает его на ночь, пока Афина летит в Спарту, чтобы забрать Телемаха. Когда Телемах возвращается, Одиссей открывается своему сыну, а затем направляется во дворец, все еще переодетый нищим. Не раскрывая своей истинной личности, он пытается убедить Пенелопу, что Одиссей направляется домой, и выясняет, кто из его слуг все еще верен дому, а кто присоединился к женихам.
К настоящему времени Пенелопа решает действовать: она выйдет замуж за победителя содержания физической доблести. Соревнование? Натяните старый лук Одиссея и прострелите им головы двенадцати топоров. Вы можете догадаться об остальном: все пытаются и терпят неудачу, пока нищий (переодетый Одиссей) не подходит. Ему это удается, он сбрасывает маскировку и с помощью Телемаха, нескольких верных слуг и защиты Афины убивает всех женихов в массовой и кровавой бойне. Одиссей воссоединяется со своей женой, и все возвращается на круги своя, за исключением того, что он только что убил всех молодых дворян Итаки, а их родители в ярости.
На следующее утро Одиссей покидает дворец, воссоединяется со своим отцом Лаэртом и залегает на дно, пока разгневанные мамы и папы начинают искать мести. Как раз в тот момент, когда кажется, что надвигается новое насилие, появляется Афина и спрашивает, почему мы все не можем поладить. Всем это кажется отличной идеей, и мир в Итаке восстановлен.
Узнайте больше об этом игровом режиме AC Odyssey
Игры Assassins Creed огромны, так как игроки в конечном итоге тратят более 50 часов на кампанию, а некоторые даже тратят около 200 часов, просто чтобы пройти игру на 100%. Даже после того, как игрок закончил все, у него еще есть что сделать, игра на этом не останавливается. Игроки могут либо опробовать DLC для игры, либо опробовать режим создания истории в AC Odyssey.
Даже после того, как игрок закончил все, у него еще есть что сделать, игра на этом не останавливается. Игроки могут либо опробовать DLC для игры, либо опробовать режим создания истории в AC Odyssey.
Также читайте: AC Odyssey Honoring The Dead Quest; Узнайте, как выполнить этот квест
Также читайте: AC Odyssey Fatal Attraction Ainigmata Ostraka Расположение и решение загадки
AC Odyssey Story Режим создания
Режим создания истории AC Odyssey позволяет игроку проходить уровни, созданные другими игроками.Это продлевает жизнь игры и дает игрокам возможность создавать уровни, а также опробовать миссии и квесты, созданные другими игроками.
В режиме Story Creator в AC Odyssey игроки смогут создавать свои собственные истории с любимыми историческими и вымышленными персонажами из Assassin’s Creed Odyssey и сопровождать их геймплеем, рукописными диалогами и различными заданиями. Они также могут выбирать из набора знакомых целей квеста, чтобы создавать веселые и сложные истории. Интерфейс Story Creator доступен только на английском языке.
Интерфейс Story Creator доступен только на английском языке.
Где находится Эльпенор на карте Фокиды
Когда игроки завершат квест «Змеи в траве», Эльпенор, один из главных героев ошибется в отношении игроков и исчезнет. После того, как Эльпенор исчезнет, он тоже исчезнет с карты. Игроки не найдут маркер квеста, указывающий на местонахождение Эльпенора, и игроки будут думать, как найти Эльпенора. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как найти Эльпенора в AC Odyssey:
.- Эльпенор исчез, но он все еще находится в Фокиде, и его могут найти игроки.
- Игроки должны отправиться в Долину Змеи в Фокиде
- Здесь им понадобится помощь Икароса, их дружелюбного глаза в небе.
- Чтобы использовать Икарос, игрокам нужно нажать стрелку вверх на крестовине, затем они могут использовать R2/RT для увеличения скорости полета и использовать L2/LT для выделения областей и врагов
- Игроки должны использовать Икарос, чтобы найти Храм Змеи, поскольку там прячется Эльпенор.

- Змеиный храм находится внутри пещеры, поэтому найти вход может быть сложно. Игроки могут снова воспользоваться помощью Икароса, чтобы выделить врагов и следовать за ним, чтобы найти вход в пещеру.
- По пути игрокам придется сражаться с несколькими охранниками, пока они не доберутся до Эльпенора.
- Эльпенор сражается как наемник, поэтому победить его может быть сложнее, чем обычно. Победите его, чтобы начать следующий квест.
Найти Эльпенора на карте сложно, так как нет способа узнать его фактическое местонахождение. Нет никаких подсказок или расследований, в которых игроки могут принять участие, чтобы выяснить, где прячется Эльпенор. Им просто нужно искать его по старинке и наткнуться на его местонахождение, исследуя Фокиду.К счастью, это руководство Assassins Creed Odyssey избавит вас от рутинной работы.
Также читайте: Руководство AC Odyssey: изучите местоположение и решение Ainigmata Ostraka Goats Gruff
Читайте также: Руководство AC Odyssey: сможете ли вы спасти Брасидаса? Вот еще об этом
История | Потерянная Одиссея Вики
Lost Odyssey — это история Каима, бессмертного человека, прожившего более 1000 лет. Он не помнит своего прошлого и не знает, где его будущее.На протяжении всего путешествия Каима несколько персонажей присоединятся к нему в одиссее, чтобы узнать свое запутанное прошлое и судьбу, ведя игроков через драматическую историю огромного масштаба.
Он не помнит своего прошлого и не знает, где его будущее.На протяжении всего путешествия Каима несколько персонажей присоединятся к нему в одиссее, чтобы узнать свое запутанное прошлое и судьбу, ведя игроков через драматическую историю огромного масштаба.
Игроки станут свидетелями жизни Каима, поскольку он живет через многие поколения, становится частью многочисленных семей, влюбляется и разочаровывается и сталкивается со всеми возникающими конфликтами. Борьба Каима разворачивается в мире, который находится на пороге «мистической промышленной революции», когда человечество обрело темные силы.
Во время игры часть повествования будет происходить в виде сборника рассказов под названием «Тысяча лет снов», в которых рассказывается о прошлых переживаниях Каима, как хороших, так и плохих.
Внимание, впереди спойлеры!История игры[]
Диск 1[]
История начинается с бессмертного человека по имени Каим в решающей битве между Волшебной Республикой Ухра и Кентом в горах Воль. В разгар битвы небо становится зловещим черным как смоль, а над полем битвы таинственным образом появляется гигантский метеор.Метеор проливает дождь из расплавленной лавы с небес, прежде чем рухнуть на поле под ним. Все войска по обе стороны конфликта вблизи места удара полностью уничтожены.
В разгар битвы небо становится зловещим черным как смоль, а над полем битвы таинственным образом появляется гигантский метеор.Метеор проливает дождь из расплавленной лавы с небес, прежде чем рухнуть на поле под ним. Все войска по обе стороны конфликта вблизи места удара полностью уничтожены.
Уранский совет подозревает утечку магической энергии из Великого Посоха («магический двигатель», строящийся в Море Бауса), который несет ответственность за метеорит. Поскольку он бессмертен, Каим был одним из немногих выживших из метеоритного кратера, и поэтому был вызван в совет. На вопрос, как именно он выжил, Каим признается, что не знает.Гонгора, который ручается за этого человека, заявляет, что он находится под действием заклинания бессмертия, которое он (Гонгора) наложил на него. На вопрос о секретах заклинания Гонгора объясняет, что заклинание проклято и что все, кто о нем услышит, вскоре после этого умрут. Совет верит Гонгоре на слово по этому поводу и больше не задает вопросов. Совет, потерявший связь со строительством в Гранд Штабе, приказывает Каиму провести расследование и вернуться с подробным отчетом. Совет единогласно голосует за приостановку строительства Великого штаба до возвращения Каима, что очень не нравится Гонгоре, и, кроме того, помещает Гонгору под домашний арест и отстраняет его от участия в совете.Каиму приказывают взять с собой Сета, еще одного бессмертного, пережившего метеорит. Гонгора, у которого есть таинственная связь с Каимом, позже приказывает ему взять с собой наемника Янсена в Великий Штаб.
Совет единогласно голосует за приостановку строительства Великого штаба до возвращения Каима, что очень не нравится Гонгоре, и, кроме того, помещает Гонгору под домашний арест и отстраняет его от участия в совете.Каиму приказывают взять с собой Сета, еще одного бессмертного, пережившего метеорит. Гонгора, у которого есть таинственная связь с Каимом, позже приказывает ему взять с собой наемника Янсена в Великий Штаб.
Той ночью Каиму снится кошмар, в котором он видит, как молодая девушка прыгает со скалы. Намекнули, что эти странные кошмары — фрагменты его прошлого.
Ура недавно стала республикой. Толтен является наследником престола и стал бы королем, если бы Ухра все еще была монархией.Толтен — честный и доверчивый, хотя и наивный персонаж. Хотя Толтен согласился на то, чтобы Ухра стала республикой, Гонгора предупреждает его, что другие могут все еще сопротивляться. Позже Гонгора врывается в логово принца и бросает свой суп на пол, скармливая его крысе, которую убивает изнутри растениеподобное существо, обитавшее в супе.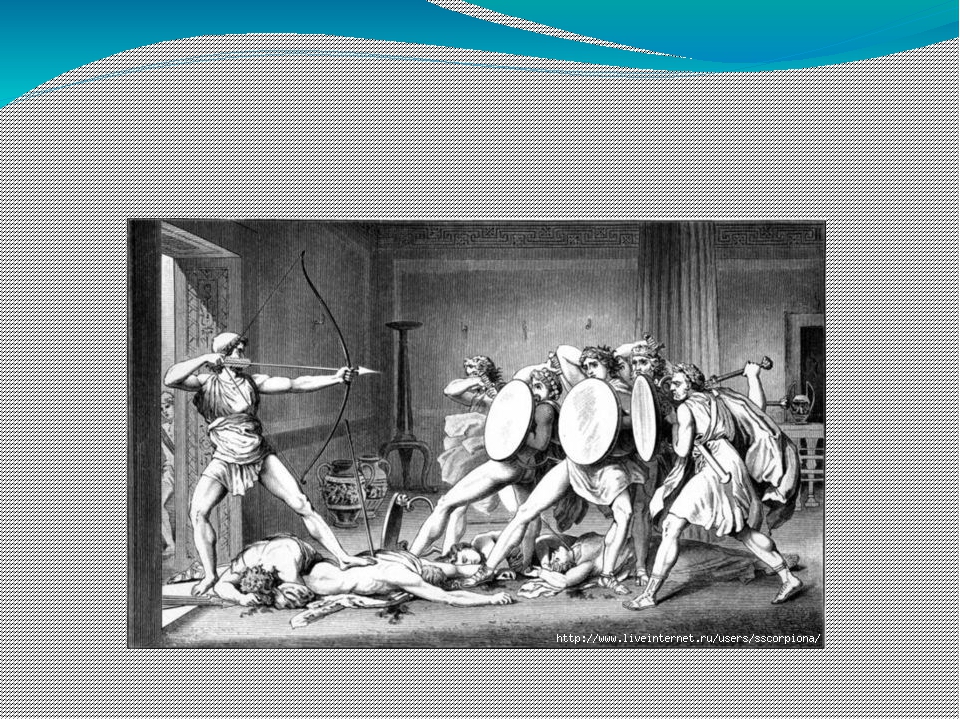 Затем Гонгора сжигает существо и суп заклинанием Flare. Толтен смиренно благодарит Гонгору за спасение его жизни. Гонгора утверждает, что горд помочь его величеству, однако позже он расплачивается со слугой, приготовившим суп, по очевидной схеме, запланированной колдуном.
Затем Гонгора сжигает существо и суп заклинанием Flare. Толтен смиренно благодарит Гонгору за спасение его жизни. Гонгора утверждает, что горд помочь его величеству, однако позже он расплачивается со слугой, приготовившим суп, по очевидной схеме, запланированной колдуном.
Расследование Великого Штаба прерывается импровизированным нападением армии Нумары под предводительством генерала Каканаса. Каим, Сет и Янсен взяты в плен на борту «Белого удава». Находясь в тюрьме, Каиму снится еще один кошмар, похожий на предыдущий, на этот раз показывающий Каима и женщину, плачущую после прыжка девушки, и темную фигуру вдалеке. Янсен использует волшебный кристалл, который стирает память жертвы и был дан ему Гонгорой, на охранника, чтобы сбежать из их камеры (хотя ему было приказано использовать его на Каиме или Сете, если их воспоминания начали возвращаться).Во время побега к Сету возвращаются воспоминания о королеве Нумары, вспоминая, что когда-то они были друзьями. Их попытка побега терпит неудачу, но они освобождаются, как только достигают Нумары. Каканас надеется, что, освободив их и тайно следуя за ними, они приведут Нумару к дополнительной информации об Ухре и Великом Посохе. Каканас настаивает на том, чтобы Нумара готовился к войне против Ухры, и начинает готовиться к войне, к большому недовольству желаний Мина, который хочет оставаться в изоляции.
Каканас надеется, что, освободив их и тайно следуя за ними, они приведут Нумару к дополнительной информации об Ухре и Великом Посохе. Каканас настаивает на том, чтобы Нумара готовился к войне против Ухры, и начинает готовиться к войне, к большому недовольству желаний Мина, который хочет оставаться в изоляции.
Затем Каим, Сет и Янсен встречают Кука и Мака на цветочном поле, называемом нежной флорой, на окраине Нумары.Отбиваясь от солдат, издевавшихся над детьми, их приглашают в детский дом. Несколько воспоминаний возвращаются к Каиму, когда он встречает очень больную мать детей, Лирум. Лирум оказывается дочерью Каима, которая теперь физически старше Каима. Она также была девушкой во сне Каима, и женщина из этих снов оказалась Сарой, женой Каима и матерью Лирум. Каим также помнит, что Гонгора была темной фигурой. К сожалению, Лирум уже некоторое время была очень больна и находилась на смертном одре, когда прибыл Кайм.Увидев отца в последний раз, Лирум уходит из жизни, доверив своих детей Каиму. Каим понимает, что Гонгора несет ответственность за его потерянные воспоминания, и что Сара тоже бессмертна. Восстановив часть своей памяти, Каим решает отправиться на поиски Сары.
Каим понимает, что Гонгора несет ответственность за его потерянные воспоминания, и что Сара тоже бессмертна. Восстановив часть своей памяти, Каим решает отправиться на поиски Сары.
Вернувшись в Уру, председатель Роксиан нападает на Толтена, и Толтен защищается, убивая председателя. Прибывает Гонгора и убеждает Толтена, что они должны заявить, что смерть Роксиана была несчастным случаем, и что Толтен должен принять свою роль короля.Однако роксианец, которого убил Толтен, на самом деле был монстром, вызванным Гонгорой, а настоящий роксианец был съеден змеей под контролем Гонгоры.
После похорон Лирума Мак уходит в Багровый Лес, где якобы можно пообщаться с мертвыми. Багровый Лес проклят войной, начатой 500 лет назад Восточным Племенем. Мак оказывается одержимым злым духом леса. После того, как группа спасает Мака, появляется ветер, который сначала резкий, но вскоре становится мягким, и вокруг начинают цвести цветы.Дети верят, что ветер – это знак от их матери. Позже Мака охватывает чувство беспокойства, и Сет объясняет, что он стал богатым в силах Восточного племени в результате одержимости духами в лесу.
Диск 2[]
Когда они возвращаются в Нумару, они видят глобальное объявление о претензиях Толтена на трон Ухры и о том, что Гонгора назначен королевским советником. В объявлении также показано, что армия Нумары готовится к войне против Ухры, по-видимому, с точки зрения Янсена, что заставляет группу подозревать Янсена в шпионаже.Генерал Каканас нападает на группу, Каим убеждает Кука и Мака бежать, а остальные добровольно заключаются в тюрьму как шпионы, чтобы поговорить с Минг.
Нумаранский колдун удаляет шпионский глаз из правого глаза Янсена. Янсен утверждает, что не знал о шпионском глазе. Несмотря на то, что нумаранский колдун подтверждает заявление Янсена о том, что он не знал о шпионском глазе, Каканас приказывает убить Каима, Сета и Янсена. Однако Кук и Мак возвращаются и произносят заклинание, в котором Каканас и несколько солдат раздеваются до нижнего белья.В суматохе сбегают в спальню Мин. Каканас догоняет их, но они убегают, делая вид, что берут Мина в заложники (сама Мин помогает побегу, упоминая секретный проход). Каканас снова перехватывает их с помощью танка, но терпит поражение. Мин, которая, как выясняется, знает Кука и Мак (они называют ее тетей Мин, потому что до игры с ней подружилась их мать), соглашается присоединиться к вечеринке, надеясь вернуть себе утраченные воспоминания.
Каканас снова перехватывает их с помощью танка, но терпит поражение. Мин, которая, как выясняется, знает Кука и Мак (они называют ее тетей Мин, потому что до игры с ней подружилась их мать), соглашается присоединиться к вечеринке, надеясь вернуть себе утраченные воспоминания.
Они крадут Slantnose, корабль, который готовят для Каканаса, когда его двигатель (который когда-то принадлежал Сету) восстанавливается.Мин в курсе того, что им известно на данный момент; Каим, Сет, она сама, Сара и Гонгора — бессмертные, посланные в этот мир для выполнения чего-то очень важного (но поскольку их воспоминания не вернулись полностью, они не могут вспомнить точную природу своих поисков). Бессмертные заключили тысячелетний пакт, однако в конце тысячи лет Гонгора предал пакт и группу. Поскольку они бессмертны, и он не может их убить, он взял у каждого из них что-то очень дорогое, пытаясь сломить их волю, а затем наложил на них заклинание, чтобы стереть их воспоминания.
Открыв часть своего прошлого, группа решает вернуться в Ухру и встретиться с Гонгорой. Однако, поскольку их нынешний корабль недостаточно силен, чтобы пересечь океан обратно в город, они решают отправиться за помощью к Гохце. Гоца считается передовой нацией в области науки и техники, поэтому партия уверена, что с помощью мудрого и доброжелательного короля Гоца они найдут корабль, который переправит их через океан.
Однако, поскольку их нынешний корабль недостаточно силен, чтобы пересечь океан обратно в город, они решают отправиться за помощью к Гохце. Гоца считается передовой нацией в области науки и техники, поэтому партия уверена, что с помощью мудрого и доброжелательного короля Гоца они найдут корабль, который переправит их через океан.
Группа прибывает в Тоску, небольшой портовый город, и обнаруживает, что Черная пещера (путь к Гохце) запечатана.Трактирщик сообщает им, что старая волшебница запечатала его и будет единственной, кто сможет снова его распечатать. Они находят старую волшебницу в старой резиденции Каима. Старая волшебница, которая оказывается Сарой, сошедшей с ума от воспоминаний о потере Лирума на Утесе, вернулась в свой старый дом, чтобы погрязнуть в своем отчаянии, заставив ее поддаться болезненным эмоциям. Хотя она попала в ловушку заклинания Гонгоры, доброта в ее сердце не угасла. Кук и Мак оживляют Сару, напевая семейную колыбельную.
Сара знает, что Каим ее муж, из журналов, которые она вела. Сара присоединяется к остальным и ломает печать в Черной пещере. В пещерах чувствуется темная сила, и обнаруживается, что она исходит из океана через Саман, небольшой торговый городок. Они берут небольшую лодку из Самана и направляются к силе, однако во время поездки попадают в засаду мутировавших морских существ. Вскоре после этого всех сбивает с ног яркий белый свет. Они просыпаются в экспериментальном штабе и встречаются с Гонгорой.Гонгора побеждает их в битве, а Толтен появляется на сцене после поражения группы. Гонгора уверяет Толтена, что остальные были убийцами, с которыми нужно было разобраться.
Сара присоединяется к остальным и ломает печать в Черной пещере. В пещерах чувствуется темная сила, и обнаруживается, что она исходит из океана через Саман, небольшой торговый городок. Они берут небольшую лодку из Самана и направляются к силе, однако во время поездки попадают в засаду мутировавших морских существ. Вскоре после этого всех сбивает с ног яркий белый свет. Они просыпаются в экспериментальном штабе и встречаются с Гонгорой.Гонгора побеждает их в битве, а Толтен появляется на сцене после поражения группы. Гонгора уверяет Толтена, что остальные были убийцами, с которыми нужно было разобраться.
Поскольку жизненно важные компоненты Experimental Staff готовы к перемещению в Grand Staff, Experimental Staff снесен. Затем Гонгора побеждает других бессмертных, лишая их сознания. Янсен, Мак и Кук остаются навсегда погрузиться во тьму. Однако детей пробуждает сила, которую они снова считают знаком Лирума.Затем дети будят остальных и убегают в лодку, а Экспериментальный персонал тонет в океане.
Диск 3[]
Группа возвращается в Саман после небольшого побега в Экспериментальном Штабе, и их корабль тонет сразу после того, как они достигают гавани. Когда они почти теряют надежду когда-либо добраться до Гохцы, они узнают, что сильное освещение, вызванное выпадением экспериментального персонала, растопило часть ледника, блокировавшего вход в Ледяной каньон.Когда путь расчищен, группа пробирается через Ледяной каньон, чтобы добраться до Гохцы.
По прибытии группа узнает, что им не разрешается входить без подтверждения гражданства. Вскоре после этого таинственная фигура роняет рядом с группой драгоценный камень, похожий на монету; Каим и Сара, которые, кажется, узнают монету, уходят, чтобы следовать за ним. Увидев прибытие королевского поезда, дети отправляются его осматривать. Сет, Янсен и Минг направляются к королевскому дворцу. Чтобы поговорить с королем, Мин вынуждена предъявить доказательства своей королевской родословной; она показывает охранникам королевский герб на груди, чтобы подтвердить свою личность.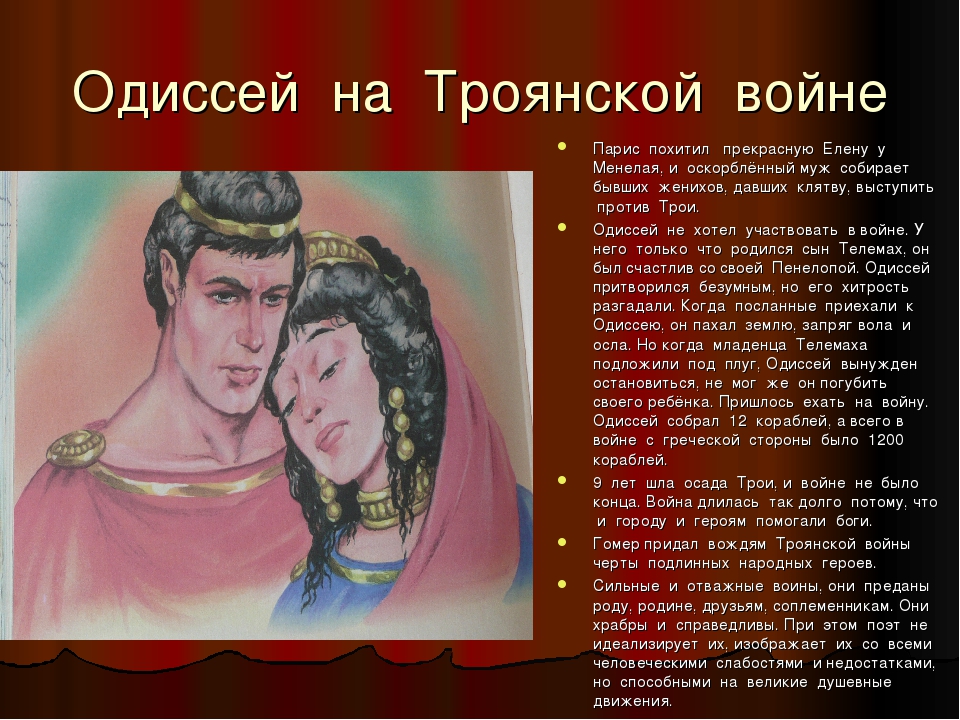 Наконец их впускают в тронный зал после того, как Сет и Янсен принуждают охранников у ворот. Однако человек, сидящий на троне, является лишь заместителем настоящего короля.
Наконец их впускают в тронный зал после того, как Сет и Янсен принуждают охранников у ворот. Однако человек, сидящий на троне, является лишь заместителем настоящего короля.
Настоящим королем Готцы была загадочная фигура из прошлого, а монета, которую он уронил, была сувениром, подаренным ему Каимом и Сарой 50 лет назад. На частной встрече с ним в многоквартирном доме в Нижнем городе Каим и Сара обнаруживают, что он устроил тайную встречу с королем Толтеном в последней попытке предотвратить войну. Король просит их присутствовать на встрече и служить его посредниками.Каим и Сара предупреждают его о зловещих планах Гонгоры захватить мир. Они также подтверждают, что Мин с ними.
Тем временем старушка рассказывает детям о Фиолетовой Авроре, таинственной силе, позволяющей живым общаться с духами усопших. Мак и Кук сразу же видят в этом шанс в последний раз побыть с матерью. Мак убеждает Кука украсть поезд и отправиться посмотреть на северное сияние. Пока дети отправляются на поиски Фиолетовой Авроры, фальшивый король сообщает Минг, Сету и Янсену о тайной встрече. Втроем они направляются к поезду и догоняют Каима и Сару. Услышав новость о том, что дети угнали поезд, отправляются на поиски Авроры; Каим и Сара немедленно идут за ними. Остальная часть группы отправляется на встречу в королевской карете.
Втроем они направляются к поезду и догоняют Каима и Сару. Услышав новость о том, что дети угнали поезд, отправляются на поиски Авроры; Каим и Сара немедленно идут за ними. Остальная часть группы отправляется на встречу в королевской карете.
На встрече Мин предупреждает Толтена о Гонгоре и Великом Посохе. Мин советует Толтену уничтожить Великий штаб, прежде чем снова произойдет еще одна катастрофа, подобная той, что произошла в Хайлендс-оф-Вол. Толтен утверждает, что Большой посох слишком важен, чтобы его можно было уничтожить, и король Гоца соглашается.Гонгора, который вернулся в Ухру, установил шпионский глаз на Толтена и использует магическое устройство, чтобы сказать Толтену, чтобы он согласился передать планы Великого штаба в Кенте и объявить о союзе с Гохтза. Толтен и король Гоца планируют построить для Гоца второй Великий посох, несмотря на протесты Мина.
Тем временем Гонгора публично объявляет Уре о завершении Великого посоха. Он также объявляет, что король Толтен тайно запланировал встречу с королем Готца, чтобы попытаться прийти к компромиссу и таким образом избежать войны. Гонгора ложно утверждает, что официальные лица Гохзана сообщили, что король Толтен заболел и быстро скончался, но информаторы Урана обнаружили, что их король был подставлен и убит. Затем Гонгора объявляет, что король Толтен, предвидевший его смерть, оставил его у власти.
Гонгора ложно утверждает, что официальные лица Гохзана сообщили, что король Толтен заболел и быстро скончался, но информаторы Урана обнаружили, что их король был подставлен и убит. Затем Гонгора объявляет, что король Толтен, предвидевший его смерть, оставил его у власти.
Он использует Великий посох, чтобы послать метеоритный дождь на флот Гоцана, стоящий в Кенте. Затем он вызывает массивную ледяную структуру в форме диска, которая перемещается над Гохцей, замораживая замок, город и всех, кто находится внутри.Затем Нижний город стал единственным обитаемым городом Гётцан. Поскольку королевская карета замерзает, король Гохца приказывает принять военный ответ. Уранский солдат произносит заклинание, чтобы вернуть Толтена обратно в Ухру, в которую Сет попадает во время хаоса в поезде. Мин высвобождает свою силу, чтобы не дать себе и Янсену замерзнуть. При этом ее воспоминания высвобождаются. Позже она вспоминает, что Гонгора заставил ее запереть собственные воспоминания, чтобы спасти свое королевство.
Тем временем ледяной дирижабль атакует поезд, украденный Каимом и Сарой, чтобы догнать детей, и они прыгают в детский поезд, когда их собственный разрушен.Они вместе находят детей, защищенных от замерзания заклинанием, которое наложил Кук. Сразу же рядом с ними оказался ледяной монстр, которого Каим и Сара убивают, чтобы спасти их. Затем Сара использует свою силу, чтобы разделить машину на две части. Детская половина останавливается, а половина с Каимом и Сарой на борту сталкивается с дирижаблем и взрывает его. Минг и Янсен отправляются по рельсам поезда на поиски остальных и находят детей. Тем временем в Ухре солдаты считают, что Толтен выдает себя за другое лицо, поскольку им сказали, что он мертв.Толтен и Сет видят трансляцию церемонии инициации Гонгоры, на которой должно состояться жертвоприношение преступников. Среди преступников великий пират Сед, сын Сета. Однако прежде чем преступников удается сжечь, подпольная армия Гохцана атакует. Сет и Толтен используют атаку, чтобы получить доступ к Небесному амфитеатру и спасти Седа. Сэд ведет их через канализацию, во время которой они видят, как Великий Посох улетает. Они находят корабль Седа, «Наутилус», и тоже убегают.
Сэд ведет их через канализацию, во время которой они видят, как Великий Посох улетает. Они находят корабль Седа, «Наутилус», и тоже убегают.
Сет использует кулон, который она дала Минг, чтобы отследить ее до Пылающей Пещеры.Минг, Янсен, Кук и Мак направились через пещеру, чтобы найти Каима и Сару, которые были заключены в тюрьму волшебным ледяным монстром. После победы над ним появляется «Наутилус» с группой Сета. Когда вся группа воссоединилась, они отправились уничтожать Гонгору.
Диск 4[]
Сет объясняет остальным, что Гонгора больше не в Ухре, а на борту Гранд Посоха. Сед предлагает найти древний храм восточного племени, где, как говорят, есть волшебный камень, который может усиливать магическую энергию.Несмотря на то, что группа получает волшебный камень для питания Наутилуса, они все еще не могут проникнуть через гипертоки из-за больших ледников, которые образовались вокруг основания Великого посоха из-за высокой плотности магической энергии в этом районе. Когда группа приближается к Нумаре, они становятся свидетелями возрождения артрозавра. Древний динозавр, похожий на зверя, который был выпущен Гонгорой после того, как Минг полностью восстановила свои воспоминания. Стая артрозавров устремляется к Нумаре. Группа может помешать их атаке на борту «Наутилуса».Мин предлагает вернуться в Нумару. Хотя Каканас захватил Нумару, он неожиданно приветствует ее возвращение. Однако с наступлением темноты он нападает на дворец. Подозревая это, дворец уже эвакуирован, и группа побеждает Каканаса. Мин просит своих фрейлин править во время их отсутствия, и группа ищет Великого посоха на борту Белого удава.
Когда группа приближается к Нумаре, они становятся свидетелями возрождения артрозавра. Древний динозавр, похожий на зверя, который был выпущен Гонгорой после того, как Минг полностью восстановила свои воспоминания. Стая артрозавров устремляется к Нумаре. Группа может помешать их атаке на борту «Наутилуса».Мин предлагает вернуться в Нумару. Хотя Каканас захватил Нумару, он неожиданно приветствует ее возвращение. Однако с наступлением темноты он нападает на дворец. Подозревая это, дворец уже эвакуирован, и группа побеждает Каканаса. Мин просит своих фрейлин править во время их отсутствия, и группа ищет Великого посоха на борту Белого удава.
Группа прибывает в Гранд Штаб, но не может встретиться с Гонгорой, которая улетает в верхней половине. Нижняя база тонет, и группа спрыгивает с нее в Белого Удава, чтобы спастись.Когда из океана выходит большой луч магической энергии, группа понимает, что Гонгора намеревается использовать Великий посох, чтобы совместить звезды с Зеркальной башней, а затем использовать Великий посох, чтобы уничтожить зеркала и разорвать связь между нормальным и бессмертным. миры. Они используют «Наутилус», чтобы врезаться в борт Великого штаба и сесть на него. Наконец они догоняют Гонгору, который продолжает овладевать Янсеном и манипулировать им, как марионеткой. Затем Великий посох сталкивается с Зеркальной башней. Гонгора освобождает Янсена и убегает в Башню, а группа возвращается к «Наутилусу», чтобы сбежать.
миры. Они используют «Наутилус», чтобы врезаться в борт Великого штаба и сесть на него. Наконец они догоняют Гонгору, который продолжает овладевать Янсеном и манипулировать им, как марионеткой. Затем Великий посох сталкивается с Зеркальной башней. Гонгора освобождает Янсена и убегает в Башню, а группа возвращается к «Наутилусу», чтобы сбежать.
Финальное противостояние происходит в Башне Зеркал. Свет от зеркал исходит из того же мира, из которого пришли бессмертные, что делает их смертными. Гонгора каким-то образом способна поглощать энергию излучаемого света. Сед, Янсен, Толтен и дети используют свою силу, чтобы создать темный щит, блокирующий свет. При этом бессмертные сражаются и побеждают Гонгору; Сет наносит последний удар, чтобы нокаутировать его. Во время битвы смертные оказались в ловушке собственного щита и начали умирать.Ослабленная Гонгора просыпается и заявляет о своей победе, поскольку единственный способ спасти смертных — уничтожить зеркала. Сет жертвует собой, чтобы протолкнуть Гонгору обратно в их родной мир, пока другие бессмертные разрушают зеркала.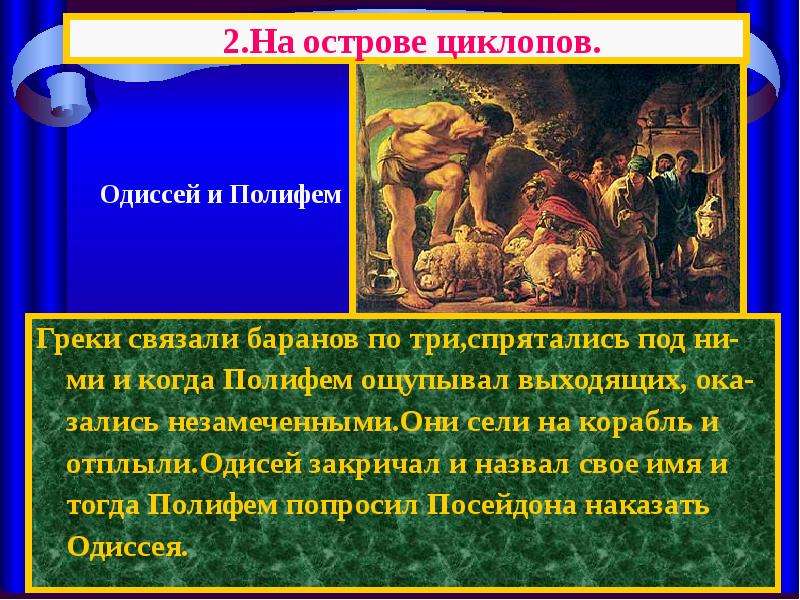
Позже Сара пишет письмо для Сета в своем дневнике, в котором пишет о том, что стало с остальными участниками группы и миром в целом. Сара, Каим и дети переехали на ферму. Сэд везет их на «Наутилусе» на свадебную церемонию, где король Толтен женится на Янсене и Минг.Финальная сцена игры происходит на Северном мысе, где Каим и Сара наблюдают за Куком и Маком. Пока Сара вслух задается вопросом, что ждет пару после того, как их обещание воспитать двоих до совершеннолетия было выполнено, Каим предлагает им всегда «попытаться прожить еще одно тысячелетие» — которое, как он надеется, будет наполнено более счастливыми воспоминаниями, чем прошлое.
БЕСПЛАТНОЕ учебное пособие-Одиссея Гомера-НАСТРОЙКА/СПИСОК ПЕРСОНАЖЕЙ-Бесплатные заметки по главам Краткое изложение глав онлайн Синопсис Темы эссе Учебное пособие
<- Предыдущая страница | Первая страница | Следующая страница -> Бесплатное учебное пособие-Одиссея Гомера-Бесплатная сводка заметок к книгеСодержание | Сообщение доска | для печати Версия | Бэрронс Книжные заметки
КЛЮЧЕВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
НАСТРОЙКА
Действие происходит в Древней Греции, .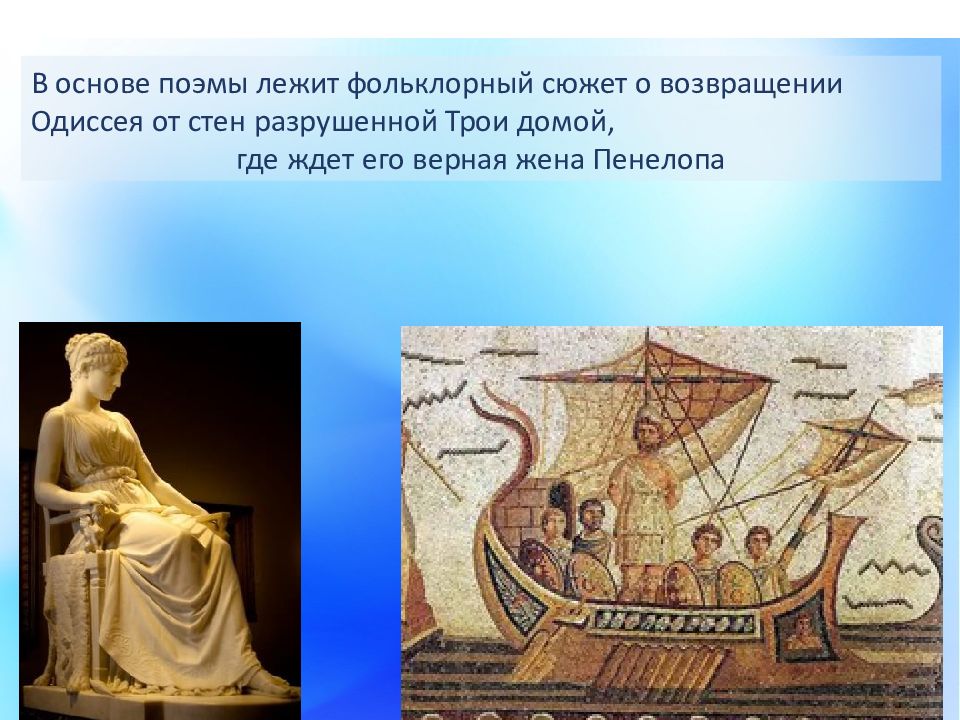 Одиссея рассказывает о долгожданном возвращении героя Одиссея с Троянской войны на свою родину.
Родина, Итака, после десяти лет скитаний.Текущее действие Одиссея занимает последние шесть недель
десять лет, и повествование включает в себя множество мест — Олимп, Итаку, Пилос, Феры, Спарту, Огигию и
Шерия. В книгах 9-12 Одиссей рассказывает историю своих путешествий в годы после падения Трои.
повествование включает в себя и другие отдаленные места, такие как остров циклопов. Основное действие стихотворения происходит
место в Итаке, после того, как переодетый Одиссей достигает его в Книге 13.В книгах с 13 по 24 Одиссей медленно
воссоединяется со своей семьей и мстит женихам, которые ухаживали за его женой и тратили его
имущество.
Одиссея рассказывает о долгожданном возвращении героя Одиссея с Троянской войны на свою родину.
Родина, Итака, после десяти лет скитаний.Текущее действие Одиссея занимает последние шесть недель
десять лет, и повествование включает в себя множество мест — Олимп, Итаку, Пилос, Феры, Спарту, Огигию и
Шерия. В книгах 9-12 Одиссей рассказывает историю своих путешествий в годы после падения Трои.
повествование включает в себя и другие отдаленные места, такие как остров циклопов. Основное действие стихотворения происходит
место в Итаке, после того, как переодетый Одиссей достигает его в Книге 13.В книгах с 13 по 24 Одиссей медленно
воссоединяется со своей семьей и мстит женихам, которые ухаживали за его женой и тратили его
имущество.
СПИСОК ПЕРСОНАЖЕЙ
Основные персонажи
Одиссей
Главный герой и герой поэмы. Одиссей — царь Итаки,
небольшой скалистый остров на западном побережье Греции. Он принимает участие в
Троянская война на стороне Агамемнона.Из всех героев, которые возвращаются
с войны его путь домой самый долгий и опасный. Несмотря на то что
Одиссей во многом типичный гомеровский герой, он несовершенен, и
его очень человеческие недостатки играют важную роль в произведении.
Он принимает участие в
Троянская война на стороне Агамемнона.Из всех героев, которые возвращаются
с войны его путь домой самый долгий и опасный. Несмотря на то что
Одиссей во многом типичный гомеровский герой, он несовершенен, и
его очень человеческие недостатки играют важную роль в произведении.
Пенелопа
«Многотерпеливая» жена Одиссея и терпеливая мать Телемаха. Если путешествие — испытание Одиссея, то оставаться дома — испытание Пенелопы. Она сохраняет дом и семью нетронутыми до тех пор, пока Одиссей не вернется, чтобы заявить о себе. права.Страдания, которым она подвергается, и уловки, которые она использует, чтобы держать своих женихов в страхе свидетельствовать о ее силе выносливости и любви для сына и мужа.
Телемах
Сын Одиссея. Совсем ребенком, когда его отец ушел на Троянскую войну,
Телемах, в начале Одиссея , неопытный,
несчастный и беспомощный молодой человек. Его путешествия в поисках помощи отца
ему созреть, и по возвращении Одиссея он выполняет свои обязанности, как
сын героя должен.
Его путешествия в поисках помощи отца
ему созреть, и по возвращении Одиссея он выполняет свои обязанности, как
сын героя должен.
Афина
Богиня мудрости и дочь Зевса. Она чемпионка Одиссея. среди богов, и она помогает ему и Телемаху на протяжении всей поэмы, проявляя большой такт, ум и сообразительность во всех своих начинаниях.
Второстепенные персонажи
Нестор
Король Пилоса. Он сражался на стороне Агамемнона в Троянской Война.Когда Телемах отплывает, чтобы найти новости об Одиссее, он сначала посещает Нестор в Пилосе. Нестор очень мало способствует знаниям Телемаха. своего отца, хотя он щедр и готов помочь.
| |
Менелай
Царь Спарты. Троянская война велась, чтобы спасти его жену Елену,
который был похищен Парисом.В Одиссея , оба мужа
и жена вернулись в Спарту. Старый друг Одиссея, Менелай приветствует
Телемах в свой дом.
Троянская война велась, чтобы спасти его жену Елену,
который был похищен Парисом.В Одиссея , оба мужа
и жена вернулись в Спарту. Старый друг Одиссея, Менелай приветствует
Телемах в свой дом.
Хелен
Жена Менелая и причина Троянской войны. образ Хелен поразительнее, чем у Менелая. Она вернулась с Менелаем в Спарту, счастлива и умиротворена, извлекая уроки из ее страданий. Нежность которым она владеет в Илиада обращена к новым целям здесь Одиссея .
Антиной
Самый шумный и гордый из женихов. Он замышляет смерть Телемаха и часто ведет женихов в их плохом обращении с Одиссеем и его домашнее хозяйство.
Евримах
Еще один откровенный и влиятельный жених. В книге 22 он умоляет Одиссея о прощение от имени всех женихов.
Афина в образе Ментеса
В первой книге Афина побуждает Телемаха отправиться на поиски новостей. о своем отце.Она делает это в образе Ментеса, правителя тафианцев.
о своем отце.Она делает это в образе Ментеса, правителя тафианцев.
Египет
Один из благородных Итаканцев. Он выступает первым на собрании, созванном Телемах в книге 2.
Галитерсы
Итаканский прорицатель. Он один из немногих жителей Итаки в собрании. которые остаются верными Одиссею.
Наставник
Еще один Итаканец, верный Одиссею.Когда Одиссей ушел, он поручил управление своим домом этому человеку. Афина часто маскируется как наставник, чтобы помочь Одиссею и Телемаху.
Леокрит
Один из презренных, злодейских женихов, часто высказывающий свое мнение.
Писистрат
Сын Нестора и спутника Телемаха во многих его путешествиях.
Эхефрон, Страций, Персей, Арет, Трасимед
Остальные пять сыновей Нестора в Герении, помогающие отцу в поиске
после гостя Телемаха.
Эвридика
Жена Нестора, старшая из дочерей Климена.
Поликаста
Младшая дочь Нестора. Она купает Телемаха, когда он остается в доме своего отца в Пилосе.
Диокл
Сын Орсилоха и правитель Феры. Телемах и Писистрат останавливаются. ночевать у него по пути в Спарту и обратно.
Лорд Эльконеус
Оруженосец Менелая. Он сообщает о прибытии Телемаха и Писистрата. своему королю.
Асфалион
Еще один оруженосец Менелая. Он помогает присматривать за Телемахом и Писистратом. в Спарте.
Содержание | Сообщение доска | для печати Версия | Бэрронс Книжные заметки
<- Предыдущая страница | Первая страница | Следующая страница -> Бесплатное учебное пособие-Одиссея Гомера-Бесплатный синопсис онлайн-сюжета
Доступно бесплатное сюжетное дополнение к Assassin’s Creed Odyssey
Assassin’s Creed Odyssey получает бесплатное сюжетное дополнение, которое продолжит путешествие Кассандры по Древней Греции и за ее пределами.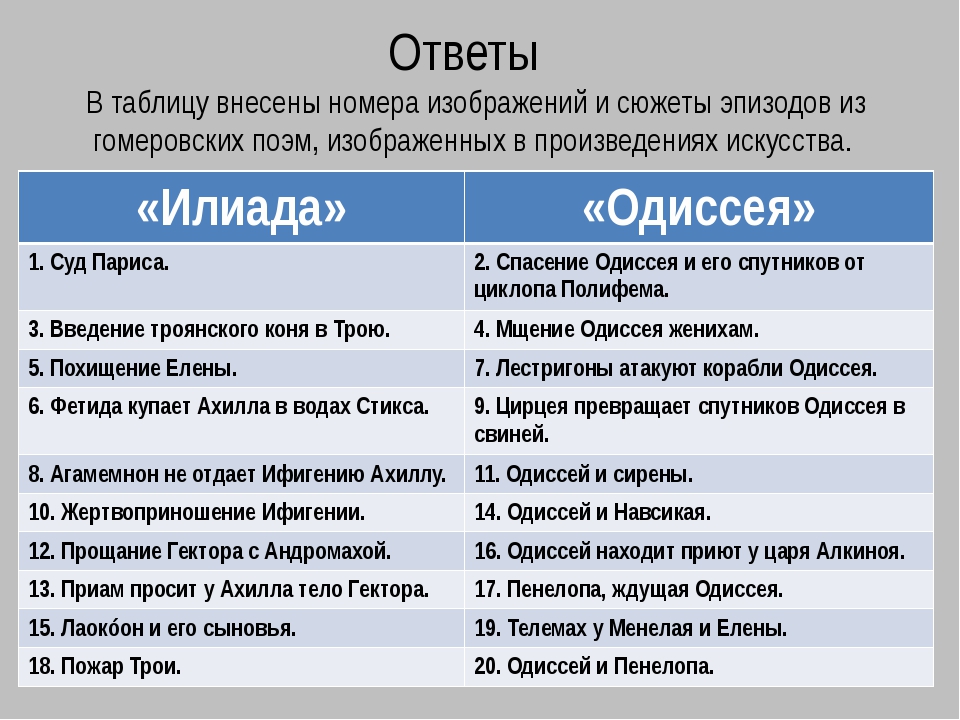
Вчера вечером было объявлено, что Ubisoft выпускает совершенно новый квест DLC для игры 2017 года в рамках новой серии «Crossover Stories». Это новые приключения, призванные объединить ассасинов из разных эпох долгой истории сериала, объясняет издатель в своем блоге.
Посмотрите трейлер ниже!
В первой из этих историй о кроссовере Кассандра встретится лицом к лицу (и клинок к клинку) с Эйвором, героем-викингом Assassin’s Creed Valhalla 2020 года.Эта история будет рассказана в двух уникальных квестах: в Odyssey и в Valhalla .
«Игры Assassin’s Creed были массовым погружением в основные моменты человеческой цивилизации, и каждое название редко пересекалось», — пишет Ubisoft.
«Если не считать пасхальных яиц и упоминаний о героях, которые помогли сформировать историю, главные герои Assassin’s Creed никогда не были в центре внимания, но Ubisoft собирается изменить все это с помощью своей самой первой истории кроссовера.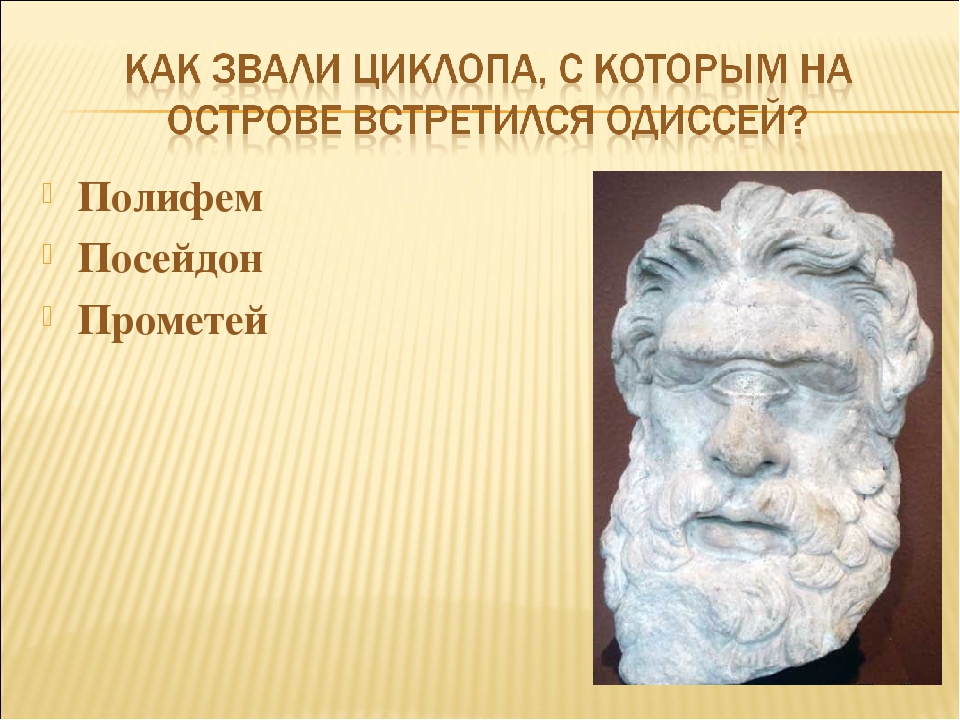
Доступный для скачивания прямо сейчас, «Те, кого ценят» — это совершенно новый сюжетный квест для Odyssey , действие которого происходит после событий основной игры. Кассандра (или Алексиос, если вы выбрали неудачный вариант) исследует мир. в поисках мощного и потенциально опасного артефакта Ису.
История Кассандры затем продолжится во втором бесплатном квесте, который доступен для загрузки в Valhalla . В «Роковой встрече» Эйвор встретится с героем Odyssey за в самый первый раз, когда охота за артефактом Ису подходит к концу.
«Мы должны были помнить, что Кассандра старше более чем на 1300 лет», — объяснил помощник креативного директора Ubisoft Quebec Клеманс Ногрикс.
«Она путешествовала по миру и видела расцвет и падение Римской империи. Мы хотели, чтобы игроки чувствовали, что она многому научилась и видела, но что она смогла остаться прежней в глубине души. Это было непросто. Таким образом, мы были внимательны к личности каждого героя, но мы позаботились о том, чтобы они оба показали, из чего они сделаны на поле боя.

 Эпос показывает, в особенности в своём самом древнейшем слое, связанном с мифом: авантюры ведут своё происхождение от народного предания. Но именно в силу того, что гомеровский дух овладевает мифами, их «организует», он вступает с ними в противоречие. Привычное отождествление эпоса с мифом, и без того аннулированное новейшей классической филологией, для философской критики оказывается уже совершеннейшим заблуждением. Оба понятия расходятся врозь. Они маркируют собой две фазы того исторического процесса, который как таковой позволяет себя распознать в местах стыков и швов гомеровской редактуры.
Эпос показывает, в особенности в своём самом древнейшем слое, связанном с мифом: авантюры ведут своё происхождение от народного предания. Но именно в силу того, что гомеровский дух овладевает мифами, их «организует», он вступает с ними в противоречие. Привычное отождествление эпоса с мифом, и без того аннулированное новейшей классической филологией, для философской критики оказывается уже совершеннейшим заблуждением. Оба понятия расходятся врозь. Они маркируют собой две фазы того исторического процесса, который как таковой позволяет себя распознать в местах стыков и швов гомеровской редактуры. В древнем эпосе, этой философско-исторической противоположности романа, в конечном итоге проступают черты подобия роману, а почтенный космос исполненного чувств гомеровского мира обнаруживает себя в качестве деятельности упорядочивающего разума, разрушающего миф именно благодаря тому рациональному порядку, в котором он его отражает.
В древнем эпосе, этой философско-исторической противоположности романа, в конечном итоге проступают черты подобия роману, а почтенный космос исполненного чувств гомеровского мира обнаруживает себя в качестве деятельности упорядочивающего разума, разрушающего миф именно благодаря тому рациональному порядку, в котором он его отражает.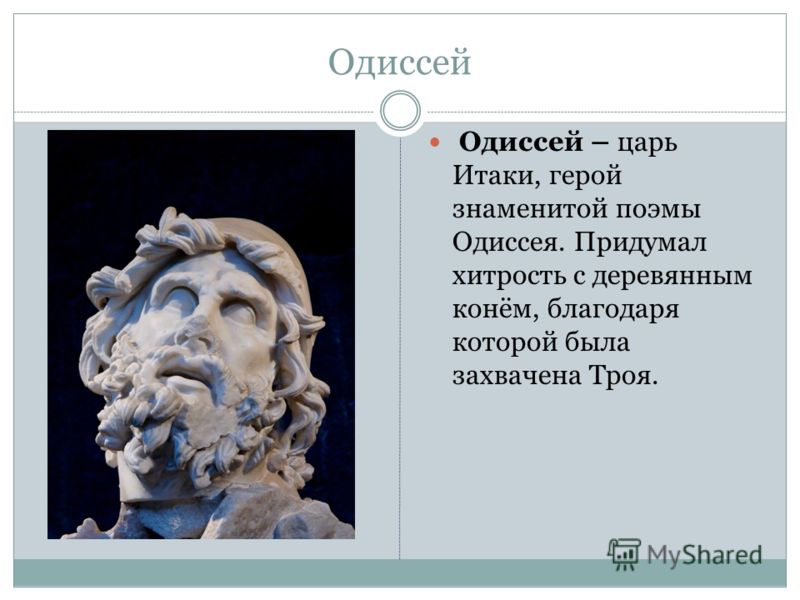 С другой стороны, просвещение издавна было средством для «великих искусников в деле правления (Конфуций в Китае, Imperium Romanum, Наполеон, папство в ту эпоху, когда оно было обращено лицом к власти, а не только к миру)…
С другой стороны, просвещение издавна было средством для «великих искусников в деле правления (Конфуций в Китае, Imperium Romanum, Наполеон, папство в ту эпоху, когда оно было обращено лицом к власти, а не только к миру)… Последняя становится слепым восхвалением слепой жизни, которой предписывается та же самая практика, какой подавляется всё живое. Это находит своё выражение в точке зрения культурфашистов на Гомера. Они чуют в гомеровском изображении феодальных отношений нечто демократическое, клеймят эти сочинения как сочинения мореплавателей и торгашей и отвергают ионийский эпос как чрезмерно рационализированную говорильню и слишком беглую коммуникацию.
Последняя становится слепым восхвалением слепой жизни, которой предписывается та же самая практика, какой подавляется всё живое. Это находит своё выражение в точке зрения культурфашистов на Гомера. Они чуют в гомеровском изображении феодальных отношений нечто демократическое, клеймят эти сочинения как сочинения мореплавателей и торгашей и отвергают ионийский эпос как чрезмерно рационализированную говорильню и слишком беглую коммуникацию. Модная идеология, делающая ликвидацию просвещения своей наисобственнейшей задачей, выказывает ему, против воли, почтение. Ещё в самой отдалённой дали вынуждена она признать наличие просвещённого мышления. И как раз самый его древнейший след угрожает нечистой совести сегодняшних архаиков тем, что сызнова будет развязан весь тот процесс, за удушение которого они теперь так взялись, в то же время бессознательно лишь продолжая его.
Модная идеология, делающая ликвидацию просвещения своей наисобственнейшей задачей, выказывает ему, против воли, почтение. Ещё в самой отдалённой дали вынуждена она признать наличие просвещённого мышления. И как раз самый его древнейший след угрожает нечистой совести сегодняшних архаиков тем, что сызнова будет развязан весь тот процесс, за удушение которого они теперь так взялись, в то же время бессознательно лишь продолжая его. То неблагородное, что осуждается им в эпосе, посредничество и обращение, является всего лишь развитием того сомнительно благородного, что обоготворяется им в мифе, — голого насилия. Мнимой подлинности, архаическому принципу крови и жертвы уже присуще нечто от тех нечистой совести и хитрости господства, которые свойственны национальному обновлению, использующему сегодня первобытную эпоху в качестве рекламы.
То неблагородное, что осуждается им в эпосе, посредничество и обращение, является всего лишь развитием того сомнительно благородного, что обоготворяется им в мифе, — голого насилия. Мнимой подлинности, архаическому принципу крови и жертвы уже присуще нечто от тех нечистой совести и хитрости господства, которые свойственны национальному обновлению, использующему сегодня первобытную эпоху в качестве рекламы. Первобытная эпоха оказывается секуляризованной в том пространстве, по которому он странствует, демоны прежних времён населяют отдалённые окраины и острова цивилизованного Средиземноморья, будучи отогнанными обратно в те скалы и пещеры, откуда они были некогда извлечены на свет ужасом, праисторических времён. Но авантюры наделяют каждое из мест своим собственным именем. Благодаря им возникает рациональный обзор пространства.
Первобытная эпоха оказывается секуляризованной в том пространстве, по которому он странствует, демоны прежних времён населяют отдалённые окраины и острова цивилизованного Средиземноморья, будучи отогнанными обратно в те скалы и пещеры, откуда они были некогда извлечены на свет ужасом, праисторических времён. Но авантюры наделяют каждое из мест своим собственным именем. Благодаря им возникает рациональный обзор пространства.
 Одиссей, как и герои всех собственно романов после него, так сказать швыряется собой для того, чтобы себя обрести; отчуждение от природы, в котором он преуспевает, осуществляется путём отдания себя на произвол природы, с которой он меряется силой в каждом из приключений, и иронически-насмешливо торжествует в конечном итоге неумолимое, которым он повелевает тем, что неумолимым возвращается домой, как наследный судия и отмститель тех могущественных сил, от которых ему удалось ускользнуть.
Одиссей, как и герои всех собственно романов после него, так сказать швыряется собой для того, чтобы себя обрести; отчуждение от природы, в котором он преуспевает, осуществляется путём отдания себя на произвол природы, с которой он меряется силой в каждом из приключений, и иронически-насмешливо торжествует в конечном итоге неумолимое, которым он повелевает тем, что неумолимым возвращается домой, как наследный судия и отмститель тех могущественных сил, от которых ему удалось ускользнуть. Лишь с большим трудом и ценой отступничества отслаивается в образе путешествия историческое время от пространства, от отступничества не терпящей схемы всякого мифологического времени. Органом самости, позволяющим ей пускаться в авантюры, швыряться собой для того, чтобы себя сохранить, является хитрость.
Лишь с большим трудом и ценой отступничества отслаивается в образе путешествия историческое время от пространства, от отступничества не терпящей схемы всякого мифологического времени. Органом самости, позволяющим ей пускаться в авантюры, швыряться собой для того, чтобы себя сохранить, является хитрость. И даже если хозяин не получает за то непосредственно вознаграждения, он всё же может рассчитывать на то, что когда-нибудь он сам или его родственники встретят подобный же прием: в качестве жертвы божествам стихий дар одновременно является и рудиментарной страховкой от них. Распространившееся на огромное пространство и всё же чреватое опасностями мореходство раннего эллинизма является тому прагматической предпосылкой.
И даже если хозяин не получает за то непосредственно вознаграждения, он всё же может рассчитывать на то, что когда-нибудь он сам или его родственники встретят подобный же прием: в качестве жертвы божествам стихий дар одновременно является и рудиментарной страховкой от них. Распространившееся на огромное пространство и всё же чреватое опасностями мореходство раннего эллинизма является тому прагматической предпосылкой. 6
6 Хитрость зарождается в культе. Одиссей сам функционирует одновременно и в качестве жертвы, и в качестве жреца.
Хитрость зарождается в культе. Одиссей сам функционирует одновременно и в качестве жертвы, и в качестве жреца. Его субстанциальность является видимостью в той же степени, что и бессмертие убиенного. Далеко не случайно Одиссей многими почитался в качестве божества.
Его субстанциальность является видимостью в той же степени, что и бессмертие убиенного. Далеко не случайно Одиссей многими почитался в качестве божества. Ей никоим образом не спасается, посредством замещающей отдачи, та непосредственная, всего только лишь прерванная коммуникация, которая приписывается ей сегодняшними мифологами, но сам институт жертвы есть признак исторической катастрофы, который как будучи акт насилия одинаковым образом направлен как против человека, так и против природы. Хитрость есть не что иное, как субъективное развитие такого рода объективной неистинности жертвы, ей на смену приходящее. Вполне возможно, что эта неистинность не всегда была только неистинностью. На одной из стадий 8 первобытной эпохи жертвы, вероятно, и обладали своего рода кровавой рациональностью, которую, правда, даже тогда вряд ли можно было отличить от жажды привилегий.
Ей никоим образом не спасается, посредством замещающей отдачи, та непосредственная, всего только лишь прерванная коммуникация, которая приписывается ей сегодняшними мифологами, но сам институт жертвы есть признак исторической катастрофы, который как будучи акт насилия одинаковым образом направлен как против человека, так и против природы. Хитрость есть не что иное, как субъективное развитие такого рода объективной неистинности жертвы, ей на смену приходящее. Вполне возможно, что эта неистинность не всегда была только неистинностью. На одной из стадий 8 первобытной эпохи жертвы, вероятно, и обладали своего рода кровавой рациональностью, которую, правда, даже тогда вряд ли можно было отличить от жажды привилегий. Тотемизмом, в своё время уже бывшим идеологией, всё же маркируется некое реальное состояние, в котором доминирующий разум испытывал потребность в жертвах. Оно было состоянием архаической нужды, в котором человеческое жертвоприношение вряд ли удастся отличить от каннибализма.
Тотемизмом, в своё время уже бывшим идеологией, всё же маркируется некое реальное состояние, в котором доминирующий разум испытывал потребность в жертвах. Оно было состоянием архаической нужды, в котором человеческое жертвоприношение вряд ли удастся отличить от каннибализма. 9
9
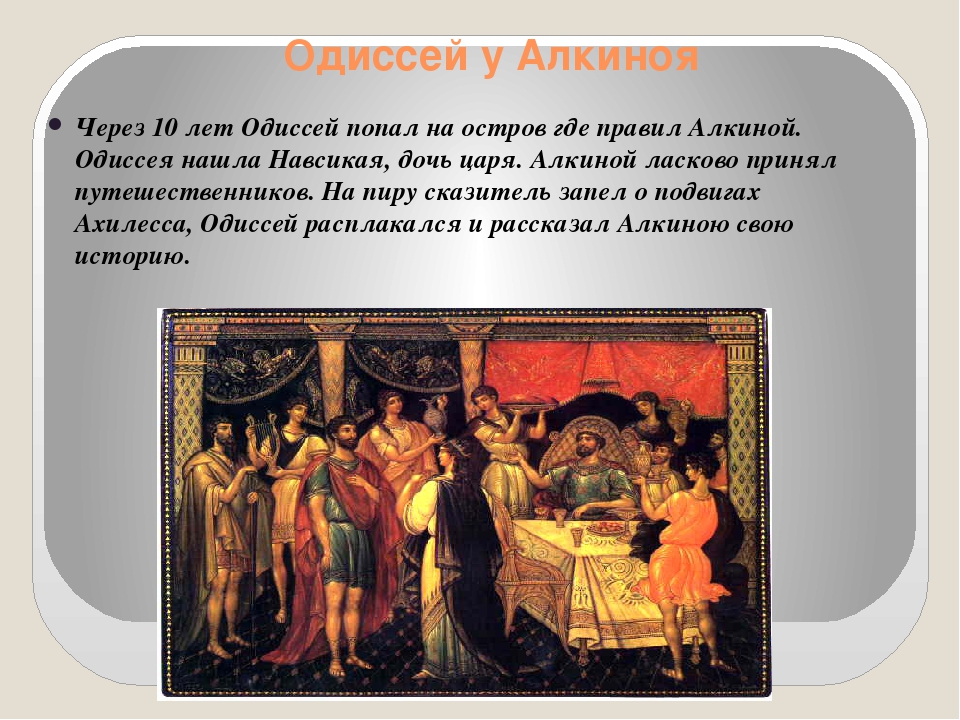 11 С тем только, что тот слой мифологии, в котором самость выступает в качестве жертвы самой себе, выражает собой не столько изначальную концепцию народной религии, сколько, напротив, включение мифа в цивилизацию.
11 С тем только, что тот слой мифологии, в котором самость выступает в качестве жертвы самой себе, выражает собой не столько изначальную концепцию народной религии, сколько, напротив, включение мифа в цивилизацию. Господство человека над самим собой, учреждающее его самость, виртуально есть во всех случаях уничтожение того субъекта, во имя которого оно осуществляется, потому что обузданная, подавленная и разрушенная самосохранением субстанция является не чем иным, как той жизненностью, быть функциями которой единственно и предназначены все действия самосохранения — собственно как раз тем, что должно быть сохранено.
Господство человека над самим собой, учреждающее его самость, виртуально есть во всех случаях уничтожение того субъекта, во имя которого оно осуществляется, потому что обузданная, подавленная и разрушенная самосохранением субстанция является не чем иным, как той жизненностью, быть функциями которой единственно и предназначены все действия самосохранения — собственно как раз тем, что должно быть сохранено. Этот процесс развёртывается в контексте ложного общества. В нём каждый является слишком многим и оказывается обманутым. Но такова общественная необходимость, что тот, кто хотел бы уклониться от универсального, неравного и несправедливого обмена, но не отказаться от него, так что доведись ему, сразу ухватил бы себе неурезанное целое, тем самым как раз потерял бы все, даже тот скудный остаток, который гарантируется ему самосохранением. Все требует избыточных жертв: взамен жертвы.
Этот процесс развёртывается в контексте ложного общества. В нём каждый является слишком многим и оказывается обманутым. Но такова общественная необходимость, что тот, кто хотел бы уклониться от универсального, неравного и несправедливого обмена, но не отказаться от него, так что доведись ему, сразу ухватил бы себе неурезанное целое, тем самым как раз потерял бы все, даже тот скудный остаток, который гарантируется ему самосохранением. Все требует избыточных жертв: взамен жертвы.
 Дистанцированная от насущных потребностей самосохранения сила идёт как раз на пользу самосохранению: в ходе agon’a со слабосильным, прожорливым, недисциплинированным бродягой или с теми, кто беззаботно предаются праздному безделью.
Дистанцированная от насущных потребностей самосохранения сила идёт как раз на пользу самосохранению: в ходе agon’a со слабосильным, прожорливым, недисциплинированным бродягой или с теми, кто беззаботно предаются праздному безделью.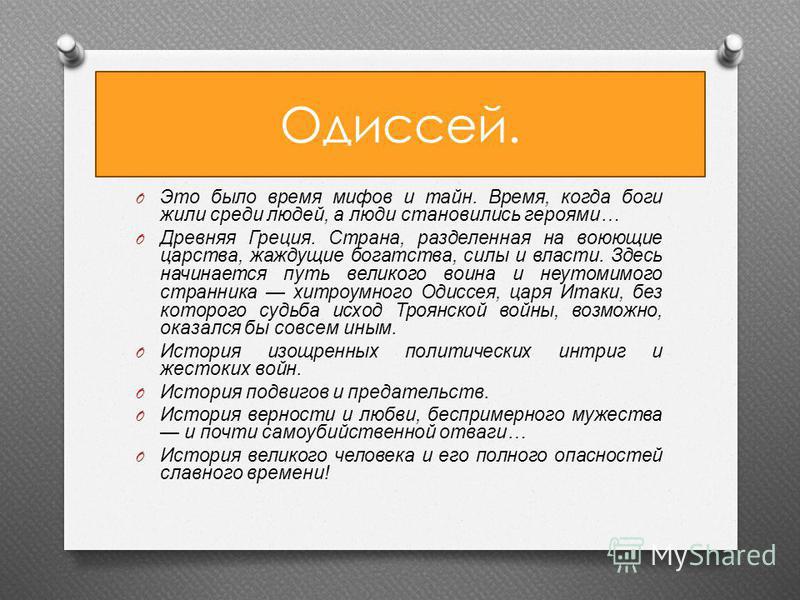 То, что древняя жертва, между тем, сама была иррациональной, представляется уму более слабого как глупость ритуала.
То, что древняя жертва, между тем, сама была иррациональной, представляется уму более слабого как глупость ритуала.
 Он проскальзывает, лавируя, сквозь, ему удаётся выжить, и весь тот почёт и слава, которые воздаются ему за то им самим и другими, свидетельствуют лишь о том, что звание героя приобретается исключительно лишь ценой смирения порыва к цельному, всеобщему, безраздельному счастью.
Он проскальзывает, лавируя, сквозь, ему удаётся выжить, и весь тот почёт и слава, которые воздаются ему за то им самим и другими, свидетельствуют лишь о том, что звание героя приобретается исключительно лишь ценой смирения порыва к цельному, всеобщему, безраздельному счастью. Но в переложении на предметность мифа природное соотношение силы и бессилия уже принимает характер правового отношения. Сцилла и Харибда имеют право на то, что попадает им в зубы, точно так же, как Кирке имеет право на превращение уязвимого, или Полифем — на тела своих гостей. Каждая из этих мифических фигур обязана вновь и вновь делать то же самое. Суть каждой из них — в повторении: его неудача была бы их концом. Все они несут на себе черты того, что учреждается в мифах наказания, таких, как миф о преисподней, Тантале, Сизифе, Данаидах, приговором богов Олимпа — Все они являются фигурами принуждения: гнусные зверства, которые они совершают, являются тем проклятьем, которое тяготеет над ними. Мифическая неизбежность определяется эквивалентностью между этим проклятьем, чудовищным злодеянием, которым оно искупляется, и проистекающей из последнего виной, долгом, которыми проклятье репродуцируется. Все право в предшествующей истории несёт на себе отпечаток этой схемы. В мифе каждый момент цикла возмещает ему предшествующий, тем самым способствуя инсталляции долговой связи в качестве закона.
Но в переложении на предметность мифа природное соотношение силы и бессилия уже принимает характер правового отношения. Сцилла и Харибда имеют право на то, что попадает им в зубы, точно так же, как Кирке имеет право на превращение уязвимого, или Полифем — на тела своих гостей. Каждая из этих мифических фигур обязана вновь и вновь делать то же самое. Суть каждой из них — в повторении: его неудача была бы их концом. Все они несут на себе черты того, что учреждается в мифах наказания, таких, как миф о преисподней, Тантале, Сизифе, Данаидах, приговором богов Олимпа — Все они являются фигурами принуждения: гнусные зверства, которые они совершают, являются тем проклятьем, которое тяготеет над ними. Мифическая неизбежность определяется эквивалентностью между этим проклятьем, чудовищным злодеянием, которым оно искупляется, и проистекающей из последнего виной, долгом, которыми проклятье репродуцируется. Все право в предшествующей истории несёт на себе отпечаток этой схемы. В мифе каждый момент цикла возмещает ему предшествующий, тем самым способствуя инсталляции долговой связи в качестве закона. Против этого выступает Одиссей.
Против этого выступает Одиссей. Он ведёт себя тише воды, ниже травы, корабль следует своим предопределённым, фатальным курсом, и тут им реализуется только то, что сколь бы ни был он сознательно дистанцирован от природы, в качестве слушающего он полностью остаётся в её власти. Он соблюдает договор своего послушания и пока ещё дрожит у мачты, готовясь низринуться в объятья погубительниц. Но он уже учуял ту лазейку в договоре, сквозь которую он ускользнет от его соблюдения при полном выполнении всех его статей. В праисторическом договоре не предусмотрено, обязан ли проплывающий мимо внимать пению сирен закованным или не закованным.
Он ведёт себя тише воды, ниже травы, корабль следует своим предопределённым, фатальным курсом, и тут им реализуется только то, что сколь бы ни был он сознательно дистанцирован от природы, в качестве слушающего он полностью остаётся в её власти. Он соблюдает договор своего послушания и пока ещё дрожит у мачты, готовясь низринуться в объятья погубительниц. Но он уже учуял ту лазейку в договоре, сквозь которую он ускользнет от его соблюдения при полном выполнении всех его статей. В праисторическом договоре не предусмотрено, обязан ли проплывающий мимо внимать пению сирен закованным или не закованным.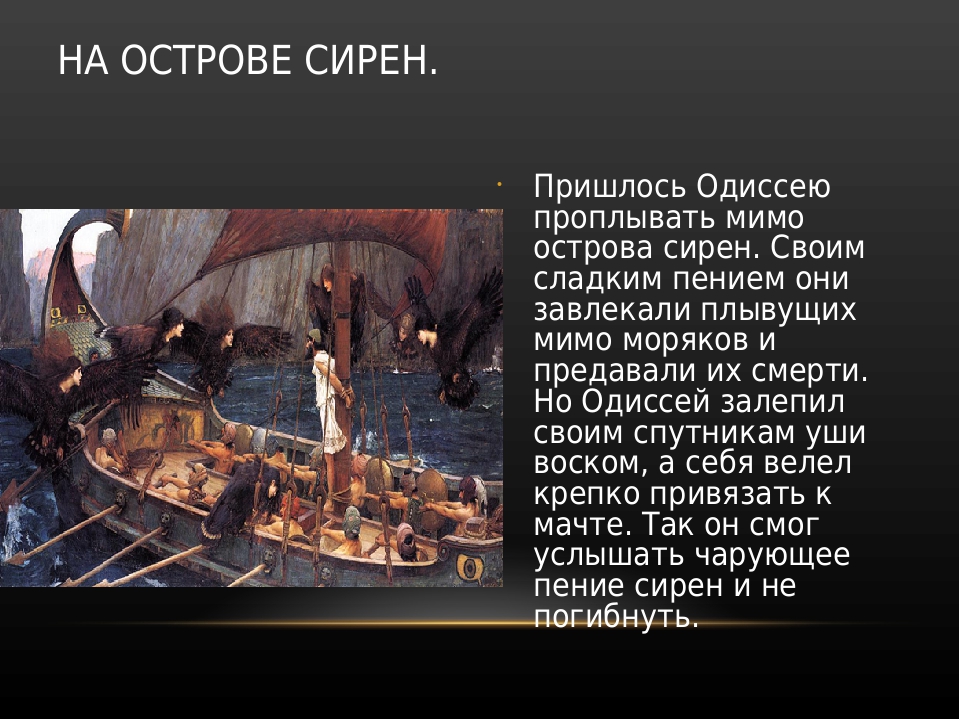 С той лишь разницей, что он принял меры к тому, чтобы в качестве обречённого не быть обречённым им. При всей силе pro желания, отражающей могущество самих полубогинь, он не может устремиться к ним, поскольку гребущие спутники с воском в ушах глухи не только к призыву полубогинь, то также и к отчаянному крику своего повелителя. Сирены получают им причитающееся, но в буржуазной праистории оно уже нейтрализовано в страстное желание того, кто проплывает мимо. Эпос умалчивает о том, что сталось с сиренами после того, как скрылся из виду корабль.
С той лишь разницей, что он принял меры к тому, чтобы в качестве обречённого не быть обречённым им. При всей силе pro желания, отражающей могущество самих полубогинь, он не может устремиться к ним, поскольку гребущие спутники с воском в ушах глухи не только к призыву полубогинь, то также и к отчаянному крику своего повелителя. Сирены получают им причитающееся, но в буржуазной праистории оно уже нейтрализовано в страстное желание того, кто проплывает мимо. Эпос умалчивает о том, что сталось с сиренами после того, как скрылся из виду корабль.
 Уже в магии её непреклонность должна была давать отпор непреклонности судьбы, которая в то же время и отражалась ей. Здесь была уже заключена противоположность между словом и тем, чему оно себя уподобляло. На гомеровской стадии она становится определяющей. Одиссей открывает в словах то, что в развитом буржуазном обществе называется формализмом слов: их долголетняя услужливость оплачена их дистанцированностью от соответствующего, их наполняющего содержания тем, что дистанцируясь от любого возможного содержания, они относятся точно так же ни к кому, как и к самому Одиссею. Из формализма мифических имён собственных и законоположений, которые подобно природе стремятся безучастно повелевать человеком и историей, вырастает номинализм, этот прототип буржуазного мышления. Себя самое сохраняющее хитроумие живёт этим происходящим между словом и делом процессом. Оба противоречащих друг другу акта Одиссея при встрече с Полифемом, его повиновение имени и его отказ от него, с другой стороны, ведь тождественны друг другу.
Уже в магии её непреклонность должна была давать отпор непреклонности судьбы, которая в то же время и отражалась ей. Здесь была уже заключена противоположность между словом и тем, чему оно себя уподобляло. На гомеровской стадии она становится определяющей. Одиссей открывает в словах то, что в развитом буржуазном обществе называется формализмом слов: их долголетняя услужливость оплачена их дистанцированностью от соответствующего, их наполняющего содержания тем, что дистанцируясь от любого возможного содержания, они относятся точно так же ни к кому, как и к самому Одиссею. Из формализма мифических имён собственных и законоположений, которые подобно природе стремятся безучастно повелевать человеком и историей, вырастает номинализм, этот прототип буржуазного мышления. Себя самое сохраняющее хитроумие живёт этим происходящим между словом и делом процессом. Оба противоречащих друг другу акта Одиссея при встрече с Полифемом, его повиновение имени и его отказ от него, с другой стороны, ведь тождественны друг другу. Он признает себя в качестве себя самого тем, что отрекается от себя в качестве Никто, он спасает свою жизнь тем, что заставляет себя исчезнуть.
Он признает себя в качестве себя самого тем, что отрекается от себя в качестве Никто, он спасает свою жизнь тем, что заставляет себя исчезнуть. Они олицетворяют собой принцип капиталистического хозяйствования ещё до того, как они начинают использовать наёмного рабочего; но то, что из спасённого добра ими привносится в новое предпринимательство, проясняет ту истину, что с давних пор предприниматель вступает в конкуренцию кое с чем большим, чем только с прилежанием рук своих. Их бессилие перед лицом природы функционирует уже в качестве идеологии их социального превосходства. Беззащитность Одиссея перед лицом морского прибоя звучит как легитимация обогащения путешественника за счёт туземцев.
Они олицетворяют собой принцип капиталистического хозяйствования ещё до того, как они начинают использовать наёмного рабочего; но то, что из спасённого добра ими привносится в новое предпринимательство, проясняет ту истину, что с давних пор предприниматель вступает в конкуренцию кое с чем большим, чем только с прилежанием рук своих. Их бессилие перед лицом природы функционирует уже в качестве идеологии их социального превосходства. Беззащитность Одиссея перед лицом морского прибоя звучит как легитимация обогащения путешественника за счёт туземцев. Обман был родимым пятном рацио, выдающим его партикулярность. Поэтому в состав универсальной социализации, по проекту кругосветного путешественника Одиссея и соло-фабриканта Робинзона, изначально уже входит абсолютное одиночество, что становится очевидным в конце буржуазной эры. Радикальная социализация означает радикальное отчуждение. Оба они, и Одиссей и Робинзон, имеют дело с тотальностью: первый объезжает, второй созидает её. Оба осуществляют это только будучи полностью оторванными ото всех других людей.
Обман был родимым пятном рацио, выдающим его партикулярность. Поэтому в состав универсальной социализации, по проекту кругосветного путешественника Одиссея и соло-фабриканта Робинзона, изначально уже входит абсолютное одиночество, что становится очевидным в конце буржуазной эры. Радикальная социализация означает радикальное отчуждение. Оба они, и Одиссей и Робинзон, имеют дело с тотальностью: первый объезжает, второй созидает её. Оба осуществляют это только будучи полностью оторванными ото всех других людей. ..Зла лотофаги не сделали». 15 Ему угрожает лишь забвение и паралич воли. Этим проклятьем он обрекается не на что иное, как на первобытное состояние без труда и борьбы на «плодородных лугах» 16:
..Зла лотофаги не сделали». 15 Ему угрожает лишь забвение и паралич воли. Этим проклятьем он обрекается не на что иное, как на первобытное состояние без труда и борьбы на «плодородных лугах» 16: В лучшем случае это было бы отсутствием сознания несчастья.
В лучшем случае это было бы отсутствием сознания несчастья.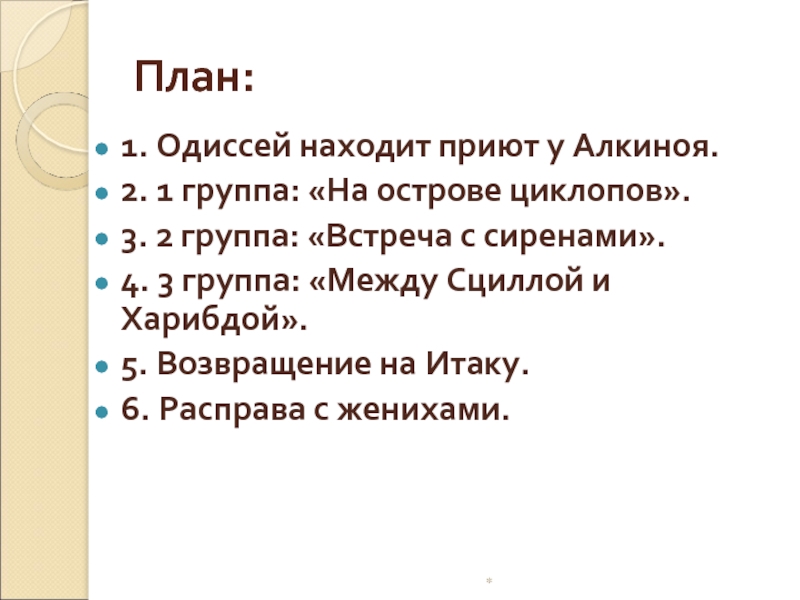
 Воспоминание о самом отдалённом и самом древнем счастье, вспыхивающее в обонянии, все ещё скрещивается с самой предельной близостью съедания. Оно отсылает вспять, к первобытному состоянию. И неважно, какую полноту мучений люди испытывали пребывая в нём, они не способны мыслить никакое счастье, которое не питалось бы образом этого первобытного состояния: «Далее поплыли мы, сокрушённые сердцем» 21.
Воспоминание о самом отдалённом и самом древнем счастье, вспыхивающее в обонянии, все ещё скрещивается с самой предельной близостью съедания. Оно отсылает вспять, к первобытному состоянию. И неважно, какую полноту мучений люди испытывали пребывая в нём, они не способны мыслить никакое счастье, которое не питалось бы образом этого первобытного состояния: «Далее поплыли мы, сокрушённые сердцем» 21. Но всё-таки по сравнению с лотофагами он репрезентирует собой более позднюю, собственно варварскую эпоху, век охотников и пастухов. Варварство для Гомера совпадает с тем, что не практикуется систематическое земледелие и потому ещё не достигнута систематическая, распоряжающаяся временем организация труда и общества. Циклопов он называет «не знающими правды», противными закону злодеями, потому что они, и в этом заключено нечто от тайного признания цивилизацией своей вины,
Но всё-таки по сравнению с лотофагами он репрезентирует собой более позднюю, собственно варварскую эпоху, век охотников и пастухов. Варварство для Гомера совпадает с тем, что не практикуется систематическое земледелие и потому ещё не достигнута систематическая, распоряжающаяся временем организация труда и общества. Циклопов он называет «не знающими правды», противными закону злодеями, потому что они, и в этом заключено нечто от тайного признания цивилизацией своей вины,
 28.
28. Когда он подкладывает сосунков своих овец и коз им под вымя, то здесь практическое действие включает в себя и заботу о самих тварях, а знаменитая речь ослеплённого, обращённая к барану-вожаку стада, которого он называет своим другом и спрашивает, почему он на этот раз покидает пещеру последним и не опечалило ли его несчастье, постигшее его хозяина, трогает с такой силой, которая вновь достигается лишь в высоком месте «Одиссеи», в сцене узнавания вернувшегося домой старой собакой Аргусом — и это даже несмотря на ту отвратительную грубость, которой заканчивается эта речь. Поведение великана ещё не объективировалось в характер. На обращённую к нему мольбу Одиссея он отвечает не просто вспышкой дикой ненависти, но всего лишь отказом подчиниться тому закону, которым он ещё не вполне охвачен; он не желает пощадить Одиссея и его спутников: «поступлю я, как мне самому то угодно» 29, и действительно ли он, как то утверждает повествующий Одиссей, говорит это лукавя, остаётся открытым вопросом.
Когда он подкладывает сосунков своих овец и коз им под вымя, то здесь практическое действие включает в себя и заботу о самих тварях, а знаменитая речь ослеплённого, обращённая к барану-вожаку стада, которого он называет своим другом и спрашивает, почему он на этот раз покидает пещеру последним и не опечалило ли его несчастье, постигшее его хозяина, трогает с такой силой, которая вновь достигается лишь в высоком месте «Одиссеи», в сцене узнавания вернувшегося домой старой собакой Аргусом — и это даже несмотря на ту отвратительную грубость, которой заканчивается эта речь. Поведение великана ещё не объективировалось в характер. На обращённую к нему мольбу Одиссея он отвечает не просто вспышкой дикой ненависти, но всего лишь отказом подчиниться тому закону, которым он ещё не вполне охвачен; он не желает пощадить Одиссея и его спутников: «поступлю я, как мне самому то угодно» 29, и действительно ли он, как то утверждает повествующий Одиссей, говорит это лукавя, остаётся открытым вопросом.
 Одиссей втирается в доверие к Полифему и, тем самым, к представляемому им праву на человеческую плоть как добычу в полном соответствии с той схемой хитрости, которой, посредством соблюдения устава, последний в корне подрывается: «Выпей, циклоп, золотого вина, человечьим насытясь …Мясом; узнаешь, какой драгоценный напиток на нашем …Был корабле» 32 — рекомендует культуртрегер.
Одиссей втирается в доверие к Полифему и, тем самым, к представляемому им праву на человеческую плоть как добычу в полном соответствии с той схемой хитрости, которой, посредством соблюдения устава, последний в корне подрывается: «Выпей, циклоп, золотого вина, человечьим насытясь …Мясом; узнаешь, какой драгоценный напиток на нашем …Был корабле» 32 — рекомендует культуртрегер. Расчёт, что после всего случившегося на вопрос своей родни о виновнике Полифем ответит: «Никто» и, таким образом, поможет сокрытию поступка, а виновнику — избежать преследования, производит впечатление слишком тонкой рационалистической оболочки.
Расчёт, что после всего случившегося на вопрос своей родни о виновнике Полифем ответит: «Никто» и, таким образом, поможет сокрытию поступка, а виновнику — избежать преследования, производит впечатление слишком тонкой рационалистической оболочки. Тот, кто ради самого себя называет себя никем и манипулирует уподоблением природному состоянию как средством господства над природой, становится жертвой Гюбрис. Хитроумный Одиссей не может поступить иначе: спасаясь бегством, все ещё находясь в пределах досягаемости камнемечущих рук великана, он не только издевается над ним, но и открывает ему своё подлинное имя, равно как и своё происхождение, как если бы над ним, каждый раз только что как раз ускользнувшим, архаика все ещё имела такую власть, что он, однажды назвавшись Никем, должен был бы бояться вновь стать никем, если только он не восстановит собственную идентичность, произнеся то магическое слово, которое как раз и заменила собой рациональная идентичность. Друзья пытаются удержать его от этой глупости — признаться в своём хитроумии, но им это не удаётся, и с большим трудом удаётся ему избежать каменных глыб, в то время как произнесение его имени, судя по всему, навлекает на него гнев Посейдона, которого едва ли можно представить себе всеведущим.
Тот, кто ради самого себя называет себя никем и манипулирует уподоблением природному состоянию как средством господства над природой, становится жертвой Гюбрис. Хитроумный Одиссей не может поступить иначе: спасаясь бегством, все ещё находясь в пределах досягаемости камнемечущих рук великана, он не только издевается над ним, но и открывает ему своё подлинное имя, равно как и своё происхождение, как если бы над ним, каждый раз только что как раз ускользнувшим, архаика все ещё имела такую власть, что он, однажды назвавшись Никем, должен был бы бояться вновь стать никем, если только он не восстановит собственную идентичность, произнеся то магическое слово, которое как раз и заменила собой рациональная идентичность. Друзья пытаются удержать его от этой глупости — признаться в своём хитроумии, но им это не удаётся, и с большим трудом удаётся ему избежать каменных глыб, в то время как произнесение его имени, судя по всему, навлекает на него гнев Посейдона, которого едва ли можно представить себе всеведущим.
 Им объективно руководит страх того, что если только он не будет беспрестанно отстаивать неустойчивое преимущество слова над насилием, последним он может быть вновь лишён этого преимущества. Ибо слову известно, что оно слабее обманутой им природы. Избыточное говорение позволяет высветить насилие и несправедливость в качестве первопринципа и побуждает того, кому следует бояться, именно к испуганным действиям. Мифическая принудительность слова, присущая архаической эпохе, увековечивается тем несчастьем, которое навлекает на самое себя слово просвещённое. Удеис, вынужденный признать себя Одиссеем, уже несёт на себе черты того еврея, который даже под страхом смерти все ещё кичится своим превосходством, ведущим происхождение от страха перед смертью, и месть человеку средства присуща не только концу буржуазного общества, а уже его началу в качестве той негативной утопии, к которой все вновь и вновь устремляется всякое насилие.
Им объективно руководит страх того, что если только он не будет беспрестанно отстаивать неустойчивое преимущество слова над насилием, последним он может быть вновь лишён этого преимущества. Ибо слову известно, что оно слабее обманутой им природы. Избыточное говорение позволяет высветить насилие и несправедливость в качестве первопринципа и побуждает того, кому следует бояться, именно к испуганным действиям. Мифическая принудительность слова, присущая архаической эпохе, увековечивается тем несчастьем, которое навлекает на самое себя слово просвещённое. Удеис, вынужденный признать себя Одиссеем, уже несёт на себе черты того еврея, который даже под страхом смерти все ещё кичится своим превосходством, ведущим происхождение от страха перед смертью, и месть человеку средства присуща не только концу буржуазного общества, а уже его началу в качестве той негативной утопии, к которой все вновь и вновь устремляется всякое насилие. Магия дезинтегрирует самость, которая вновь становится её добычей и тем самым отбрасывается на более древний биологический уровень. Насилие осуществляемого ей распада вновь является насилием забвения. Твердым порядком времени захватывает оно твёрдую волю субъекта, ориентирующегося на этот порядок.
Магия дезинтегрирует самость, которая вновь становится её добычей и тем самым отбрасывается на более древний биологический уровень. Насилие осуществляемого ей распада вновь является насилием забвения. Твердым порядком времени захватывает оно твёрдую волю субъекта, ориентирующегося на этот порядок. 34 Нераздельны в ней стихии огня и воды, и именно эта нераздельность, являющаяся противоположностью примата одного определённого природного аспекта — будь то материнского, будь то патриархального, — составляет сущность промискуитета, Гетерического, все ещё просвечивающего во взгляде девки, этом влажном отблеске созвездий. 35 Гетера дарует счастье и разрушает автономию осчастливленного, именно в этом её двусмысленность. Но она не обязательно уничтожает его: ей сохраняется более древняя форма жизни. 36 Подобно лотофагам Кирке не причиняет своим гостям ничего смертоносного, и даже те, кто становятся дикими зверьми, миролюбивы:
34 Нераздельны в ней стихии огня и воды, и именно эта нераздельность, являющаяся противоположностью примата одного определённого природного аспекта — будь то материнского, будь то патриархального, — составляет сущность промискуитета, Гетерического, все ещё просвечивающего во взгляде девки, этом влажном отблеске созвездий. 35 Гетера дарует счастье и разрушает автономию осчастливленного, именно в этом её двусмысленность. Но она не обязательно уничтожает его: ей сохраняется более древняя форма жизни. 36 Подобно лотофагам Кирке не причиняет своим гостям ничего смертоносного, и даже те, кто становятся дикими зверьми, миролюбивы:
 Оно погашается тем настойчивее, чем более цивилизованными являются сами его жертвы. 38
Оно погашается тем настойчивее, чем более цивилизованными являются сами его жертвы. 38 Заколдовывание и расколдовывание в ходе превращения спутников Одиссея связано с травой и вином, опьянение и протрезвление — с обонянием, всегда более других подавляемым и вытесняемым чувством, наиболее близким как полу, так и памятованию об архаических временах. 40 Но образом свиньи счастье обоняния обезображено и превращено в грязное вынюхивание 41 того, чей нос находится на уровне земли, того, кто отказывается от прямохождения. Все выглядит так, как если бы колдунья-гетера тем ритуалом, которым она подчиняет себе мужчин, снова повторяла ритуал, которому патриархальное общество вновь и вновь подчиняет самое себя. Подобно ей, склоняются под нажимом цивилизации женщины, прежде всего, к тому, чтобы усвоить цивилизаторный приговор, вынесенный женщине, и диффамировать секс. В споре Просвещения с мифом, следы которого хранит эпопея, могущественная искусительница в то же время оказывается и слабой, устаревшей, уязвимой, нуждающейся в эскорте закабаленных ей зверей.
Заколдовывание и расколдовывание в ходе превращения спутников Одиссея связано с травой и вином, опьянение и протрезвление — с обонянием, всегда более других подавляемым и вытесняемым чувством, наиболее близким как полу, так и памятованию об архаических временах. 40 Но образом свиньи счастье обоняния обезображено и превращено в грязное вынюхивание 41 того, чей нос находится на уровне земли, того, кто отказывается от прямохождения. Все выглядит так, как если бы колдунья-гетера тем ритуалом, которым она подчиняет себе мужчин, снова повторяла ритуал, которому патриархальное общество вновь и вновь подчиняет самое себя. Подобно ей, склоняются под нажимом цивилизации женщины, прежде всего, к тому, чтобы усвоить цивилизаторный приговор, вынесенный женщине, и диффамировать секс. В споре Просвещения с мифом, следы которого хранит эпопея, могущественная искусительница в то же время оказывается и слабой, устаревшей, уязвимой, нуждающейся в эскорте закабаленных ей зверей. 42 В качестве репрезентантки природы становится загадочным образом неотразимости 43 и бессилия. Так отражается ей тщеславная женщина в буржуазном обществе ложь господства, которой примирение с природой замещается преодолением её.
42 В качестве репрезентантки природы становится загадочным образом неотразимости 43 и бессилия. Так отражается ей тщеславная женщина в буржуазном обществе ложь господства, которой примирение с природой замещается преодолением её. Именно поэтому ему достаётся то, что её чары лишь обманчиво обещали тем, кто не сумел устоять перед ней. Одиссей спит с ней. Но прежде того он заставляет её поклясться величайшей клятвой блаженных, олимпийской клятвой. Клятва должна защитить мужчину от порчи, от мести за нарушение запрета на промискуитет и за его мужское господство, каковые в свою очередь, в качестве перманентного подавления инстинкта, все ещё символически осуществляются самоизуродованием мужчины. Тому, кто устоял перед ней, господину, самости, кому из-за его непревращаемости Кирке бросает упрек: «Сердце железное бьётся в груди у тебя » 44, готова покориться Кирке:
Именно поэтому ему достаётся то, что её чары лишь обманчиво обещали тем, кто не сумел устоять перед ней. Одиссей спит с ней. Но прежде того он заставляет её поклясться величайшей клятвой блаженных, олимпийской клятвой. Клятва должна защитить мужчину от порчи, от мести за нарушение запрета на промискуитет и за его мужское господство, каковые в свою очередь, в качестве перманентного подавления инстинкта, все ещё символически осуществляются самоизуродованием мужчины. Тому, кто устоял перед ней, господину, самости, кому из-за его непревращаемости Кирке бросает упрек: «Сердце железное бьётся в груди у тебя » 44, готова покориться Кирке:
 — Сила Кирке, подчиняющей себе мужчин в качестве кабально от неё зависимых, переходит в её кабальную зависимость по отношению к тому, кто, в качестве отказавшегося, своим непокорством заявил ей о неподчинении порабощению. То влияние на природу, которое поэт приписывает богине Кирке, съеживается до размеров жреческого прорицания и даже до мудрого провидения грядущих трудностей в области мореходства. Это продолжает свою жизнь в карикатурном образе женской мудрости. Ведь прорицания депотенцированной колдуньи о сиренах, Сцилле и Харибде в конечном итоге опять-таки идут на пользу лишь мужскому самосохранению.
— Сила Кирке, подчиняющей себе мужчин в качестве кабально от неё зависимых, переходит в её кабальную зависимость по отношению к тому, кто, в качестве отказавшегося, своим непокорством заявил ей о неподчинении порабощению. То влияние на природу, которое поэт приписывает богине Кирке, съеживается до размеров жреческого прорицания и даже до мудрого провидения грядущих трудностей в области мореходства. Это продолжает свою жизнь в карикатурном образе женской мудрости. Ведь прорицания депотенцированной колдуньи о сиренах, Сцилле и Харибде в конечном итоге опять-таки идут на пользу лишь мужскому самосохранению.
 И если Гетера всего лишь осваивает патриархальный миропорядок как свой собственный, то моногамная супруга не довольствуется этим и не успокоится до тех пор, пока не сравняется с самим мужским характером.
И если Гетера всего лишь осваивает патриархальный миропорядок как свой собственный, то моногамная супруга не довольствуется этим и не успокоится до тех пор, пока не сравняется с самим мужским характером. По этому опознает его чуткая Пенелопа и льстит ему, воздавая хвалу его исключительному рассудку. Но к самой этой лести, в которой уже кроется что-то от насмешки, добавляются, пробиваясь во внезапной цезуре, те слова, которыми причина страданий супругов отыскивается в зависти богов к тому счастью, которое гарантируется лишь браком, к «удостоверенной идее длительности» 50:
По этому опознает его чуткая Пенелопа и льстит ему, воздавая хвалу его исключительному рассудку. Но к самой этой лести, в которой уже кроется что-то от насмешки, добавляются, пробиваясь во внезапной цезуре, те слова, которыми причина страданий супругов отыскивается в зависти богов к тому счастью, которое гарантируется лишь браком, к «удостоверенной идее длительности» 50: И если договор между супругами с большим трудом добивается уступок как раз только со стороны древнейшей вражды, то тогда мирно стареющие всё же исчезают в образе Филимона и Бавкиды, подобно тому, как превращается в благотворный чад домашнего очага дым жертвенного алтаря. Вероятнее всего, брак относится к коренной породе мифа в основании цивилизации. Но его мифическая твёрдость и прочность возвышаются над мифом подобно тому, как возвышается над беспредельным морем маленькое островное царство. 52
И если договор между супругами с большим трудом добивается уступок как раз только со стороны древнейшей вражды, то тогда мирно стареющие всё же исчезают в образе Филимона и Бавкиды, подобно тому, как превращается в благотворный чад домашнего очага дым жертвенного алтаря. Вероятнее всего, брак относится к коренной породе мифа в основании цивилизации. Но его мифическая твёрдость и прочность возвышаются над мифом подобно тому, как возвышается над беспредельным морем маленькое островное царство. 52 Царство мёртвых, где собраны депотенцированные мифы, бесконечно отдалено от родины. Лишь в самой отдалённой дали коммуницирует оно с ней. Если следовать Кирхоффу в предположении, что посещение Одиссеем загробного мира относится к самому древнему, собственно былинному слою эпоса 55, то этот древнейший его слой в то же время является тем, в котором — точно так же, как в предании о путешествиях в загробный мир Орфея и Геракла — по меньшей мере, одна черта самым решительным образом выходит за пределы мифа, как, например, представляющий собой центральную клетку всякой антимифологической мысли мотив взламывания врат ада, упразднения смерти. Этот антимифологизм содержится и в пророчестве Тиресия о возможном умиротворении Посейдона. Неся на плече весло, надлежит странствовать и странствовать Одиссею, пока он не встретит людей, «Моря не знающих, пищи своей никогда не солящих» Примечания»>56. Когда ему встретится путник и скажет, что он несёт на плече лопату, то тем самым будет достигнуто правильное место для того, чтобы принести Посейдону умиротворяющую жертву. Сутью прорицания является ошибочное признание весла за лопату.
Царство мёртвых, где собраны депотенцированные мифы, бесконечно отдалено от родины. Лишь в самой отдалённой дали коммуницирует оно с ней. Если следовать Кирхоффу в предположении, что посещение Одиссеем загробного мира относится к самому древнему, собственно былинному слою эпоса 55, то этот древнейший его слой в то же время является тем, в котором — точно так же, как в предании о путешествиях в загробный мир Орфея и Геракла — по меньшей мере, одна черта самым решительным образом выходит за пределы мифа, как, например, представляющий собой центральную клетку всякой антимифологической мысли мотив взламывания врат ада, упразднения смерти. Этот антимифологизм содержится и в пророчестве Тиресия о возможном умиротворении Посейдона. Неся на плече весло, надлежит странствовать и странствовать Одиссею, пока он не встретит людей, «Моря не знающих, пищи своей никогда не солящих» Примечания»>56. Когда ему встретится путник и скажет, что он несёт на плече лопату, то тем самым будет достигнуто правильное место для того, чтобы принести Посейдону умиротворяющую жертву. Сутью прорицания является ошибочное признание весла за лопату. И если смех и по сей день считается признаком силы, вспышкой слепой ожесточённой природы, то всё же он несёт в себе и противоположный элемент, а именно тот, что как раз в смехе слепая природа узнает самое себя в качестве таковой и тем самым отрекается от разрушительного насилия. Эта двусмысленность смеха близка двусмысленности имени, и, быть может, имена являются не чем иным, как окаменевшим хохотом, точно так же, как сегодня им все ещё являются клички, единственное, в чём ещё продолжает жить нечто от изначального акта именования.
И если смех и по сей день считается признаком силы, вспышкой слепой ожесточённой природы, то всё же он несёт в себе и противоположный элемент, а именно тот, что как раз в смехе слепая природа узнает самое себя в качестве таковой и тем самым отрекается от разрушительного насилия. Эта двусмысленность смеха близка двусмысленности имени, и, быть может, имена являются не чем иным, как окаменевшим хохотом, точно так же, как сегодня им все ещё являются клички, единственное, в чём ещё продолжает жить нечто от изначального акта именования. В ней находит своё выражение историческая память, которой оседлость, предпосылка любой родины, учреждается в качестве преемницы номадической эпохи. И если непоколебимый порядок собственности, который даётся оседлостью, является основой отчуждения человека, которым порождается любая ностальгия и тоска по утраченному первобытному состоянию, то, тем не менее, всё же именно оседлость и прочная собственность, в условиях которой лишь и образуется понятие родины, являются тем, на что обращена любая тоска и любая ностальгия.
В ней находит своё выражение историческая память, которой оседлость, предпосылка любой родины, учреждается в качестве преемницы номадической эпохи. И если непоколебимый порядок собственности, который даётся оседлостью, является основой отчуждения человека, которым порождается любая ностальгия и тоска по утраченному первобытному состоянию, то, тем не менее, всё же именно оседлость и прочная собственность, в условиях которой лишь и образуется понятие родины, являются тем, на что обращена любая тоска и любая ностальгия. Но приостановка насилия в речи является в то же время и цезурой, превращением рассказанного в нечто давным-давно прошедшее, благодаря чему просверкивает тот отблеск свободы, который цивилизации с той поры уже более не удалось полностью погасить.
Но приостановка насилия в речи является в то же время и цезурой, превращением рассказанного в нечто давным-давно прошедшее, благодаря чему просверкивает тот отблеск свободы, который цивилизации с той поры уже более не удалось полностью погасить. В рассказе об этом злодеянии, однако, надежда связана с тем, что это случилось уже давным-давно.
В рассказе об этом злодеянии, однако, надежда связана с тем, что это случилось уже давным-давно.