ДЕНЬ И ЖИЗНЬ . От Блока до Бродского
В огромном собрании сочинений Солженицына «Один день Ивана Денисовича» занимает около ста страниц. Но это первое опубликованное его произведение многие считают лучшим.
Солженицын определил жанр «Одного дня…» даже не как повесть, а как рассказ, имея в виду концентрированность места и времени действия, ограниченный круг персонажей. Однако рассказ строится таким образом, что становится «маленьким романом», обобщенной картиной жизни страны сталинской эпохи.
Место действия рассказа – один из сталинских лагерей, «островок» Архипелага ГУЛАГ (Государственного управления лагерей – эту метафору Солженицын придумает немного позднее), в котором отбывают огромные сроки самые разные, но одинаково невиновные люди: бежавшие из плена солдаты, встречавшийся с иностранцами по службе моряк-капитан, верующий-баптист, московский режиссер, попавшие сюда «за национальность» эстонцы и латыши. Лагерь оказывается «ноевым ковчегом» узников, которые уравнены общностью судьбы.
Время действия обозначено точно: «Начался год новый, пятьдесят первый…»
Это была эпоха, когда «Архипелаг созрел» (название главы в книге «Архипелаг ГУЛАГ»), но до распада ему оставалось еще целое пятилетие.
На первое место среди десятков более или менее подробно изображенных персонажей выдвинут Иван Денисович Шухов из деревни Темгенёво. Солженицын утверждал, что прототипом героя стал воевавший в его батарее солдат Шухов, однако никогда не сидевший. Центральным персонажем Шухова делает не только подробный, по сравнению с другими, рассказ о нем, но и сама форма повествования.
Рассказ написан в манере несобственно-прямой речи, промежуточной между объективным повествованием от третьего лица и субъективным сказом. Такая форма позволяет автору, как в сказовой манере, постоянно вести повествование «в тоне и духе героя», смотреть на мир его глазами, но в то же время избавляет от необходимости воспроизводить все конкретные, например диалектные, особенности его речи.
Вот сцена прихода Шухова в санчасть с надеждой получить освобождение от работы.
«В санчасти, как всегда, до того было чисто в коридоре, что страшно ступать по полу. И стены крашены эмалевой белой краской. И белая вся мебель. Но двери кабинетов были все закрыты. Врачи-то, поди, еще с постелей не подымались. А в дежурке сидел фельдшер – молодой парень Коля Вдовушкин, за чистым столиком, в свеженьком белом халате, – и что-то писал.
Никого больше не было.
Шухов снял шапку, как перед начальством, и, по лагерной привычке лезть глазами куда не следует, не мог не заметить, что Николай писал ровными-ровными строчками и каждую строчку, отступя от краю, аккуратно одну под одной начинал с большой буквы.
Описание санчасти дается в синтетической, слитной манере: автор представляет точку зрения героя, иногда используя и его речь («Врачи-то, поди, с постелей еще не подымались»; «Шухов… не мог не заметить…»), но в то же время не поясняя того, чего не понимает персонаж (что это за ровные строчки, каждая из которых начинается с большой буквы?).
После диалога Ивана Денисовича с фельдшером, из которого выясняется, что освобождение от работы ему, скорее всего, получить не удастся, появляется внутренняя речь героя, его раскавыченный монолог: «Теперь вот грезится: заболеть бы недельки на две, на три не насмерть и без операции, но чтобы в больничку положили, – лежал бы, кажется, три недели, не шевельнулся, а уж кормят бульоном пустым – лады».
В финале сцены происходит переход уже к чисто авторскому повествованию. Повествователь раскрывает то, чего не знал и не понимал герой: Иван Денисович столкнулся с липовым, фальшивым фельдшером, которого спасает от тяжелых общих работ непримиримый к другим работягам доктор.
«…A Вдовушкин писал свое. Он, вправду, занимался работой „левой“, но для Шухова непостижимой. Он переписывал новое длинное стихотворение, которое вчера отделал, а сегодня обещал показать Степану Григорьичу, тому самому врачу.
Как это делается только в лагерях, Степан Григорьич и посоветовал Вдовушкину объявиться фельдшером, поставил его на работу фельдшером, и стал Вдовушкин учиться делать внутривенные уколы на темных работягах, да на смирных литовцах и эстонцах, кому и в голову никак бы не могло вступить, что фельдшер может быть вовсе и не фельдшером. Был же Коля студент литературного факультета, арестованный со второго курса. Степан Григорьич хотел, чтоб он написал в тюрьме то, чего ему не дали на воле…»
Такие переходы от одной речевой манеры к другой требуют большого мастерства, но придают повествованию концентрированность, убедительность, глубину.
Избранная Солженицыным точка зрения персонажа была принципиально важна для него. В соответствии с традицией XIX века он понимает народ, прежде всего, как крестьянство. Поэтому ему важна реакция на события, на трагедию сталинской эпохи именно крестьянина, которого с толстовских, с некрасовских времен считали солью земли. «В том-то и мина была „Ивана Денисовича“, что подсунули им простого Ивана, – пояснял позднее писатель свой замысел, подразумевая под ними советских чиновников и обслуживающих их интеллигентов («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 7, гл. 1).
Поэтому ему важна реакция на события, на трагедию сталинской эпохи именно крестьянина, которого с толстовских, с некрасовских времен считали солью земли. «В том-то и мина была „Ивана Денисовича“, что подсунули им простого Ивана, – пояснял позднее писатель свой замысел, подразумевая под ними советских чиновников и обслуживающих их интеллигентов («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 7, гл. 1).
Простой Иван оказывается для писателя мерой всех вещей.
Внешне Иван Денисович воспринимает произошедшее с ним без излишних эмоций и страданий, как свершившийся факт. После побега из плена он подписал «добровольное» признание, потому что это была единственная возможность выжить: «В контрразведке били Шухова много. И расчет был у Шухова простой: не подпишешь – бушлат деревянный, подпишешь – хоть поживешь еще малость. Подписал».
Он спокойно вспоминает страшный северный лагерь, где не выполнившие нормы бригады оставляли на всю ночь в лесу. И этот новый для него лагерь он оценивает с оптимизмом и надеждой: «Не-ет, братцы… здесь поспокойней, пожалуй, – прошепелявил он.
Не обращая внимания на унизительные номера-ярлыки, Иван Денисович прекрасно освоил науку выживания. Он знает, что нужно уважать бригадира и нельзя лизать миски. Навсегда отказавшись от помощи из дома («Еще когда-то в Усть-Ижме Шухов получил посылку пару раз. Но и сам жене написал: впустую, мол, проходят, не шли, не отрывай от ребятишек»), он умеет заработать лишний хлеб и стоянием в очереди, и шитьем тапочек, и другими поделками. Он понимает, как важны в лагерном быте даже самые простые вещи: несколько хлебных крошек, теплые валенки, обломок ножовки.
Герой хорошо понял бы не читанного им О. Э. Мандельштама: «Немного теплого куриного помета / И бестолкового овечьего тепла; / Я все отдам за жизнь – мне так нужна забота, – / И спичка серная меня б согреть могла» («Кому зима – арак и пунш голубоглазый…», 1922).
Он считает бригаду своей семьей, выгадывая для нее лишние порции в столовой. Даже, бессмысленном каторжном труде он умеет найти удовольствие от хорошо выполненной своими руками работы. «А Шухов, хоть там его сейчас конвой псами трави, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал – и через стенку, слева, справа. Эх, глаз – ватерпас! Ровно! Еще рука не старится», – восхищается он свой кирпичной кладкой в конце одного дня.
«Смеется бригадир: „Ну как тебя на свободу отпускать? Без тебя ж тюрьма плакать будет!”» – «Что, гадство, день рабочий такой короткий? Только до работы припадешь – уж и съём! Иди, бригадир!» – отшучивается Иван Денисович, чувствуя, что «сейчас работой своей он с бригадиром сравнялся».
Каждая деталь, каждый обычный шаг заключенного вырастает в своем значении, потому что речь идет, в конечном счете, о его жизни и смерти. «Бригадир в лагере – это все: хороший бригадир тебе жизнь вторую даст, плохой бригадир в деревянный бушлат загонит.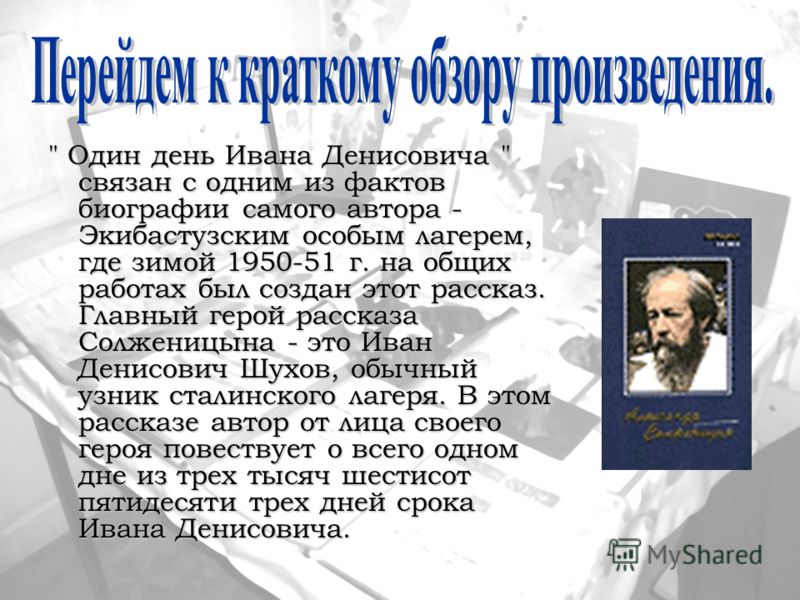 – Двести грамм жизнью правят. На двести граммах Беломорканал построен». – «Передние, кого просчитали, оборачиваются, на цыпочки лезут смотреть – в пятерке последней двое останется или трое. От этого сейчас вся жизнь зависит». – «Этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни». – «Завстоловой никому не кланяется, а его все зэки боятся. Он в одной руке тысячи жизней держит». – «Десять суток! Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, – это значит на всю жизнь здоровья лишиться».
– Двести грамм жизнью правят. На двести граммах Беломорканал построен». – «Передние, кого просчитали, оборачиваются, на цыпочки лезут смотреть – в пятерке последней двое останется или трое. От этого сейчас вся жизнь зависит». – «Этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни». – «Завстоловой никому не кланяется, а его все зэки боятся. Он в одной руке тысячи жизней держит». – «Десять суток! Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, – это значит на всю жизнь здоровья лишиться».
Шухов проживает опасные лагерные годы с той же предусмотрительностью, внутренним спокойствием, стоицизмом, с какой русские землепроходцы обживали суровые края. Однако его горизонт ограничен азбукой выживания. Он с недоумением смотрит на людей иной культуры и другого образа жизни (оказывается подобные различия сохраняются и за колючей проволокой).
Иван Денисович не только не понимает стихов, которые сочиняет фальшивый фельдшер Вдовушкин. Он с иронией воспринимает интеллигентские разговоры и манеру поведения. «Они, москвичи, друг друга издаля чуют, как собаки. И, сойдясь, все обнюхиваются, обнюхиваются по-своему. И лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадаются, слушать их – все равно как латышей или румын», – воспроизводит писатель внутреннюю речь героя. (На таком «лопотании» строится роман «В круге первом», им много занимался в заключении сам Солженицын.)
Он с иронией воспринимает интеллигентские разговоры и манеру поведения. «Они, москвичи, друг друга издаля чуют, как собаки. И, сойдясь, все обнюхиваются, обнюхиваются по-своему. И лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадаются, слушать их – все равно как латышей или румын», – воспроизводит писатель внутреннюю речь героя. (На таком «лопотании» строится роман «В круге первом», им много занимался в заключении сам Солженицын.)
Но точно так же далек от Шухова баптист Алешка с его ежедневным чтением Евангелия. Иван Денисович может восхититься ловкостью, с которой тот прячет записную книжку с молитвами, но остается совершенно равнодушен к его проповеди. «Я ж не против Бога, понимаешь. В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите? Вот что мне не нравится. <…> – В общем, – решил он, – сколько ни молись, а сроку не скинут. Так от звонка до звонка и досидишь».
Авторский взгляд, однако, шире точки зрения героя. Граница в этой жизни, как и в жизни вообще, проходит не по линии социального происхождения и воспитания.
Граница в этой жизни, как и в жизни вообще, проходит не по линии социального происхождения и воспитания.
Наряду с живущими особой, более легкой, жизнью «москвичами» с их спорами о фильме Эйзенштейна, богатыми посылками и освобождением от тяжелых работ для сочинения стихов, автор заставляет героя увидеть и другого интеллигентного заключенного, видимо дворянина.
«Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчетно, сколько советская власть стоит, и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали. Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изо всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он еще сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего – волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юлили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще уперлись в свое. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщербленной, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие десны жевали хлеб за зубы. Лицо его все вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тесаного, темного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нем, не примирится: трехсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в росплесках, а – на тряпочку стираную».
Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие десны жевали хлеб за зубы. Лицо его все вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до камня тесаного, темного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нем, не примирится: трехсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в росплесках, а – на тряпочку стираную».
Через мелкие, сразу отмеченные Шуховым детали (прямая спина, обращенный куда-то вдаль взгляд, мерные движения, чистая тряпочка, на которую кладется хлеб) Солженицын создает привлекательный образ человека старой культуры, прошедшего все испытания, но оставшегося несогнутым, непобежденным.
А рядом, на соседней скамейке, может сидеть кавторанг Буйновский, не сломленный войной, но осваивающий здесь, как и Шухов, острожную науку выживания. «Он недавно был в лагере, недавно на общих работах. Такие минуты, как сейчас, были (он не знал этого) особо важными для него минутами, превращавшими его из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного зэка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отверстанные ему двадцать пять лет тюрьмы».
Описание одного дня с точки зрения героя оканчивается воодушевляющим, оптимистическим итогом: «Засыпал Шухов вполне удоволенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый».
Последняя авторская фраза кажется стилистически нейтральной: «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов – три дня лишних набавлялось…»
Но после этого многоточия возникают неизбежные вопросы: за что, за какие преступления работящий простой Иван должен претерпеть эти тысячи дней? почему здесь страдают и умирают другие люди? кто виноват?
Лагерь из «Одного дня Ивана Денисовича» позднее превращается у Солженицына в обобщенный образ «Архипелага ГУЛАГа». В одной из глав этой книги писатель вступает в диалог с полюбившимся героем: «„Ну, Иван Денисович, о чем еще мы не рассказали? Из нашей повседневной жизни?“ – „Ху-у-у! Еще и не начали. Тут столько лет рассказывать, сколько сидели”» («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 3, гл. 7).
В одной из глав этой книги писатель вступает в диалог с полюбившимся героем: «„Ну, Иван Денисович, о чем еще мы не рассказали? Из нашей повседневной жизни?“ – „Ху-у-у! Еще и не начали. Тут столько лет рассказывать, сколько сидели”» («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 3, гл. 7).
От этого героя идет прямая дорога к крестьянке Матрене: «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша» («Матренин двор», 1959–1960).
За колючей проволокой Солженицын увидел образ «матушки-Руси», убогой и обильной, могучей и бессильной. По тематике относящийся к «лагерной прозе», рассказ Солженицына становится размышлением о силе и слабости русского национального характера, философии выживания, русской истории XX века.
Предтекстовая работа с произведением Солженицына
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения русского писателя Александра Исаевича Солженицына.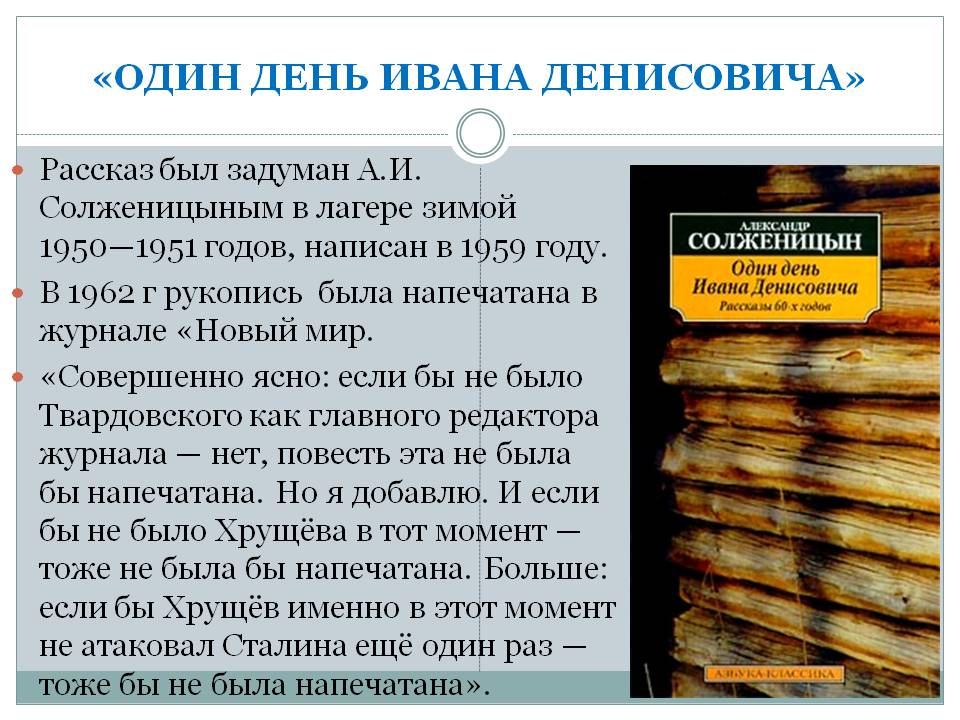 Предлагаю вам методическую разработку по его повести «Один день Ивана Денисовича».
Предлагаю вам методическую разработку по его повести «Один день Ивана Денисовича».
Знакомство с произведениями русской литературы может происходить как на занятиях с иностранными студентами-филологами, так и в общем курсе РКИ. Знание основных вех истории русской литературы, наиболее значимых произведений и имён способствует формированию межкультурной компетенции иностранных учащихся. Предлагаемая разработка рассчитана на учащихся уровня В2 (в отечественной терминологии – второй сертификационный уровень) и выше. При создании данной методической разработки мы опирались на книги и статьи Н.В. Кулибиной. Как пишет Наталья Владимировна Кулибина, «без чтения художественной литературы не может быть полноценного овладения языком».
Художественные произведения помогают в осмыслении исторических и общественно-политических событий. Несомненно, именно таким произведением является повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Текст повести достаточно объёмный (около 115 страниц текста) и не может быть прочитан полностью в рамках аудиторных занятий при обычных условиях обучения. Могут быть прочитаны вслух отдельные фрагменты с последующим подробным анализом их языкового своеобразия и идейного содержания (примерно 8-10 академических часов аудиторной работы). Также предполагается самостоятельное изучающее чтение дома. Лингвометодические рекомендации и обучающие материалы по произведениям А. И. Солженицына для студентов-иностранцев содержатся в авторском курсе «Уроки чтения с Н.В. Кулибиной», где есть тематическая серия «Читаем Солженицына», в которой представлены уроки по текстам из цикла «Крохотки»: «Утёнок», «Лиственница», «Отраженье в воде». В статье С.А. Сердюковой описано изучение творчества Солженицына в иностранной аудитории на примере рассказа «Захар-Калита».
Могут быть прочитаны вслух отдельные фрагменты с последующим подробным анализом их языкового своеобразия и идейного содержания (примерно 8-10 академических часов аудиторной работы). Также предполагается самостоятельное изучающее чтение дома. Лингвометодические рекомендации и обучающие материалы по произведениям А. И. Солженицына для студентов-иностранцев содержатся в авторском курсе «Уроки чтения с Н.В. Кулибиной», где есть тематическая серия «Читаем Солженицына», в которой представлены уроки по текстам из цикла «Крохотки»: «Утёнок», «Лиственница», «Отраженье в воде». В статье С.А. Сердюковой описано изучение творчества Солженицына в иностранной аудитории на примере рассказа «Захар-Калита».
Мы разделили работу над текстом произведения «Один день Ивана Денисовича» на три этапа: предтекстовая подготовка, притекстовая работа, послетекстовая работа.
1. Предтекстовая подготовка включает две основных части: работа с текстом автобиографии Солженицына, написанной по просьбе Нобелевского комитета, и анализ заголовка повести.
1.1. Работа с автобиографией А. И. Солженицына. Чтение автобиографии позволит глубже и полнее понять повесть и личность автора, а также получить представление об исторической эпохе, в которую жил и о которой повествовал в своём творчестве писатель. Понимание обстоятельств публикации повести, общественно-политического контекста, знание обстоятельств жизни писателя поможет иностранцу понять значение повести и, шире, всего творчества Солженицына.
Прочитайте краткую автобиографию А.И. Солженицына, написанную по просьбе Нобелевского комитета (текст даётся в сокращении). Нобелевская премия была присуждена Солженицыну в 1970 году. Вспомните других русских писателей и поэтов — лауреатов Нобелевской премии по литературе (Бунин, Шолохов, Пастернак, Бродский).
Я родился в 1918 году, 11 декабря, в Кисловодске. Отец мой, сту¬дент филологического отделения Московского университета, не окон¬чил курса, так как пошёл добровольцем на войну 1914 г. Он … умер летом 1918 г., ещё за пол¬года до моего рождения. Воспитывала меня мать, она была машинисткой … в г. Ростове-на-Дону … Я поступил на математическое отделе¬ние Ростовского университета: к математике у меня были значительные способности, она мне легко давалась, но жизненного при¬звания в ней не было. Однако она сыграла благодетельную роль в моей судь¬бе …: вероятно, я не пережил бы вось-ми лет лагерей, если бы как математика меня не взяли на четыре года на так называемую «шарашку»; и в ссылке мне разрешили преподавать мате¬ма¬тику и физику … С 1939 и до 1941 года параллельно физмату учился также на заочном отделении Московского института Исто¬рии-Философии-Литературы.
Воспитывала меня мать, она была машинисткой … в г. Ростове-на-Дону … Я поступил на математическое отделе¬ние Ростовского университета: к математике у меня были значительные способности, она мне легко давалась, но жизненного при¬звания в ней не было. Однако она сыграла благодетельную роль в моей судь¬бе …: вероятно, я не пережил бы вось-ми лет лагерей, если бы как математика меня не взяли на четыре года на так называемую «шарашку»; и в ссылке мне разрешили преподавать мате¬ма¬тику и физику … С 1939 и до 1941 года параллельно физмату учился также на заочном отделении Московского института Исто¬рии-Философии-Литературы.
… В ноябре 1942 г. я был на¬значен командиром … артиллерийской батареи и в этой должности непрерывно провоевал … до моего ареста в феврале 1945 г. …
Арестован я был на основании цензурных извлечений из моей пере¬пис¬ки со школьным другом в 1944–45 годах, … за непочти¬тельные высказывания о Сталине, хотя и упоминали мы его под псевдони¬мом. В июле 1945 г. я был «осуждён» по широко приня¬той тогда системе — заочно …, к 8 годам лагерей . ..
..
Приговор я отбывал сперва в исправительно-трудовых лагерях … Затем, в 1946 г., как ма-тематик был востребован оттуда в систему научно-иссле¬довательских инсти¬тутов … и в таких «спецтюрьмах» провёл середину своего срока. В 1950 г. был послан в … особые лагеря для одних политических. В таком лагере в г. Экибастузе в Казахстане («Один день Ивана Денисовича») работал черно¬рабочим, каменщиком, литейщиком. Там у меня развилась раковая опу-холь, оперированная, но недолеченная …
… После 8-летнего срока пришло … рас¬поряже¬ние: не освободить меня, а направить на вечную ссылку в Кок-Те¬рек (юг Казах¬стана) … С марта 1953 года … до июня 1956 г. я отбывал эту ссылку. Здесь у меня быстро раз¬вил¬ся рак, и в конце 1953 г. я был уже на рубеже смерти … Однако, отпущенный на лечение в Ташкент, я в тамошней раковой клинике был в течение 1954 года излечен … Все годы ссылки я пре¬подавал в сельской школе математику и физику и … тайком писал прозу …
Все годы, до 1961, я не только был уверен, что никогда при жизни не увижу в печати ни одной своей строки, но даже из близких знакомых почти ни¬кому не решался дать прочесть что-либо, боясь разглашения. Наконец, к соро¬ка двум годам, такое тайное писательское положение ста¬ло меня очень тяго¬тить. Главная тяжесть была в невозможности прове¬рять свою работу на лите-ратурно развитых читателях. В 1961 году, после XXII съезда КПСС и речи Твар¬довского на нём, я решился открыться: предложить «Один день Ивана Де¬нисовича». Такое самооткрытие каза¬лось мне тогда — и не без основания — очень рискованным: оно могло привести к гибели всех моих рукописей и меня самого. Тогда обошлось счастливо: А.Т. Твардовскому, в ходе долгих усилий, удалось через год напечатать мою повесть. Но почти сразу же печа¬тание моих вещей было остановлено … — и в те месяцы мне казалось непростительной ошибкой, что я открыл прежде вре¬мени свою работу и так не доведу её до конца.
Наконец, к соро¬ка двум годам, такое тайное писательское положение ста¬ло меня очень тяго¬тить. Главная тяжесть была в невозможности прове¬рять свою работу на лите-ратурно развитых читателях. В 1961 году, после XXII съезда КПСС и речи Твар¬довского на нём, я решился открыться: предложить «Один день Ивана Де¬нисовича». Такое самооткрытие каза¬лось мне тогда — и не без основания — очень рискованным: оно могло привести к гибели всех моих рукописей и меня самого. Тогда обошлось счастливо: А.Т. Твардовскому, в ходе долгих усилий, удалось через год напечатать мою повесть. Но почти сразу же печа¬тание моих вещей было остановлено … — и в те месяцы мне казалось непростительной ошибкой, что я открыл прежде вре¬мени свою работу и так не доведу её до конца.
Даже событий, уже происшедших с нами, мы почти никогда не мо¬жем оценить и осознать тотчас, по их следу, тем более непредсказуем и удиви¬телен оказывается для нас ход событий грядущих (полный текст автобиографии был опубликован в сборнике «Нобелевские лауреаты» за 1970 год. Stockholm, 1971).
Stockholm, 1971).
На основании прочитанного ответьте на вопросы и постарайтесь отыскать дополнительную информацию:
1) Когда и где родился Солженицын? Найдите на карте России город Кисловодск. Найдите в интернете информацию о музее А. И. Солженицына в Кисловодске. Кем были родители Александра Исаевича? В какой войне участвовал его отец?
2) Какое образование получил Солженицын? Почему ему не удалось получить литературное образование? Что говорит писатель о своём отношении к математике? Какую «благодетельную роль» сыграла математика в судьбе Солженицына?
3) За что Солженицын был арестован? Сколько лет он провёл в тюрьмах? В каких городах? Какие обязанности ему приходилось выполнять? Что такое «шарашка»? В каком месте автобиографии упоминается повесть «Один день Ивана Денисовича»? Как вы думаете, почему?
4) Почему Солженицын не давал читать свои произведения даже близким людям? Что произошло, согласно описанию автора, когда ему исполнилось сорок два года?
5) Расскажите об истории публикации пьесы «Один день Ивана Денисовича». Что произошло в 1953 году? Чем известен ХХII съезд КПСС? Известен ли вам А.Т. Твардовский? Автором каких произведений он является? Должность главного редактора какого литературного журнала он занимал? Какова его роль в литературной судьбе Солженицына?
Что произошло в 1953 году? Чем известен ХХII съезд КПСС? Известен ли вам А.Т. Твардовский? Автором каких произведений он является? Должность главного редактора какого литературного журнала он занимал? Какова его роль в литературной судьбе Солженицына?
6) Прочитайте ещё раз два последних абзаца автобиографии. Как вы понимаете последнюю фразу в прочитанной автобиографии? Прокомментируйте.
Параллельно с обсуждением биографии писателя комментируем лексико-грамматический материал, при необходимости снимаем языковые трудности. Затем переходим к следующей части предтекстовой подготовки – обсуждению названия повести.
1.2. Работа с заголовком активизирует мыслительную деятельность и механизмы антиципации. С помощью заголовка учащиеся могут попытаться спрогнозировать содержание произведения. Сообщаем, что первоначальное название повести, данное А. И. Солженицыным – «Щ-854. Один день одного зэка». Новое название было предложено редактором журнала «Новый мир» (где впервые была напечатана повесть) А. Т. Твардовским. Солженицын его сразу одобрил.
Т. Твардовским. Солженицын его сразу одобрил.
1) Какие предположения о содержании повести вы можете сделать, прочитав заголовок? Как вы думаете, что означал номер в авторском названии повести.
2) Имя главного персонажа книги – Иван. Предположите, почему автор назвал героя именно так. В каких произведениях русского фольклора можно встретить имя Иван? Вспомните персонажа русских сказок по имени Иван-дурак. Какими чертами характера он обладает? (одна из наиболее распространённых русских фамилий – Иванов).
Юлия Мареева, преподаватель Учебного центра русского языка МГУ
Однажды в жизни Ивана Денисовича: Введение Джона Бэйли Александром Солженитсином, хард -переплет
Один день в жизни Ивана Денисовича
от Alexander Solzhenitsyn
Библиотека Александр Солженицын
Все права защищены.
ISBN: 0679444645
ПОБУЖДЕНИЕ БЫЛО, как всегда, в 5 утра — молоток стучал по перилам возле штаб-квартиры лагеря. Звонкий шум слабо то вспыхивал, то пропадал сквозь оконные стекла, покрытые льдом толщиной более дюйма, и быстро затихал. Было холодно, и надзирателю не хотелось продолжать стучать.
Звук прекратился и за окном стало как смоль темно, совсем как посреди ночи, когда Шухову надо было вставать, чтобы пойти в уборную, только теперь на окно упали три желтых луча — от два фонаря по периметру и один внутри лагеря.
Он не знал почему, но никто не пришел открывать бараки. И не было слышно, как санитары поднимали на столбы цистерну уборной, чтобы вынести ее.
Шухов никогда не спал до побудки, а всегда тотчас же вставал. Это дало ему около полутора часов до утренней переклички, времени, когда любой, кто знал, что к чему в лагерях, всегда мог выпросить что-нибудь на стороне. Он мог сшить кому-нибудь чехол для варежек из куска старой подкладки. Он мог бы принести одному из крупных бандитских боссов свои сухие валенки, пока он еще был на своей койке, чтобы избавить его от необходимости бродить босиком по груде сапог и пытаться найти свои. Или он мог сбегать в одну из кладовых, где могла быть небольшая работа, подметать или нести что-нибудь. Или он мог пойти в столовую, чтобы взять тарелки со столов и отнести их грудами в посудомоечные машины. Это был еще один способ добыть еду, но всегда было слишком много других людей с той же идеей. И хуже всего было то, что, если в миске что-то оставалось, ты начинал это слизывать. Ты ничего не мог с собой поделать. А Шухов еще мог слышать слова своего первого бандитского начальника Кузёмина, старого лагерного работника, просившего уже двенадцать лет в 19-м году.43. Однажды, у костра на лесной поляне, он сказал новой группе, только что прибывшей с фронта:
Он мог сшить кому-нибудь чехол для варежек из куска старой подкладки. Он мог бы принести одному из крупных бандитских боссов свои сухие валенки, пока он еще был на своей койке, чтобы избавить его от необходимости бродить босиком по груде сапог и пытаться найти свои. Или он мог сбегать в одну из кладовых, где могла быть небольшая работа, подметать или нести что-нибудь. Или он мог пойти в столовую, чтобы взять тарелки со столов и отнести их грудами в посудомоечные машины. Это был еще один способ добыть еду, но всегда было слишком много других людей с той же идеей. И хуже всего было то, что, если в миске что-то оставалось, ты начинал это слизывать. Ты ничего не мог с собой поделать. А Шухов еще мог слышать слова своего первого бандитского начальника Кузёмина, старого лагерного работника, просившего уже двенадцать лет в 19-м году.43. Однажды, у костра на лесной поляне, он сказал новой группе, только что прибывшей с фронта:
«Здесь закон джунглей, ребята. Но и здесь можно жить. первым уходит тот, кто вылизывает миски, верит в лазарет или визжит на винты».
В этом он был абсолютно прав, хотя с ребятами, которые визжали до отказа, так не всегда получалось. Они знали, как позаботиться о себе. Им это сошло с рук, а пострадали другие ребята.
Шухов всегда вставал в побудку, а сегодня не встал. Со вчерашнего вечера он чувствовал себя паршиво — от болей, болей и озноба, и в ту ночь он просто не мог согреться. Во сне он чувствовал себя очень плохо, а потом снова немного лучше. Он все время боялся утра.
Но наступило утро, как всегда.
Да и как тут согреться, когда на окне навалился лед, а по всему бараку в месте примыкания стен к потолку бежит белая паутина инея? И это была адская казарма.
Шухов остался в постели. Он лежал на верхней койке, накинув на голову одеяло и пальто, а обе ноги засунули в рукава пиджака. Он ничего не видел, но по звукам мог сказать, что делается в казарме и в его части. Он слышал, как санитары топают по коридору с одной из двадцатигаллонных цистерн туалета. Предполагалось, что это будет легкая работа для людей, находящихся на больничном, но это была не шутка — вынести вещь, не расплескав ее!
Потом кто-то из Банды 75 вывалил на пол кучу валенков из сушилки. А теперь то же самое сделал кто-то из его банды (сегодня тоже была их очередь пользоваться сушилкой). Бандитский босс и его помощник быстро надели сапоги, и их койки заскрипели. Помощник главаря банды теперь пойдет за хлебным пайком. А затем начальник уезжал в отдел планирования производства (PPS) в штаб-квартире.
А теперь то же самое сделал кто-то из его банды (сегодня тоже была их очередь пользоваться сушилкой). Бандитский босс и его помощник быстро надели сапоги, и их койки заскрипели. Помощник главаря банды теперь пойдет за хлебным пайком. А затем начальник уезжал в отдел планирования производства (PPS) в штаб-квартире.
Но, вспомнил Шухов, это был не обычный ежедневный визит к служащим ППС. Сегодня был большой день для них. Они слышали много разговоров о переключении своей банды — 104 — с создания мастерских на новую работу, создание нового «Социалистического общественного развития». Но пока это были не более чем голые поля, покрытые сугробами, и прежде чем что-либо там можно было сделать, надо было выкопать ямы, поставить столбы и поставить колючую проволоку — арестантами для арестантов, чтобы они могли т выйти. И тогда они могли бы начать строить.
Можно поспорить жизнью, что в течение месяца не будет места, где можно было бы согреться, даже норы в земле. И вы не могли разжечь огонь — что бы вы могли использовать в качестве топлива? Так что твоей единственной надеждой было работать как черт.
Босс банды забеспокоился и собирался попытаться все исправить, попытаться подсунуть работу какой-нибудь другой банде, которая немного медленнее соображала. Конечно, вы не могли уйти с пустыми руками. Для старшего клерка потребуется фунт сала. Или даже два.
Может быть, Шухов попытается попасть на больничный, чтобы получить выходной. Попытка не помешала. Все его тело было одной большой болью.
Потом он задумался, а какой надзиратель сегодня дежурил?
Он вспомнил, что это был Большой Иван, высокий тощий сержант с черными глазами. В первый раз, как его увидишь, он тебя до смерти напугал, а когда ты его узнал, он был самым легким из всех дежурных надзирателей — не посадит тебя в урну и не потащит к дисциплинарному работнику. Так что Шухов мог оставаться на месте до казармы 9.идти в столовую.
Нары качались и тряслись, когда вместе вставали двое мужчин — наверху сосед Шухова, креститель Алешка, а внизу Буйновский, бывший капитаном флота.
Когда вынесли два бака уборных, санитары начали спорить, кто пойдет за горячей водой. Они шли и шли, как две старухи. Электросварщик из «Банды 20» рявкнул на них:
Они шли и шли, как две старухи. Электросварщик из «Банды 20» рявкнул на них:
«Эй вы, старые ублюдки!» И кинул в них сапогом. — Я заставлю тебя заткнуться.
Ботинок ударился о столб. Санитары замолчали.
Помощник начальника шайки рядом с ними ворчал вполголоса:
«Василий Федорович! На меня сволочи в кладовке быстро натянули. У нас всегда четыре двухпудовых батона получается, а сегодня только три. Кто-то должен будет получить короткий конец «.
Он говорил тихо, но, конечно, вся банда его слышала и все затаили дыхание. Кому сегодня вечером не хватило пайка?
Шухов остался на месте, на утрамбованном опилках матраса. Хоть бы то одно, то другое — или высокая температура, или конец боли. Но таким образом он не знал, где он был.
Пока Креститель шептал свои молитвы, капитан вернулся из уборной и сказал не кому-то конкретно, а как бы злорадствуя:
«Соберитесь, мужики! Ниже двадцати минимум».
Шухов решился пойти в лазарет.
И тут какая-то сильная рука сорвала с него куртку и одеяло. Шухов сорвал с лица стеганую шинель и немного приподнялся. Под ним, его голова на уровне верха койки, стоял Тощий Татарин.
Значит, этот ублюдок пришел на дежурство и подкрался к ним.
«С-854!» татарин читал по белому пятну на спине черного кафтана. «Трое суток в банке, как обычно».
В ту минуту, когда они услышали его смешной приглушенный голос, все во всей казарме, которая была довольно темной (не во всем горели огни) и где двести человек спали на пятидесяти кишащих клопами нарах, вдруг ожили. . Те, кто еще не встал, начали торопливо одеваться.
«А зачем, товарищ надзиратель?» — спросил Шухов, и голос его звучал жалостнее, чем он действительно чувствовал.
Контейнер был бы вдвое хуже, если бы вам дали нормальную работу. У тебя была горячая еда, и не было времени размышлять. Не выпускать на работу — вот это было настоящее наказание.
— Что ты еще не встал? Пойдем в комендатуру, — протянул татарин, — и он, и
Шухов, и все знали, за что он берет банку.
На безволосом сморщенном лице татарина было пустое выражение. Он обернулся и стал искать, к кому бы еще придраться, но все — и в темноте, и при свете, и на нижней койке, и на верхней — засовывали его ноги в черные стеганые штаны с номерами на спине. левое колено. Или они уже оделись и кутались и торопились к двери, чтобы дождаться снаружи, пока татарин не уйдет.
Если бы Шухова посадили за что-то заслуженное, он бы так не расстроился. Его злило то, что он всегда вставал одним из первых. Но у Татарина не было шансов выкрутиться. Так что он продолжал проситься, чтобы его отпустили на всякий случай, а тем временем натягивал свои стеганые штаны (у них тоже был пришит потёртый, грязный кусок материи выше левого колена, с нарисованным на нём номером С-854 в черный и уже линялый), надел пиджак (у него было два номера, один на груди и один на спине), достал из кучи на полу сапоги, надел фуражку (с таким же номером спереди), и вышел за татарином.
Вся 104-я бригада видела, как снимали Шухова, но никто не сказал ни слова. Это не помогло бы, и что вы могли бы сказать? Босс банды мог бы заступиться за него, но он уже ушел. Да и сам Шухов никому ничего не сказал. Он не хотел раздражать татарина. Они оставят его завтрак для него, и им не нужно будет об этом говорить.
Это не помогло бы, и что вы могли бы сказать? Босс банды мог бы заступиться за него, но он уже ушел. Да и сам Шухов никому ничего не сказал. Он не хотел раздражать татарина. Они оставят его завтрак для него, и им не нужно будет об этом говорить.
Они вдвоем вышли.
Было морозно, от тумана, от которого перехватывало дыхание. Два больших прожектора пересекали комплекс со сторожевых вышек в дальних углах. Свет по периметру и свет внутри лагеря горели на полную мощность. Их было так много, что они затмевали звезды.
Скрипя валенками по снегу, заключенные носились по своим делам — в уборные, в кладовые, в кладовку или на кухню сварить крупу. Их плечи были сгорблены, а пальто застегнуты, и всем было холодно не столько из-за морозной погоды, сколько потому, что они знали, что им придется провести в ней весь день. Но татарин в своей старой шинели с потертыми голубыми петлицами шел твердо и, казалось, совсем не смущал его холода.
Они прошли мимо высокого деревянного забора вокруг карцера (каменная тюрьма внутри лагеря), мимо забора из колючей проволоки, ограждавшего пекарню от заключенных, мимо угла штаба, где отрезок обмерзшего рельса был привязан к столбу толстой проволокой, а за другим столбом, где в защищенном месте, чтобы показания не были слишком низкими, висел термометр, обледеневший. Шухов с надеждой покосился на молочно-белую трубку. Если она опускалась до сорока двух градусов ниже нуля, их не должны были отправлять на работу. Но сегодня термометр не показывал сорок или что-то в этом роде.
Шухов с надеждой покосился на молочно-белую трубку. Если она опускалась до сорока двух градусов ниже нуля, их не должны были отправлять на работу. Но сегодня термометр не показывал сорок или что-то в этом роде.
Они вошли в штаб — прямо в комнату надзирателей. Тут-то и выяснилось, — как Шухов уже по дороге догадался, — что его вовсе не собирались сажать в урну, а только что пол в надзирательнице надо помыть. Правда, теперь татарин сказал Шухову, что отпускает его, и велел вымыть пол.
Мыть пол в комнате надзирателей было делом спецзаключенного — штабного ординарца, который никогда не работал за пределами лагеря. Но давным-давно он устроился в штабе и теперь свободно ходил по комнатам, где работали майор, дисциплинарный инспектор и начальник службы безопасности. Он все время прислуживал им и иногда слышал то, чего не знали даже надзиратели. И какое-то время он считал, что мыть полы для обычных надзирателей немного ниже его достоинства. Его вызывали раз или два, потом сообразили и стали привлекать к работе обычных заключенных.
Печка в комнате надзирателей полыхала. Двое надзирателей, раздевшись до грязных рубашек, играли в шашки, а третий, оставшийся в подпоясанном тулупе и валенках, спал на узкой скамейке. В углу стояло ведро и тряпка.
Шухов очень обрадовался и поблагодарил татарина за то, что он его отпустил:
«Спасибо, товарищ надзиратель. Я больше никогда не буду поздно вставать».
Правило здесь было простым: закончи свою работу и уходи. Теперь, когда Шухову дали работу, его боли как будто прекратились. Он взял ведро и пошел к колодцу без рукавиц, которые забыл в спешке и оставил под подушкой.
Начальники банды, доносящиеся в ППС, образовали небольшую группу возле поста, и один из младших, в прошлом Герой Советского Союза, взобрался наверх и протер градусник.
Остальные кричали ему: «Не дыши на него, а то поднимется».
«Подняться… черт возьми, это будет… это все равно ни хрена не изменит.»
Тюрина — начальника бригады Шухова — не было. Шухов поставил ведро и засунул руки в рукава. Он хотел посмотреть, что происходит.
Шухов поставил ведро и засунул руки в рукава. Он хотел посмотреть, что происходит.
Парень на столбе сказал хриплым голосом: «Семнадцать с половиной ниже — дерьмо!»
И еще раз взглянув на всякий случай, он спрыгнул вниз.
«В любом случае, это всегда неправильно — это наглый лжец», — сказал кто-то. «Они никогда не поставили бы тот, который работает здесь».
Главари банд разбежались. Шухов побежал к колодцу. Под клапанами шапки, которую он приспустил, но не завязал, уши болели от холода.
Верх колодца был покрыт толстым слоем льда, так что ведро с трудом проходило через отверстие. И веревка была жесткой, как доска.
У Шухова замерзли руки, поэтому, вернувшись в надзирательскую с дымящимся ведром, он сунул их в воду. Ему стало теплее.
Из издания в мягкой обложке.
Продолжение…
Фрагмент из книги Один день Ивана Денисовича by Александр Солженицын Copyright © 1995 by Александр Солженицын.Выдержка с разрешения.
Все права защищены. Никакая часть этого отрывка не может быть воспроизведена или перепечатана без письменного разрешения издателя.
Выдержки предоставляются Dial-A-Book Inc. исключительно для личного использования посетителями этого веб-сайта.
Один день Ивана Денисовича Раздел 1 Сводка и анализ
От начала романа до захвата Колей Температура Шухова
Зима в советском трудовом лагере под названием «Штаб» в Сибири. Рабочий звонит сокамерникам, стуча молотком. на рельсах снаружи, но так холодно, что он скоро сдается.
Шухов Иван Денисович, узник лагеря, обычно
быстро просыпается при звонке будильника, но сегодня он осознает тяжелую
ломота во всем теле и высокая температура. Он слушает звуки
из других зэки, или лагерники, тащащиеся в
работа. Он слышит признаки того, что его собственная команда, Банда 104,
тоже готовится к родам. Шухов вспоминает, что это будет
день, когда будет решено, останется ли Банда 104
в штаб-квартире или быть отправленным на замерзающие бесплодные равнины для работы над зданием
проект. Шухов размышляет, что в такой холод, некуда деться
тепло даже на мгновение, единственная надежда на выживание — лихорадочно копать
и никогда не останавливайся.
Шухов размышляет, что в такой холод, некуда деться
тепло даже на мгновение, единственная надежда на выживание — лихорадочно копать
и никогда не останавливайся.
Шухов с облегчением замечает, что дежурный надзиратель это Иван, который никогда никого не бросает в лагерную тюрьму, заключенные называют «дырой». Шухов думает, что может немного поспать дольше, пока не наступит время завтрака. Чувствуя, как трясется двухъярусная кровать, он знает, что встают двое его сокамерников: Буйновский и Алешка, известный также как «Креститель» за свою непоколебимую религиозная вера. Пока Алешка шепчет свои молитвы, Шухов слышит, как бригадир соседней банды упоминает, что банда паек обсчитали, а значит, кому-то придется остаться без полного надела хлеба в тот вечер. Тем временем кто-то объявляет, что температура составляет тридцать градусов ниже нуля. Шухов решает, что он явится в лазарет.
Новый надзиратель срывает с Шухова одеяло. Начальник сообщает ему
что Шухов — официально идентифицированный как заключенный «Ща-854» — будет
быть наказанным за то, что он не встал в положенное время. Он говорит, что Шухов
приговор будет трое суток в яме. Шухова выводят на улицу
надзирателем. Однако надзиратель не сажает его в яму.
Шухов следует за надзирателем в надзирательскую и получает приказ
мыть полы — гораздо лучшая судьба, чем быть запертым в дыре.
Шухов разувается, чтобы не промокнуть, медитирует.
о том, как дорога ему его обувь. Он быстро закончит работу,
отмечая, что важно, чтобы пол выглядел хорошо, а не
чем собственно чистить.
Он говорит, что Шухов
приговор будет трое суток в яме. Шухова выводят на улицу
надзирателем. Однако надзиратель не сажает его в яму.
Шухов следует за надзирателем в надзирательскую и получает приказ
мыть полы — гораздо лучшая судьба, чем быть запертым в дыре.
Шухов разувается, чтобы не промокнуть, медитирует.
о том, как дорога ему его обувь. Он быстро закончит работу,
отмечая, что важно, чтобы пол выглядел хорошо, а не
чем собственно чистить.
Шухов идет в столовую, когда закончит мыть этажей. Он видит, как новый украинский заключенный крестится перед едой. Шуков думает, что этот заключенный со временем потеряет эту религиозную привычку. Из сапога Шухов достает ложку, которая была у него с собой. со времен его пребывания в другом лагере: это одно из немногих его владений. Шухов снимает шапку, как всегда перед едой. С он опаздывает на столовку, еды осталось не много, но он ест рыбные остатки и кашу перед тем, как отправиться в лазарет.
В лазарете Шухов находит санитара Колю Вдовушкина
на дежурстве, пишет стихи. Коля сообщает Шухову, что клиника
закрыто, и что Шухов должен был прийти вчера ночью; Шухов отвечает
что боль не началась до сегодняшнего утра. Коля соглашается взять
Температура Шухова, а в ожидании результатов он возвращается
к его поэзии.
Коля сообщает Шухову, что клиника
закрыто, и что Шухов должен был прийти вчера ночью; Шухов отвечает
что боль не началась до сегодняшнего утра. Коля соглашается взять
Температура Шухова, а в ожидании результатов он возвращается
к его поэзии.
Анализ
Затем он снял кепку с выбритого головой — как бы ни было холодно, он не позволял себе есть с шапкой на.
См. объяснение важных цитат
Опыт Шухова иллюстрирует несправедливость
советская правовая система. В лагере персонажи борются с
произвольные наказания. Хоть мы и не знаем, в чем преступление Шухова
совершил, наше впечатление о Шухове такое, что он сочувствующий,
простой характер. Кажется вероятным, что его бесчеловечное наказание
слишком экстремально для преступления, которое он якобы совершил. По мере того, как мы узнаем больше
о нравственном, прямом характере Шухова нам трудно
поверить, что он сделал что-то действительно неправильное. Однако произвольное правосудие
лагеря означает, что люди наказываются независимо от их вины
или невинность.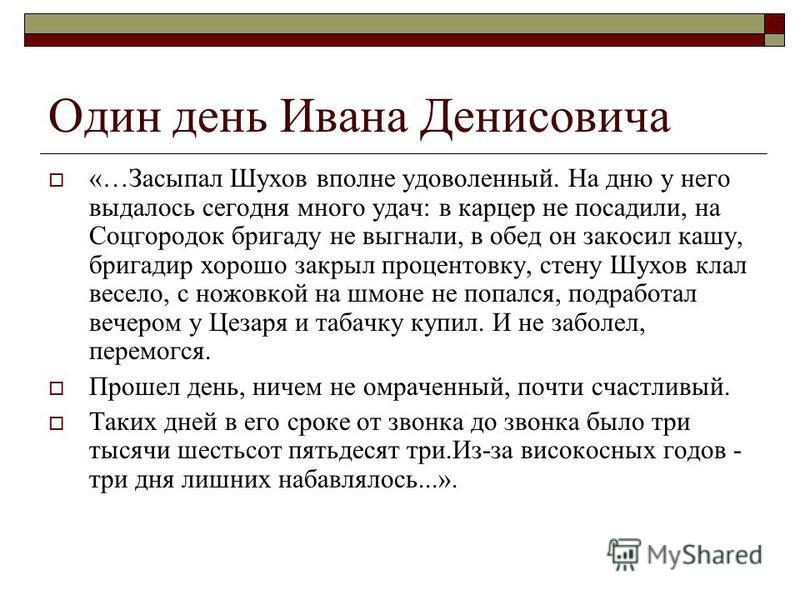 Наказание Шухова за болезнь усиливает
ощущение, что лагерная система правосудия нелогична. Его преступление
болезни не является актом свободной воли, но он наказывается за
тем не менее это. Теоретически цель наказания состоит в том, чтобы научить
люди должны нести ответственность за себя, чтобы они воздерживались от
вредные действия. Но когда людей наказывают за то, что они не могут
контроля, этот идеал личной ответственности становится бессмысленным.
Наказание Шухова за болезнь усиливает
ощущение, что лагерная система правосудия нелогична. Его преступление
болезни не является актом свободной воли, но он наказывается за
тем не менее это. Теоретически цель наказания состоит в том, чтобы научить
люди должны нести ответственность за себя, чтобы они воздерживались от
вредные действия. Но когда людей наказывают за то, что они не могут
контроля, этот идеал личной ответственности становится бессмысленным.
Упоминание в тексте Шухова по фамилии подчеркивает
то, как лагерь держит его на холодном официальном расстоянии. «Иван»
имя Шухова, а Денисович его отчество, имя
производное от имени отца (отца Ивана, по-видимому, звали
Денис). В русском обществе обращение к кому-либо по первому
имя и отчество сердечные, но уважительные. Ранний советский коммунист
режим пытался искоренить эту форму обращения, потому что уважение
это влечет за собой предполагаемые классовые различия между людьми, которые коммунизм
стремится устранить. С другой стороны, обращение к кому-либо по его
или ее фамилия имеет прямо официальное звучание.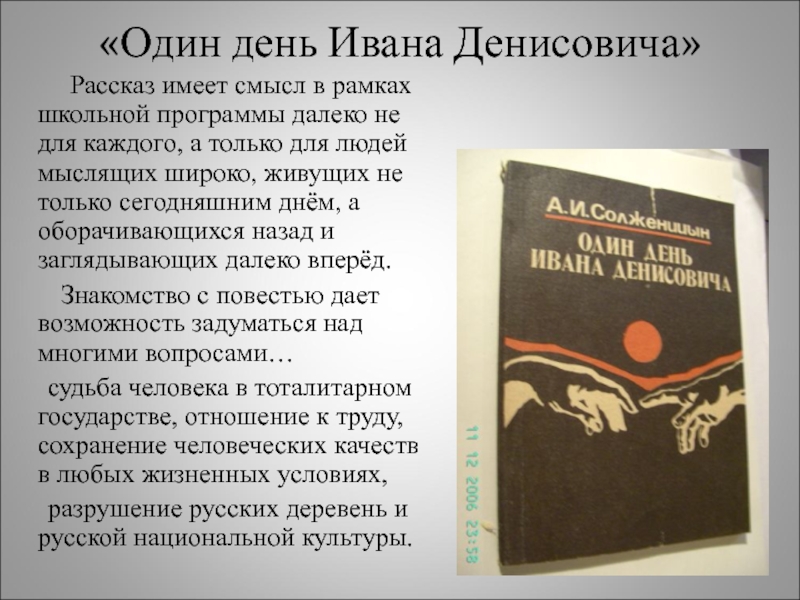 Советская манера
обращение к людям «товарищ» с последующей фамилией было
попытка заменить старую формулу новой, более адаптированной
к бесклассовой утопии.
Советская манера
обращение к людям «товарищ» с последующей фамилией было
попытка заменить старую формулу новой, более адаптированной
к бесклассовой утопии.
В названии романа главный герой скорее упоминается как «Иван Денисович».
чем как «Шухов», усиливая важность запоминания личных
личности в бесчеловечном политическом режиме. Обращение к Шухову
как «Иван Денисович», Солженицын заставляет нас ожидать рассказа о
индивидуальный характер с ярко выраженной социальной идентичностью. Такого рода
Характер характерен для произведений более ранних русских писателей. Однако,
первые абзацы романа показывают, что у Шухова мало
социальное положение или чувство идентичности. Разные имена в названии
(«Иван Денисович») и повествование («Шухов») подразумевают, что
два разных Ивана Денисовича. Жизнь Шухова в лагере
изменил его так, что он уже не тот, кем был раньше.
В лагерных документах он теперь только номер: охранник, который смахивает
он в постели на первых страницах обращается к нему по мундиру
номер «Ща-854».
