что на самом деле это значит – аналитический портал ПОЛИТ.РУ
«Полит.ру» проводит открытые онлайн-семинары «Сильные тексты» — коллективные разборы знаменитых русских стихотворений. Расписание можно найти в специальном разделе лекций, а видеозаписи — в нашем YouTube-канале. В этом выпуске — сокращенная расшифровка разбора стихотворения Осипа Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны».
В разборе участвовали:
Олег Лекманов — литературовед, филолог. Профессор НИУ ВШЭ. Автор и соавтор книг об Осипе Мандельштаме, Сергее Есенине, Борисе Пастернаке, Венедикте Ерофееве. Победитель национальной литературной премии «Большая книга» (2019).
Роман Лейбов — литературовед, филолог. Доцент Тартуского университета (Эстония). Автор и редактор многих сетевых проектов.
Глеб Морев — литературовед, специалист по истории русской литературы XX века.
Юрий Фрейдин — врач-психиатр и литературовед, сопредседатель «Мандельштамовского общества».
Алексей Цветков — поэт, прозаик, переводчик. Лауреат премии Андрея Белого (2007) и Русской премии (2011).
Владимир Мирзоев — российский режиссёр театра и кино, сценограф, лауреат Государственной премии России (2001).
Екатерина Павленко — автор и редактор проектов Международного Мемориала.
Чун Сон (Александр) Ким — студент РГУ им. Губкина.
Василий Старостин — магистрант программы «История советской цивилизации» Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки).
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
Там припомнят кремлёвского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина,
И широкая грудь осетина.
ЛЕКМАНОВ: Я бы хотел всем напомнить, что это стихотворение как минимум дважды очень сильно повлияло на судьбу Мандельштама. Один раз — при его жизни, а другой раз — уже после его смерти. Ну, при жизни — понятно: это стихотворение, которое было написано в ноябре 1933 года. Мандельштам, выполняя завет этого стихотворения «Наши речи за десять шагов не слышны», начал немедленно, по секрету, но довольно многим людям его читать. Кто-то на него донес, он был арестован, ну и на этом, как говорил Михаил Леонович Гаспаров, «переломилась» его жизнь.
А второй раз — это начало 1960-х годов, когда Юлиан Григорьевич Оксман героически передал это стихотворение за границу для публикации, и в альманахе «Мосты» в 1963 году оно было опубликовано. И если посмотреть, как писали о Мандельштаме до публикации этого стихотворения и после, за тем, какой популярностью он пользовался на Западе, а потом и в Советском Союзе, где это стихотворение быстро стало появляться в списках, до и после этой публикации, то это две разные картины. То есть, стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…» многократно увеличило популярность Мандельштама.
При этом — о чем я тоже хотел бы напомнить в начале нашего разговора, существует такая точка зрения, довольно многие ее придерживаются — и исследователи, и поэты, в частности, из известных мне — Александр Кушнер, который часто про это пишет и говорит, — что это не совсем мандельштамовское стихотворение. Что вот поздний Мандельштам-де сложный поэт, многогранный поэт, а это стихотворение — прямолинейное. Напомню, что и сам Мандельштам, когда его допрашивали, передал слова Ахматовой об этом стихотворении, как о лубке, высеченном в камне.
Что вот поздний Мандельштам-де сложный поэт, многогранный поэт, а это стихотворение — прямолинейное. Напомню, что и сам Мандельштам, когда его допрашивали, передал слова Ахматовой об этом стихотворении, как о лубке, высеченном в камне.
Я хотел бы сказать только про одну строку сразу же, про один стих этого стихотворения, а точнее — про одно слово в нем. А именно, про стих «Тараканьи смеются глазища». В списках 1960-х годов стихотворение распространялось с другим вариантом — «тараканьи смеются усища», и в последнем авторитетном собрании сочинений Мандельштама комментатор даже позволил себе опубликовать эту строку в таком виде — «тараканьи смеются усища», а в комментарии написал, что «глазища» вместо «усища» это описка. Увы, так иногда бывает, что исследователь подменяет собой поэта, ему кажется, что он видит, как поэт. Мне кажется, это как раз такой случай. Во-первых, трудно все-таки себе представить такую описку — это разные слова, они не похожи. А во-вторых, когда мы читаем «глазища», то мы имеем дело действительно с характерно мандельштамовским приемом.
Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.
— понятно, что «садовник» и «цветок» за собой влекут скорее не «темницу», а «теплицу». Мандельштам же использует слово «темница», а «теплица» подразумевается. Так же и в этом стихотворении, мне кажется, что «усища» конечно подразумеваются, конечно про усища мы все думаем, мы это слово как бы видим в этой строке. Но написано-то «глазища», и смысл стиха таким образом усложняется, и смысл начинает из слова «торчать в разные стороны», как сам Мандельштам писал о поэтическом слове. Возникает почти сюрреалистический образ, и что важно (об этом писал как раз Евгений Абрамович Тоддес, автор, кажется, лучшей работы про это стихотворение), в слове этом «глазища» прячется важная для Мандельштама «биологическая» тема зрения, которая очень полно воплотилась в знаменитом его «Ламарке». И вот уже наше представление об этом стихотворении, как о лубочном, слегка изменилось, правда?
И вот уже наше представление об этом стихотворении, как о лубочном, слегка изменилось, правда?
Лев Гумилев в 1934 году
ЛЕЙБОВ: Меня всегда удивляла устойчивая жанровая номинация, которая связана с этим текстом. Этот текст Надежда Яковлевна [Мандельштам] и многие современники называли эпиграммой. Мы знаем, что такое эпиграмма. Эпиграмма должна быть вообще-то сильно короче, и эпиграмма должна разрешаться пуантом. Этот текст достаточно длинный. Не только пуанта в нем нет, но проблематичен вообще финал. Оно, как другие неопубликованные тексты — но это особенно — окружено некоторым фольклором, и поэтому мы знаем какие-то истории, которые нам о нем рассказывают современники. Эмма Герштейн, которой я в данном случае не склонен абсолютно доверять, рассказала, что Мандельштам вообще отбросил последние два стиха. Но, тем не менее, Герштейн рассказала так, что «кому в глаз» якобы должно было заканчивать текст. Этот вариант зафиксирован и Львом Николаевичем Гумилевым.
Мы знаем еще один апокрифический рассказ — о том, что последний стих был гораздо более резким, и в этом варианте, который тоже дошел до нас опосредованно, вместо «грудь осетина» следует читать «жопа грузина».
Почему это не эпиграмма? Когда-то Омри Ронен замечательно нашел к нему очень верный претекст… Дело в том, что это стихотворение написано достаточно редким сочетанием размеров. Ронен когда-то обнаружил источник: это вторые половинки строф баллады Алексея Толстого «Поток-богатырь», там, где речь идет о Московском царстве. Там сначала правильно чередуются длинные и короткие строчки, а потом, как у Мандельштама, две длинных парных — две коротких парных.
Испугался Поток, не на шутку струхнул:
«Поскорей унести бы мне ноги!»
Вдруг гремят тулумбасы; идет караул,
Гонит палками встречных с дороги;
Едет царь на коне, в зипуне из парчи,
А кругом с топорами идут палачи, —
Его милость сбираются тешить,
Там кого-то рубить или вешать.
Омри Ронен также указал в качестве жанрового образца палинодию — Ода навыворот. С этим тоже есть какая-то сложность. Дело в том, что и эпиграмма, и палинодия утверждают превосходство говорящего над объектом говорения. Ну, мы помним, как Пушкин описывает эпиграмму как энтомологический инструмент, булавочку, которой мы пришпиливаем насекомых. И это постоянная метафора: эпиграмма как колюще-режущее холодное оружие.
С этим тоже есть какая-то сложность. Дело в том, что и эпиграмма, и палинодия утверждают превосходство говорящего над объектом говорения. Ну, мы помним, как Пушкин описывает эпиграмму как энтомологический инструмент, булавочку, которой мы пришпиливаем насекомых. И это постоянная метафора: эпиграмма как колюще-режущее холодное оружие.
Здесь же мы имеем дело с уникальным вообще отношением говорящего к объекту. Это не эпиграмма, даже не сатира, где автор также возвышается над предметом. С одной стороны, как Евгений Абрамович Тоддес справедливо указал, Мандельштам фактически выходит за грань литературы, он делает стихотворение поступком. И это очень смелый поступок. Сам Мандельштам это понимает и, кажется, переоценивает возможное звучание этого текста (опять же, Эмма Герштейн нам об этом сообщила, что якобы Мандельштам предвидел, что комсомольцы будут петь эти стихи — нет, ничего такого не случилось). Это действительно смертельно опасный поступок.
А с другой стороны, это очень точная эмоционально-психологическая фиксация того, что сейчас называют выученной беспомощностью. Здесь «мы», которые появляются в первых строчках, заранее объявляются лишенными речи и незаметными. В герои выдвигается «он» сразу. Тут нет никакого возвышения говорящего над объектом, напротив: завороженность, примерно как если бы кролик описал свои чувства по отношению к удаву. И это очень точная действительно культурно-психологическая фиксация, итог первой пятилетки, я бы так это описал. Такой документ становления настоящего культа. И неудивительно, что он не был оценен Пастернаком, например, который был восторженным кроликом — ну и вообще все испугались. А Мандельштам не испугался это сказать. Это совершенно не эпиграмматический, конечно, ход. Это, конечно, не о том, что «я выше своего объекта». Это о том, что «все наши речи не слышны».
Здесь «мы», которые появляются в первых строчках, заранее объявляются лишенными речи и незаметными. В герои выдвигается «он» сразу. Тут нет никакого возвышения говорящего над объектом, напротив: завороженность, примерно как если бы кролик описал свои чувства по отношению к удаву. И это очень точная действительно культурно-психологическая фиксация, итог первой пятилетки, я бы так это описал. Такой документ становления настоящего культа. И неудивительно, что он не был оценен Пастернаком, например, который был восторженным кроликом — ну и вообще все испугались. А Мандельштам не испугался это сказать. Это совершенно не эпиграмматический, конечно, ход. Это, конечно, не о том, что «я выше своего объекта». Это о том, что «все наши речи не слышны».
МОРЕВ: Есть хорошее определение для этого текста, которое тоже сочувственно цитировал Ронен, отсылая к поэту Илье Фаликову, который, в общем-то, на мой взгляд, очень разумно называет это инвективой.
ЛЕЙБОВ: Или инвектива, да. Но опять же, когда Лермонтов говорит: «презренные потомки», он все-таки их не боится, он не немеет перед ними.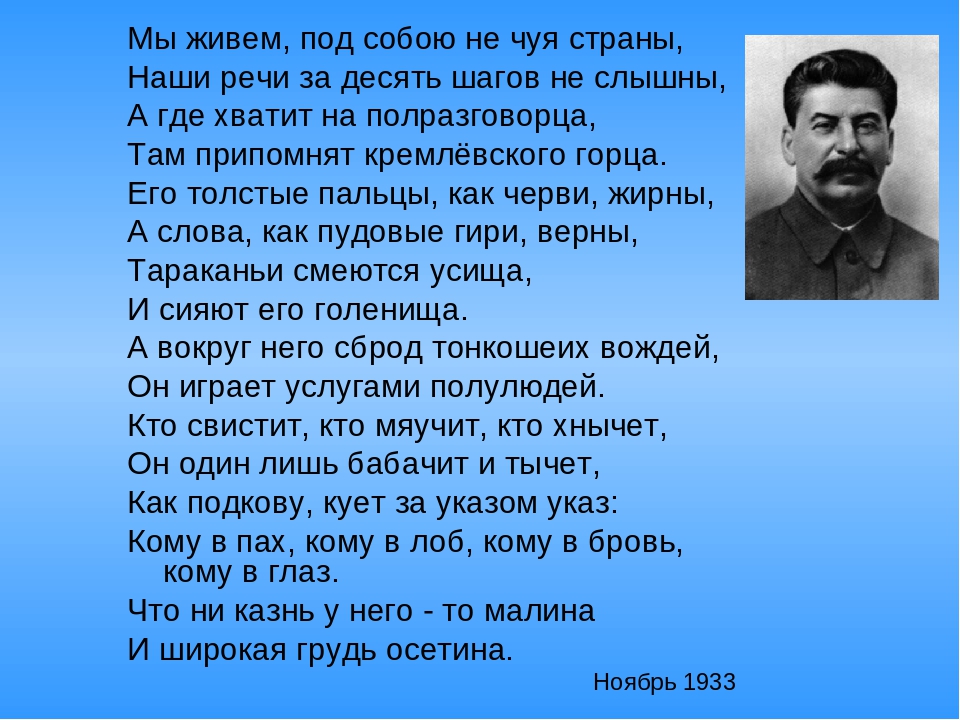 Он говорит: «есть высший суд, наперсники разврата!». А это — действительно, вообще такой уникальный текст. В отношении соединения террористической прагматики и обморочной эмоции он совершенно уникален.
Он говорит: «есть высший суд, наперсники разврата!». А это — действительно, вообще такой уникальный текст. В отношении соединения террористической прагматики и обморочной эмоции он совершенно уникален.
ФРЕЙДИН: если обращаться к традиции (а они ее знали), это конечно эпиграмма, но это эпиграмма особого рода, это политическая эпиграмма. Вообще говоря, существует вариант, когда это стихотворение оформляется не двумя строфами, а двустишиями, точно как эпиграмма. Ну, внутри это и так слышно, как его ни оформляй. Но двустишия делают это наглядно.
Мотивы любопытные. Мотив глухоты, который восходит к «Ламарку», здесь вымерян: «наши речи за десять шагов не слышны» — десять шагов это такая странная, непонятная вещь. Почему именно десять? Это такая странная вещь, нам сейчас не очень актуальная — это расстояние проверки слуха, например, при призыве в армию. Качество слуха проверяется на шести метрах, на 10 шагах. Это и, соответственно, параметры кабинета отоларинголога, где этот слух проверяют.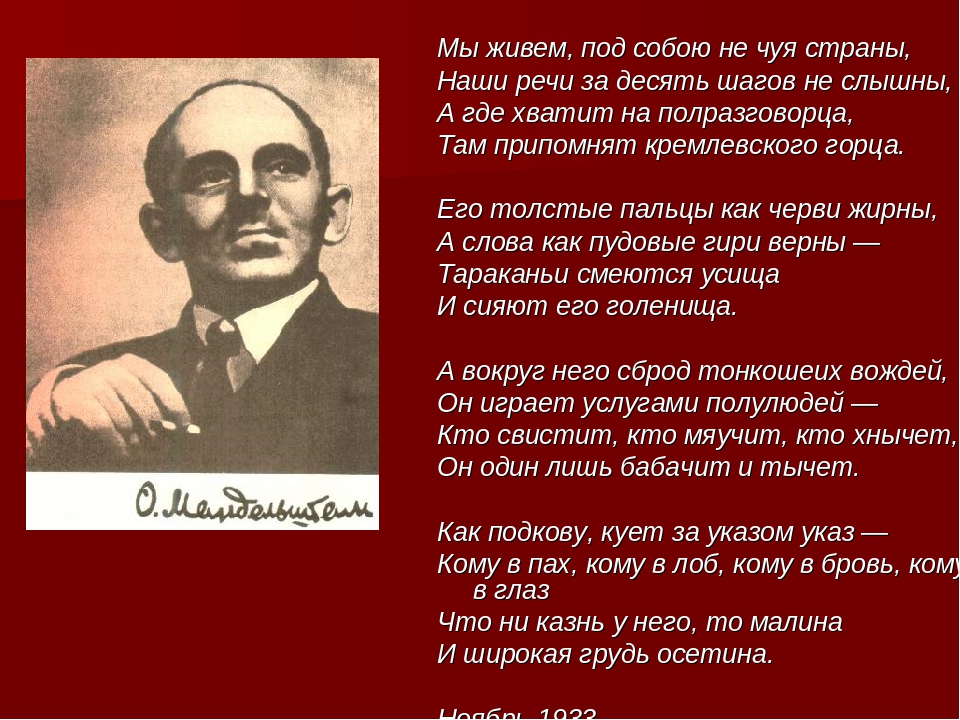
«Наши речи» не слышны на этом расстоянии. Но это не только от слуха, но и от немоты. Если в «Ламарке» наступает «глухота паучья» (заметьте, здесь тараканьи усища/глазища, а там глухота паучья), то тут уже и с речью плохо. А потом мы эту речь еще встретим у Мандельштама в «Воронеже»: «На лестнице колючей разговора б!». А из других источников мы знаем, что за один разговор на лестнице по-немецки в редакции газеты Мандельштам получил замечание: «Мандельштам, говорите по-русски!» — сказал ему кто-то из проходивших. Все было очень непросто.
Я бы хотел обратить внимание на два момента, когда это стихотворение сыграло поворотную роль — при жизни Осипа Эмильевича и в его посмертной судьбе. Очень интересно, что в 1938 году, при повторном аресте, стихотворение фактически на следствии не фигурировало, и вообще оно нигде никому — за единственным исключением, которое я упомяну — никогда не предъявлялось официально. Никто из упомянутых Осипом Эмильевичем в 1934 году слушателей за это стихотворение, за то, что он его слышал, не пострадал, привлечен не был. Единственный человек, кому это стихотворение вменялось, это был Лев Николаевич Гумилев, который, собственно, был повторно арестован и пошел в лагерь по доносу, где фигурировало в частности чтение им этого стихотворения.
Единственный человек, кому это стихотворение вменялось, это был Лев Николаевич Гумилев, который, собственно, был повторно арестован и пошел в лагерь по доносу, где фигурировало в частности чтение им этого стихотворения.
Осип Мандельштам. 17 мая 1934
Характерно, что много позже, когда Гумилева спрашивали, он рассказывал, что ему на следствии предъявляли материалы следственного дела Осипа Эмильевича про это стихотворение. Он не рассказывал о подробностях, а на вопрос, как, по его мнению, держался Осип Эмильевич, Лев Николаевич сказал: «Вполне достойно». Гумилев не был человеком сентиментальным, и его оценка заслуживает внимания.
Когда мы в 1991 году получили материалы следственного дела, мы были удивлены несоответствием рассказа Гумилева с тем, что мы прочли. «Раскололся». Но, как мы потом выяснили и подсчитали, он не раскололся. Он назвал максимум половину своих слушателей. В том числе он не назвал тех слушателей, при чтении стихотворения которым присутствовали другие лица, то есть свидетели. То есть лица, строго говоря подлежащие уголовной ответственности за недонесение. В этой ситуации очень странно, что донес только кто-то один.
То есть лица, строго говоря подлежащие уголовной ответственности за недонесение. В этой ситуации очень странно, что донес только кто-то один.
А кто еще знал про стихотворение? Эту тему для меня открыл Глеб Морев и я очень ему признателен. Мы не можем сказать точно, кто знал. Скорее всего, знал Ставский. Но Ставский не решается в своем доносе Ежову сказать об этом стихотворении прямо, а называет Мандельштама ругательно, но очень обтекаемо: автором похабных стихов. Господи боже мой, это про это стихотворение — «похабные стихи»! У него что, был вариант с «жопой грузина»? В чем дело? Или что, он «глазища» считает похабной строчкой? Непонятно.
По-видимому, знал Павленко. Но мы этого узнать не можем. И по-видимому, не знал Фадеев. Потому что Фадеев пытался опекать Мандельштама, пытался его как-то продвигать в разное время. Все, кто знал про это стихотворение, отступались немедленно, начиная от Бухарина. Как только он узнал это стихотворение — все. И секретарша Белочка говорит Надежде Яковлевне: «Николай Иванович не может вас принять, какие-то стихи». Какие-то стихи! Не одно стихотворение, а какие-то стихи! Это был текст по тем временам безумно взрывоопасный. Это был действительно прямой призыв к уничтожению. Что делать с таким человеком, у которого «что ни казнь — то малина»? Это кто такой?
Какие-то стихи! Не одно стихотворение, а какие-то стихи! Это был текст по тем временам безумно взрывоопасный. Это был действительно прямой призыв к уничтожению. Что делать с таким человеком, у которого «что ни казнь — то малина»? Это кто такой?
Мандельштам впервые в нем ввел тему, которая потом в литературе о Сталине прозвучит, но где-то периферийно: что это все было организовано по принципам уголовной братвы, и что он был главный пахан. Ну, у Сталина много других ролей и так далее, но до этого мы не встречаем подобных определений, выпадов, текстов. У этого стихотворения имеются разные претексты, в том числе античные, римские, Марциал и так далее, у него имеются разные подтексты, то есть оно при внешней простоте очень непросто устроено.
Это было политическое стихотворение. Это было ясно, но сказать это не решались самые близкие люди. Одним из понимающих людей, хотя и не таким заядлым читателем газет, как сам Осип Эмильевич, был Борис Пастернак. Судя по тому, что до нас дошло из его отзыва, он сказал: «это не поэзия, это поступок». Но мы знаем аналогичные высказывания автора, когда он говорит: «надо что-то сделать, надо написать стишок». Вот он написал этот стишок. Этот стишок был действием. И дальше Борис Леонидович сказал: «я не хочу участвовать в вашем самоубийстве». Ну, относительно самоубийственной для автора роли стихотворения у Осипа Эмильевича не было иллюзий. И то, что это все пошло иначе, это немножко другая история.
Но мы знаем аналогичные высказывания автора, когда он говорит: «надо что-то сделать, надо написать стишок». Вот он написал этот стишок. Этот стишок был действием. И дальше Борис Леонидович сказал: «я не хочу участвовать в вашем самоубийстве». Ну, относительно самоубийственной для автора роли стихотворения у Осипа Эмильевича не было иллюзий. И то, что это все пошло иначе, это немножко другая история.
Что дальше? Вот, будут распевать комсомольцы в Большом театре. Замечательно, что до нас дошло это. Надо сказать, что мотив диалога с самой высокой властью — это не только у Пастернака («в дни высокого совета, где высшей власти отданы места, оставлена вакансия поэта»), и это не только у Маяковского («о работе стихов от Политбюро чтобы делал доклады Сталин»), — это такая общая мечта русских поэтов на протяжении как минимум полутора столетий. «Истину царям с улыбкой говорить» /Державин/. Кому же это удавалось? Пожалуй, кроме Державина, назвать некого. Остальных просто никто не слышал, и никакого дела этим «царям» до этой истины не было, какую бы должность эти «цари» ни занимали, как бы ни называлась эта должность.
Это удивительное несовпадение наших — в том числе и поэтов — взглядов на эту власть и обратного зрения этой власти на этих поэтов — оно удивительно. Бродский, уезжая, оставляет в почтовом ящике аэропорта письмо Брежневу. Что, Брежнев слышал имя Бродского? А у Бродского неправильное представление. Он полагает, что его вопрос решается на таких уровнях, а он решается на уровнях гораздо более низких.
В случае с Мандельштамом это до какого-то времени было не так: вопрос с Мандельштамом решался на самом высоком уровне. И эта резолюция — кто посмел, как посмели арестовать Мандельштама — сыграла в 1934 году определяющую роль, трансформировавшись очень быстро в ту резолюцию, которая дошла до нас сравнительно рано: «изолировать, но сохранить».
Резолюция Сталина на письме Бухарина об аресте Мандельштама, 1934 год
Занятно, что «изолировать, но сохранить» при этом — мы это все называем «Чердынская ссылка» — нет, это была ссылка в отдаленные места Южного Урала. И мы читаем об этом у Надежды Яковлевны: им НКВДшник говорит: «а это вы еще тут только временно находитесь, я вас еще пошлю, неизвестно еще мне, куда я вас пошлю, но пошлю». А дальше механизм этой резолюции — не «изолировать, но сохранить», а «кто посмел?». Речь шла о властных полномочиях. То есть это была борьба политическая и бюрократическая. И те, кто арестовал, должны были понять свое место. И им на него указали: «А вы пересмотрите». И это продолжает действовать, они пересматривают. «Пожалуйста, вам заменяют, выберите». Что значит «выберите»? Это уже не ссылка, это уже высылка. И Осип Эмильевич в Воронеже, где он переживает прикрепленность («Как сокол, закольцован»), он дважды ездит в командировку. Даже возникает лакуна: «Эренбург был в Воронеже и не стал встречаться с Мандельштамом». Ничего подобного! Эренбург не застал Мандельштама в Воронеже, Мандельштам в это время находился в командировке. Потом у нас Тамбов, потом у нас Задонск. Четырежды несколькодневное отсутствие. Это что же за ссылка такая? Вот такая была особенная ссылка.
И мы читаем об этом у Надежды Яковлевны: им НКВДшник говорит: «а это вы еще тут только временно находитесь, я вас еще пошлю, неизвестно еще мне, куда я вас пошлю, но пошлю». А дальше механизм этой резолюции — не «изолировать, но сохранить», а «кто посмел?». Речь шла о властных полномочиях. То есть это была борьба политическая и бюрократическая. И те, кто арестовал, должны были понять свое место. И им на него указали: «А вы пересмотрите». И это продолжает действовать, они пересматривают. «Пожалуйста, вам заменяют, выберите». Что значит «выберите»? Это уже не ссылка, это уже высылка. И Осип Эмильевич в Воронеже, где он переживает прикрепленность («Как сокол, закольцован»), он дважды ездит в командировку. Даже возникает лакуна: «Эренбург был в Воронеже и не стал встречаться с Мандельштамом». Ничего подобного! Эренбург не застал Мандельштама в Воронеже, Мандельштам в это время находился в командировке. Потом у нас Тамбов, потом у нас Задонск. Четырежды несколькодневное отсутствие. Это что же за ссылка такая? Вот такая была особенная ссылка.
А дальше начинает работать Ставский. Ставский работает, Фадеева не оповещает. Он привлекает Павленко. Павленко, как мы знаем, был во внутренней тюрьме в мае 1934. По-видимому, Павленко знал стихотворение. Павленко пишет отзыв, очень осторожно. «Во-первых, — он говорит, — я не специалист по поэзии. Во-вторых, я не люблю Мандельштама. Следовательно, все, что я дальше пишу, это не обязательно, а, в общем, в результате там, где он понятен, это нам не интересно, а там, где это нам могло бы быть интересно, он непонятен и пахнет Пастернаком». То есть, как в более позднем анекдоте о милиционере и книге, «а Пастернак у нас уже есть». Очень нейтрально. Еще более нейтрально, чем отзыв Зелинского на попытку Марины Ивановны Цветаевой издать книгу. Зелинский пишет: «Формализм». Это самое деликатное, что он может написать, это минимальное из политических обвинений. Для Зелинского это просто «надел белые шелковые перчатки». Марина Ивановна, понимая результат, пишет, что «обвинивший меня в формализме (она же это понимает содержательно!) — просто подлец». При том что она с этим Зелинским неплохо знакома.
При том что она с этим Зелинским неплохо знакома.
Что же говорит Борис Леонидович о стихах воронежского периода? А он их разделяет на разряды. Первый разряд, второй разряд, вне разряда. Если вы помните, таков приговор комиссии по делу декабристов, они разделены точно так же: первый разряд, второй разряд, вне разряда. Вне разряда — смертная казнь, ну, известно. Борис Леонидович, который писал стихи: «Так пахли прописи дворян о равенстве и братстве» (и Павленко пишет: «пахнет Пастернаком»), Борис Леонидович, который знал и ценил стихотворение Осипа Эмильевича «Декабрист», вот такую градацию употребляет не случайно. Он понимал, что Осип Эмильевич идет как декабрист.
Эта вся история растянулась без малого на 40 лет. Закончилась она только в 1973 году с выходом «Библиотеки поэта». Том «Библиотеки поэта» был объявлен в планах издательства в 1961 году. 12 лет! В 1968 году, мы знаем, уже было сверстано все. И не состоялось. Я исследовал эту историю, она вся связана с воздействием многих, почти не связанных между собой событий.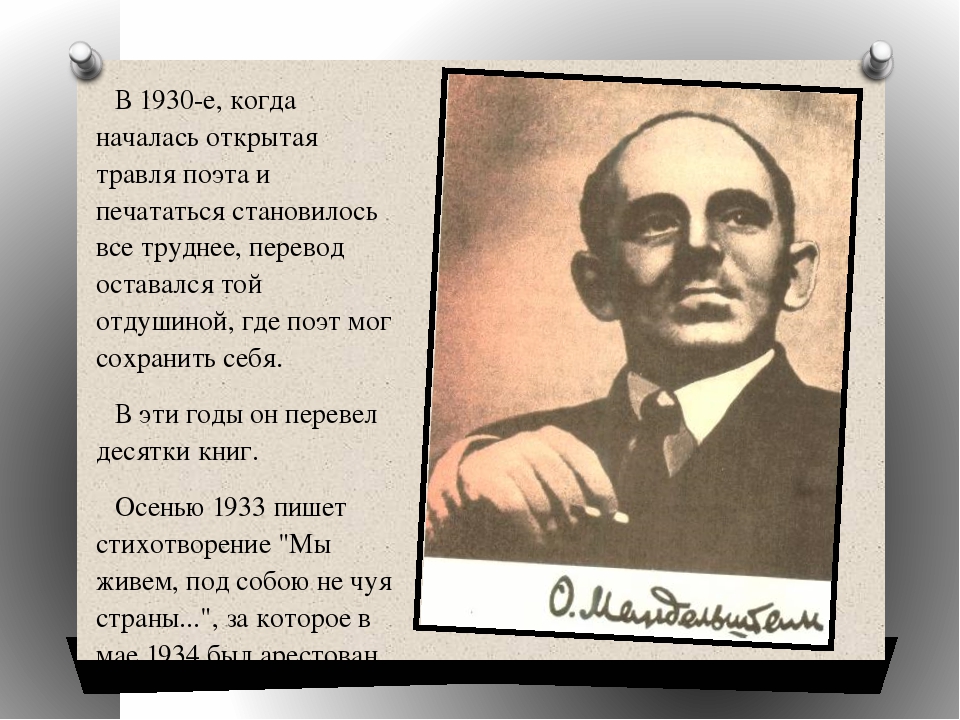 Эренбург пишет письмо Хрущеву, что не печатают его «Люди, годы, жизнь» — мемуар, где возродился интерес к Мандельштаму у широкого круга читателей: все-таки тираж «Нового мира», а потом тираж изданных отдельными томами мемуаров. Хрущев идет навстречу: «Новый мир» продолжает печатать его мемуары. Эренбург не хочет другого журнала, он хочет тут. Твардовский не хочет, Эренбург добивается. Эренбург запрашивает у Хрущева разрешения вспомнить о Н. И. Бухарине, о его соученике по гимназии и приятеле. Хрущев ему мягко отвечает: «Еще не время». Это все связанные вещи. А потом 1965 год — первый, единственный на много лет, вечер поэзии Мандельштама, ведет его Эренбург. И таких вещей довольно много. 1973 год — уже вышла первая книга воспоминаний Надежды Яковлевны. Уже готовится к выходу вторая. И это не мешает, не препятствует изданию «Библиотеки поэта» наконец-то, спустя дюжину лет. Но все-таки это запрос правления Союза писателей, поддержанный Отделом культуры ЦК, а дальше решение на самом высоком уровне, решение принимается на уровне Политбюро.
Эренбург пишет письмо Хрущеву, что не печатают его «Люди, годы, жизнь» — мемуар, где возродился интерес к Мандельштаму у широкого круга читателей: все-таки тираж «Нового мира», а потом тираж изданных отдельными томами мемуаров. Хрущев идет навстречу: «Новый мир» продолжает печатать его мемуары. Эренбург не хочет другого журнала, он хочет тут. Твардовский не хочет, Эренбург добивается. Эренбург запрашивает у Хрущева разрешения вспомнить о Н. И. Бухарине, о его соученике по гимназии и приятеле. Хрущев ему мягко отвечает: «Еще не время». Это все связанные вещи. А потом 1965 год — первый, единственный на много лет, вечер поэзии Мандельштама, ведет его Эренбург. И таких вещей довольно много. 1973 год — уже вышла первая книга воспоминаний Надежды Яковлевны. Уже готовится к выходу вторая. И это не мешает, не препятствует изданию «Библиотеки поэта» наконец-то, спустя дюжину лет. Но все-таки это запрос правления Союза писателей, поддержанный Отделом культуры ЦК, а дальше решение на самом высоком уровне, решение принимается на уровне Политбюро.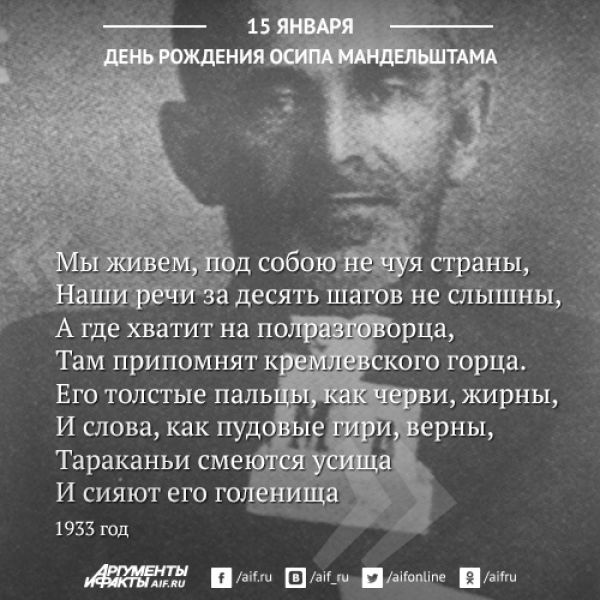 «Это несколько книг, которые до сих пор не изданы, вот надо их издать, привести их в должный вид…» Существует заслуженная критика предисловия Дымшица. Он что, не понимал, что он пишет? Он понимал, что он пишет. Он говорил: «Пускай меня потом изругают и проклянут, но зато Мандельштам выйдет».
«Это несколько книг, которые до сих пор не изданы, вот надо их издать, привести их в должный вид…» Существует заслуженная критика предисловия Дымшица. Он что, не понимал, что он пишет? Он понимал, что он пишет. Он говорил: «Пускай меня потом изругают и проклянут, но зато Мандельштам выйдет».
Сборник Осипа Мандельштама 1973 года неоднократно переиздавался, в том числе в 1978 году
А что стояло за плечами, так сказать, над головами всех, кто за это боролся? А это было качание двух чаш весов. На одной чаше лежал сталинизм, а на другой чаше лежал антисталинизм. Если угодно, стихотворение, о котором мы сегодня говорим, это одно из оснований нашего антисталинизма, не больше и не меньше. Вот, пожалуй, это та политическая составляющая.
Мы не говорим про Тютчева, что у него политическая лирика, мы не говорим про Некрасова, что у него гражданская лирика, мы не говорим про Пушкина, что у него гражданская лирика, а про Мандельштама приходится говорить, что у него «гражданская лирика»! Мандельштам был, конечно, поэтом политизированным. И это очень давно. Когда он пишет: «Где обрывается Россия, над морем Черным и глухим…», у него геополитическое ощущение России; «Участвовать в твоей железной каре Хоть тяжестью меня благослови!» — это все историософия. «Россия, Лета, Лорелея» — нет другой такой блестящей формулы. Эта формула Мандельштама гораздо более сильная, чем те формульные конструкции, о которых писал в свое время Виктор Максимович Жирмунский. Но такого политического стиха… в общем, мы не можем сравнить.
И это очень давно. Когда он пишет: «Где обрывается Россия, над морем Черным и глухим…», у него геополитическое ощущение России; «Участвовать в твоей железной каре Хоть тяжестью меня благослови!» — это все историософия. «Россия, Лета, Лорелея» — нет другой такой блестящей формулы. Эта формула Мандельштама гораздо более сильная, чем те формульные конструкции, о которых писал в свое время Виктор Максимович Жирмунский. Но такого политического стиха… в общем, мы не можем сравнить.
«Будут распевать комсомольцы» — мы совершенно не представляем источников мандельштамовской информации. (Все, что я говорю, доступно в открытых источниках. Почти ничто не опирается на устные сообщения. Я просто не могу сейчас эти источники приводить: будет слишком громоздко.) Вячеслав Всеволодович (Кома) Иванов рассказывал со слов отца: «Горький говорил: а вот эти что скажут?!» (при этом он делал жест, намекая на «усатых», но не на Сталина, а на Кирова, Куйбышева, Орджоникидзе). Мы имеем публикацию стихов о летчиках с неавторским посвящением памяти Куйбышева и Орджоникидзе.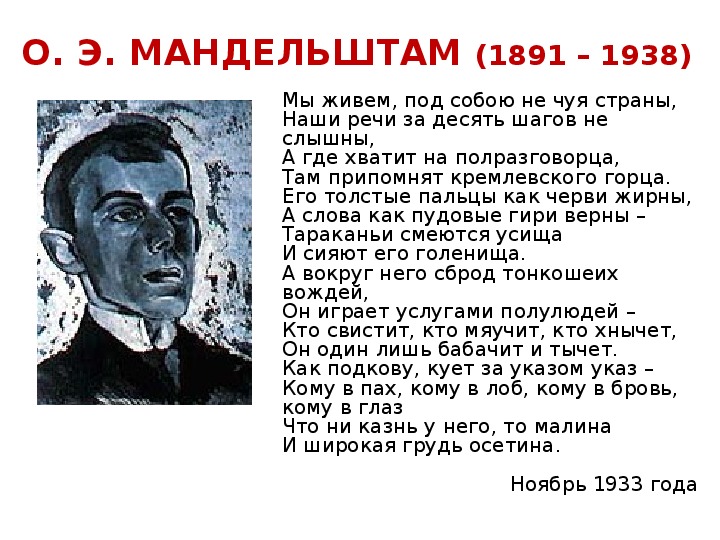 Это что такое? Это из каких интеллектуальных политологических построений взялось? Откуда? Нет никаких мандельштамоведческих источников для подобного посвящения. Она есть, реальная публикация. Ну, посмертная, естественно, стихи при жизни поэта не публиковалась.
Это что такое? Это из каких интеллектуальных политологических построений взялось? Откуда? Нет никаких мандельштамоведческих источников для подобного посвящения. Она есть, реальная публикация. Ну, посмертная, естественно, стихи при жизни поэта не публиковалась.
И мы, наконец, имеем результаты «Съезда победителей», где Сталин получил большинство с помощью инструментария подсчета голосов. Об этом мог Мандельштам знать? Мог, просто мы не знаем, как и где. Он был в Москве, жил в Москве, в гуще событий, общался с совершенно разными людьми. Так что эти слова о комсомольцах в Большом театре и о том, что «это был не безумный протест, а политическая акция», небезосновательны. Другое дело — что для того, чтобы их обосновать, нам нужно найти что-то вроде застольных разговоров, записанных Пушкиным. Но я боюсь, что мы этого в связном тексте не найдем.
МОРЕВ: Этот текст, наверное, действительно один из самых мифогенных в русской литературе. Надо сказать, что когда говорят о его беспрецедентности, говорят совершенно справедливо. Но с другой стороны, нельзя забывать, что и до мандельштамовского текста в русской поэзии было несколько стихотворений, так скажем, критического настроя, где упоминался Сталин, посвященных или отчасти Сталину, или Сталину персонально. И теоретически, нельзя исключить, кстати говоря, знакомство Мандельштама ни с одним из них, хотя оно и сомнительно. Я имею в виду два текста: текст 1926 года, стихотворение Тинякова, которое вообще довольно похоже на стихотворение Мандельштама по структуре, тоже двустишия со смежной рифмовкой, и которое как раз целиком соответствует тому образу поэтического текста, который рисует в докладной записке Сталину Агранов, а именно «клеветнический пасквиль на вождей революции» (там Сталин упомянут в числе многих вождей коммунистической партии). И еще одно стихотворение, уже посвященное персонально Сталину, это стихотворение Павла Васильева, написанное в 1931 году, такой непристойный экспромт с также фигурирующим в нем словом «жопа», между прочим. Такие, как бы, полугекзаметры непристойные непосредственно о Сталине.
Но с другой стороны, нельзя забывать, что и до мандельштамовского текста в русской поэзии было несколько стихотворений, так скажем, критического настроя, где упоминался Сталин, посвященных или отчасти Сталину, или Сталину персонально. И теоретически, нельзя исключить, кстати говоря, знакомство Мандельштама ни с одним из них, хотя оно и сомнительно. Я имею в виду два текста: текст 1926 года, стихотворение Тинякова, которое вообще довольно похоже на стихотворение Мандельштама по структуре, тоже двустишия со смежной рифмовкой, и которое как раз целиком соответствует тому образу поэтического текста, который рисует в докладной записке Сталину Агранов, а именно «клеветнический пасквиль на вождей революции» (там Сталин упомянут в числе многих вождей коммунистической партии). И еще одно стихотворение, уже посвященное персонально Сталину, это стихотворение Павла Васильева, написанное в 1931 году, такой непристойный экспромт с также фигурирующим в нем словом «жопа», между прочим. Такие, как бы, полугекзаметры непристойные непосредственно о Сталине.
Конечно, ни один из этих текстов ни в какое сравнение с Мандельштамом идти не может не только по поэтическому мастерству, но и по эмоциональному наполнению, эмоциональному воздействию текста. И когда следователь Николай Христофорович Шиваров (Христофорыч из книжки Надежды Яковлевны) говорит ей, что «я ничего подобного стихотворению Мандельштама в жизни не видел». Он, вполне возможно, говорит это не просто ради красного словца. Как раз Шиваров стихотворение Васильева наверняка знал, потому что он в 1932 году участвовал в расследовании так называемого дела «Сибирской бригады», это такая компания московских писателей-сибиряков, в которую входил Павел Васильев. И в частности, хотя Шиваров Васильева, кажется, не допрашивал (он допрашивал Леонида Мартынова в рамках этого дела), но параллельно ведшиеся допросы, на одном из которых Васильев записал это антисталинское стихотворение, могли быть вполне ему доступны. Я думаю, что следователи, работавшие в рамках одного дела, материалы друг друга смотрели. Я думаю, что таким небанальным вещественным доказательством, как непристойные стихи о Сталине, они друг с другом делились.
Я думаю, что таким небанальным вещественным доказательством, как непристойные стихи о Сталине, они друг с другом делились.
Тем не менее, мандельштамовский текст конечно из этого ряда выпадает. И, на мой взгляд, эта его поэтическая сила и политическая сила, политический антисталинский пафос и антисталинский заряд, парадоксальным образом определили судьбу этого текста и Мандельштама. На мой взгляд, одной из причин того, что арестовавший Мандельштама Агранов не ставит Сталина в известность об аресте Мандельштама и не объясняет ему, за что, собственно, Мандельштам арестован, было то, что этот текст показался Агранову таким, что ли, щекотливым, что доложить о нем Сталину у него просто не хватило духу. Он думал в данном случае не о Мандельштаме, а прежде всего о себе. И этот поворот бюрократического механизма определил и весь дальнейший ход дела, и всю дальнейшую судьбу Мандельштама. Как мы знаем по воспоминаниям Надежды Яковлевны и, собственно говоря, по опубликованным материалам дела, первоначально следствие велось весьма жестко, в стандартном чекистском формате — сценарии группового дела, когда фабриковалась некая антисоветская группа, объединенная вокруг слушателей этого стихотворения, и предполагался групповой процесс, что в рамках чекистской системы ценностей считалось наивысшей ступенью. А потом это все в какой-то момент отменилось. И тогда же возникла переданная Шиваровым Надежде Яковлевне резолюция, принадлежавшая, конечно, Агранову: «Изолировать, но сохранить». В этот момент Сталин ничего не знает об аресте Мандельштама. И резолюция «изолировать, но сохранить» на самом деле вовсе не такая безобидная, как о ней привыкли говорить, потому что в самой ее грамматической конструкции — вот это «но сохранить» — это «но» имплицирует, что возможны были другие варианты: не сохранять. Потому что первоначальная установка следствия на восприятие и интерпретацию этого стихотворения как террористического грозила расстрелом или большим лагерным сроком. Не ссылкой, не высылкой, а лагерным сроком, это совсем другая уже степень суровости наказания.
Решение дело замять (как следователь Шиваров выражался, «решили не поднимать дело») определило достаточно мягкий приговор для Мандельштама. Полной неожиданностью, конечно, для дальнейшего развития этого сюжета явилось вмешательство в него Пастернака.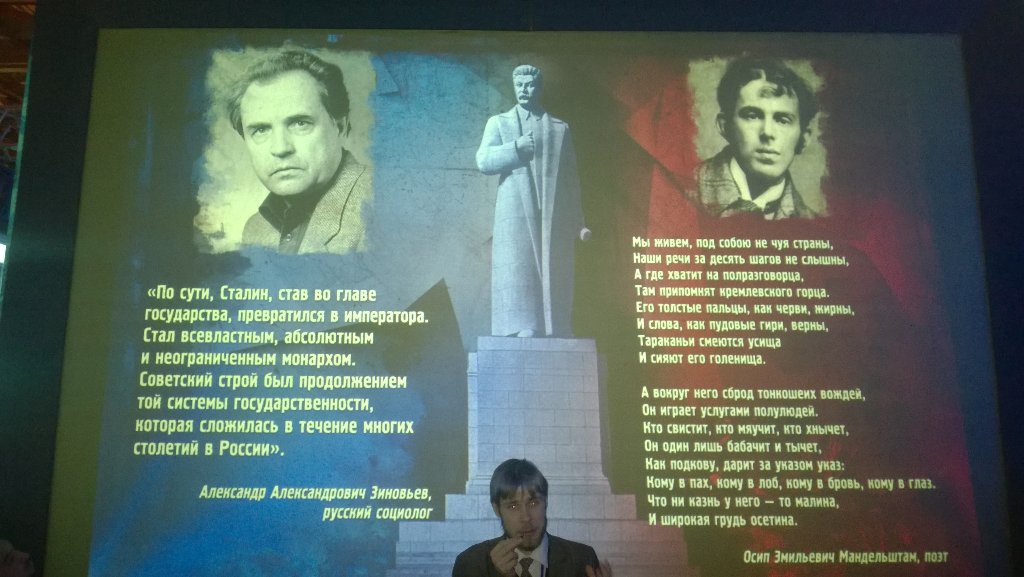 Этого, конечно, Агранов предположить не мог — что Пастернак будет действовать через Бухарина, а Бухарин напрямую обратится к Сталину, а дальше последует реакция Сталина, которая была определена не тем, что он узнал какие-то подробности дела Мандельштама (потому что Бухарин тоже ничего не знал). Сталина возмутил, прежде всего, тот факт, что ему об этом аресте никто не доложил. И, собственно, этого одного было достаточно, чтобы Сталин потребовал этот приговор пересмотреть. Параллельно с письмом Бухарина, который сигнализировал ему об аресте Мандельштама и о некотором возмущении общественности этим событием, Сталин проверяет информацию Бухарина, позвонив Пастернаку, потому что Пастернак упоминался Бухариным как один из самых взволнованных арестом Мандельштама писателей. Вся информация из бухаринского письма Пастернаком так или иначе подтверждается, для Сталина этого совершенно достаточно, чтобы (учитывая общий контекст этой эпохи, а именно месяцы перед 1-м съездом писателей, когда установка идет на либерализацию) приговор Мандельштаму еще смягчили, и вместо Чердынской ссылки приговорили его к так называемому «минус двенадцати», а именно просто житью где угодно, кроме 12 крупных городских центров, столицы и крупных городов СССР.
Этого, конечно, Агранов предположить не мог — что Пастернак будет действовать через Бухарина, а Бухарин напрямую обратится к Сталину, а дальше последует реакция Сталина, которая была определена не тем, что он узнал какие-то подробности дела Мандельштама (потому что Бухарин тоже ничего не знал). Сталина возмутил, прежде всего, тот факт, что ему об этом аресте никто не доложил. И, собственно, этого одного было достаточно, чтобы Сталин потребовал этот приговор пересмотреть. Параллельно с письмом Бухарина, который сигнализировал ему об аресте Мандельштама и о некотором возмущении общественности этим событием, Сталин проверяет информацию Бухарина, позвонив Пастернаку, потому что Пастернак упоминался Бухариным как один из самых взволнованных арестом Мандельштама писателей. Вся информация из бухаринского письма Пастернаком так или иначе подтверждается, для Сталина этого совершенно достаточно, чтобы (учитывая общий контекст этой эпохи, а именно месяцы перед 1-м съездом писателей, когда установка идет на либерализацию) приговор Мандельштаму еще смягчили, и вместо Чердынской ссылки приговорили его к так называемому «минус двенадцати», а именно просто житью где угодно, кроме 12 крупных городских центров, столицы и крупных городов СССР. После чего он выбирает Воронеж.
После чего он выбирает Воронеж.
Кроме этого поворота в судьбе Мандельштама, это стихотворение имело еще и непосредственное касательство к изменению его миропонимания, мировоззрения, и в каком-то смысле и поэтики. Я тут солидарен совершенно с Михаилом Леоновичем Гаспаровым — мне кажется, что от этого антисталинского стихотворения к «Оде Сталину» прямой путь, опять же парадоксальным образом.
На Мандельштама производит огромное впечатление история о звонке Сталина Пастернаку. Тот объем информации, который доступен ему, а именно — рассказ самого Пастернака о том, что ему позвонил Сталин с вопросами по делу Мандельштама, — он конечно не позволяет ему реконструировать даже нам до сих пор не известные бюрократические ходы, всю логику того, как разворачивалось это дело. Для него очевидно совершенно, что Сталин прочел эти стихи, вник, так сказать, в суть дела и, тем не менее, прочтя эти стихи, оценил их (в передаче Надежды Яковлевны реплика Мандельштама звучит «А стишки-то, верно, произвели впечатление»), оценил эти стихи и помиловал поэта, то есть совершил благородный жест, которого Мандельштам совершенно от него не ожидал и который переворачивает все мандельштамовское представление о Сталине. Он вдруг чувствует себя его должником, и чувствует должником не только лично по отношению к Сталину, который спас ему жизнь, но и по отношению к тому режиму, который Сталин персонифицирует.
Он вдруг чувствует себя его должником, и чувствует должником не только лично по отношению к Сталину, который спас ему жизнь, но и по отношению к тому режиму, который Сталин персонифицирует.
Все его сложное отношение к советской власти, которое к осени 1933, когда было написано это стихотворение, вошло в крайне негативную фазу, оно вдруг оборачивается с точностью до наоборот, знаки меняются. Он ощущает себя должником этой власти, должником Сталина. И все те тексты, которые он начинает писать в Воронеже, он квалифицирует как «искупительный стаж», как он пишет в одном из писем, который должен быть рассмотрен властью и Мандельштам должен быть реабилитирован. То есть после и в последние месяцы ссылки он настойчиво пытается довести до московских властей в лице Союза писателей свои написанные в Воронеже тексты как знак, как свидетельство того, что он прошел «перестройку», выражаясь тогдашней терминологией. И, роковым образом, именно настойчивость Мандельштама в стремлении довести эти тексты до советских союзписательских структур, чтобы получить обратную оценку этих текстов, чтобы быть услышанным, принятым — эта настойчивость оборачивается для союзписательских чиновников, которые не понимают этих тонких материй, вообще не способны, конечно, понять этих мандельштамовских текстов, в назойливость. И фактически арест и приговор 1938 года — довольно редкий случай, когда писателя арестовывают не карательные органы по своей инициативе, а писателя арестовывают карательные органы по инициативе самого же Союза писателей. Мандельштам был арестован не по инициативе НКВД, а по инициативе руководителей Союза писателей: Ставский, обращаясь к Ежову, просто просит, как они выражались, «решить вопрос с Мандельштамом», то есть просто убрать… Он не знает, как они будут это делать, он не предлагает им его отсылать в лагерь, он оставляет это на их усмотрение. Другое дело, что у чекистов тогда, в 1938 году, нет никаких других инструментов. И Мандельштаму дают очень мягкий для 1938 года приговор — пять лет лагерей. Когда вокруг пачками расстреливают людей. Таким образом, это тоже прямое следствие текста 1934 года, как бы прошедшего через свое отрицание и, тем не менее, приведшее к этому роковому результату.
Осип Мандельштам. Бутырская тюрьма, 1938 год
ЛЕКМАНОВ: А теперь я предлагаю, если у нас получится, вернуться к разговору прямо об этих строках, об этом стихотворении. Мне кажется, что и в стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны…», несмотря на очевидную ненависть автора к Сталину, только ненавистью дело не исчерпывается. Ведь когда Мандельштам пишет: «А слова, как пудовые гири, верны», в этом есть и признание сталинской мощи.
ЛЕЙБОВ: Во всяком случае, лучше, чем «тонкошеие вожди», «мяукающие» и «хнычащие» .
ЛЕКМАНОВ: Да. Когда Мандельштам изображает его в окружении «тонкошеих вождей», конечно, он его очень сильно выделяет из окружения. Не помню сейчас точно, кто на этот подтекст в мандельштамовском стихотворении указал — сон Онегина, где Онегин в окружении всех этих беснующихся существ. Онегин выделяется среди них, также и Сталин выделяется как сильная фигура, как мощная фигура. Вспомним мандельштамовское стихотворение, хронологически бликзое к антисталинскому, а именно — то стихотворение, которое Ахматова называла «лучшим любовным стихотворением ХХ века» — «Мастерица виноватых взоров…». То есть, возлюбленная и палач предстают в стихотворениях этого времени у Мандельштама отчасти схожими. Оба мучают его и лишают речи. А вот почему это так? Чтобы ответить на этот вопрос, мне кажется, нужно вернуться от контекста мандельштамовского стихотворения к самому этому стихотворению.
ЦВЕТКОВ: Я хотел бы вернуться именно к стихотворению, и вернуться в самое начало. Меня удивило, что Кушнеру показалось, что оно настолько резко выступает из ряда, что это не Мандельштам. Я так понимаю, что есть поэты, ну и вообще художники, которые гнут как-то свою линию, у которых есть свой маршрут. А есть очень редкие, на мой взгляд, которые осваивают территорию. Вот Мандельштам, с моей точки зрения, был именно человек, который, что ли, планиметрический. Это видно еще по тому, насколько резко отличаются его разные периоды. Можно обнаружить сходство между Tristia и стихами 1930-х гг, но все равно это огромный диапазон. Поэтому вот это стихотворение о Сталине надо рассматривать именно в этом ключе, что это какая-то вылазка, может быть, на незнакомую до сих пор территорию и очень дерзкое ее освоение.
Меня в интервью спрашивали довольно часто, я не понимал, о чем речь — как я отношусь к политической или к гражданской поэзии. Не понимая, я говорил, что как к любой другой, что есть хорошая и есть плохая. Имелось в виду, конечно, совершенно не то, что я имел в виду, а заданность политическая. Не знаю, как назвать — интерсекциональность или что-то такое, когда пишешь и с самого начала имеешь задачу либо защитить какое-то меньшинство, либо напасть на какое-то большинство, и это дает тебе какую-то гарантию успеха. Потому что сразу вписываешься в какую-то струю, и тебя это поднимает куда-то. Я видел карьеры — не буду называть людей — которые были таким образом сделаны просто в недели. Я не понимал, что речь идет об этом. И таковы, скажем, многие советские поэты, которые с самого начала понимали свою задачу как задание воспевать. Ну, интерсекциональность тоже была, потому что там были «плохие буржуи» где-то за рубежом, их надо было ругать, своих надо было хвалить.
Мандельштам — очень политический поэт в том смысле, что у него всегда присутствует это движение материков, сдвиг эпох во многих стихах. Но это стихотворение совершенно другое. Если мы видим его покаяние и желание бежать в ногу с эпохой, и, может быть так понятая, благодарность Сталину, все это — заданные стихи. Это такие стихи, которые… я не могу оценить степень искренности в них. Конечно, его, может быть, тронуло, что Сталин не приказал его убить, и он хотел как-то отплатить. Но там пафос совсем не тот. И они мне неприятны, я их не помню. Помню, что там Сталин с Лениным рифмуется. А это — совершенно другого вида стихотворение. Это что-то такое, что он не мог не написать. Я все время пытался ответить интервьюерам, что если ты не можешь не написать на такую тему, тогда пиши. А заданности я никогда не понимал.
И в данном случае мне кажется, что он очень справился со своей задачей. Все это стихотворение сделано на перенапряжении приема, то есть оно все на грани фола. Но поскольку мы имеем дело с величайшим мастером, он натягивает тетиву до крайности, но она у него нигде не рвется. У меня есть свои сомнения насчет концовки, я не могу ее никак понять, но то, что он делает в нем… Да, Сталин, конечно, гигант в окружении этих тонкошеих вождей, но он последовательно, в течение стихотворения его обесчеловечивает, деантропоморфизирует. Он его превращает из имманентного монстра в трансцендентного. Он у него какой-то Вельзевул, что ли. И вот этот удар, когда он «бабачит и тычет» — это уже совершенно просто какой-то… вот когда у Босха мы видим полотно — везде бегают маленькие монстрики, а в центре сидит главный. Вот как мне представляется эта картина.
Вообще, у Мандельштама в большинстве его поздних стихов денатурированная природа, образы очень далеко отстоят от того, к чему они относятся. И поэтому литературоведам огромная работа — понять, что что значит. А вот тут примерно также, но это сделано с огромным напряжением, а с другой стороны — очень легким движением, потому что очень благодарный предмет. Вот чуть-чуть повернуть его таким ракурсом — и он повернул — и мы видим чудовище. Именно поэтому, я думаю, это произвело впечатление террористического акта. Карикатуры можно писать и талантливее, и остроумнее. Мы в моей молодости, конечно, писали массу стишков против советской власти. Но смешно: во-первых, она не подозревала о нашем существовании, разве что когда визу выдавали, и нам ничем это не грозило. Я не знаю, насколько он понимал в тот момент, и когда он не мог удержаться и читал это людям. Понятно же было, какая атмосфера. Но я так понимаю, что он был, видимо, в какой-то степени поражен тем, что он сделал, и поэтому он не мог удержаться.
ЛЕЙБОВ: Да-да, если современную метафорику использовать, он ходил как инфицированный модным коронавирусом, и со всеми норовил обняться. А они все от него бежали, все говорили: «Вы мне этого не читали, я этого не слышал». Два раза зафиксирована эта реплика. Да, это правда.
Кстати сказать, я согласен, что все-таки там есть прямая дорога к «Оде». Вообще от выученной беспомощности до Стокгольмского синдрома, когда ты готов забыть про «тени страшные Украйны и Кубани», которые ты только что видел, дорожка довольно прямая. В этот момент, в 1934 году, действительно, на самом деле, тоже Глеб очень хорошо напомнил, что это же пересменка, это межпятилеточный год, когда жить потихонечку становится лучше, веселей. Уже годом позже, после убийства Кирова, уже по-другому бы, наверное, дело развернулось. И раньше, на самом деле, тоже бы по-другому.
ЛЕКМАНОВ: Я хотел только напомнить, что стихотворение написано в ноябре 1933, а история потом уже разворачивается в 1934.
МИРЗОЕВ: Я думаю, здесь надо напомнить способ, каким Мандельштам, по его собственным словам и по словам Надежды Яковлевны, работал. Он считал, что поэт пишет под диктовку, что поэт — только инструмент, толмач, который переводит уже готовое произведение в текстовую форму. В этом смысле Мандельштам был неоплатоником. Он говорит это в 1933 про Данте, но говорит, разумеется, и про себя. Стихи приходили к Мандельштаму не в момент записывания на бумагу, а в виде музыки, а потом в виде звучащего текста. И, вероятно, Мандельштам просто не мог не написать свою инвективу. Тут важно вспомнить, что Мандельштам не был антисоветчиком. По словам его близкого друга, биолога Бориса Кузина, он наоборот, в их жарких спорах всячески отстаивал происходящее в стране, отстаивал именно с советских позиций. То есть Мандельштам считал, что тот колоссальный переворот, который произошел в жизни России, в ее истории, был совершенно необходим. И я напомню, что в юности Мандельштам был близок к эсерам, даже выступал перед рабочими как-то раз и вообще был человеком вполне левых убеждений. (Что нормально для интеллигента). И не захотел эмигрировать, хотя возможность была. Мандельштам мог уйти в Стамбул из Крыма, но не сделал этого. В конце 1920-х пожалел и задумался об эмиграции. Но тогда уже мало кого отпускали — челюсти открывались редко. То есть та колоссальная энергия народа, которая вышла из-под спуда и распрямилась, и нашла себе применение после революции, эта энергия Мандельштама завораживала, и он часто об этом говорил. Говорил, что мощная народная стихия, которая пошла гулять по России, совершенно необходима для обновления жизни, Мандельштам сравнивал ее с природными катаклизмами. Отсюда эта радость после чтения и потирание рук. А Борис Кузин как раз был первым слушателем инвективы. Радость, которую продемонстрировал Мандельштам в тот момент, сразу после чтения, и упоминание комсомольцев, которые «будут распевать эти стихи», это, может быть, не совсем аберрация, это как раз связано с его восприятием всего исторического процесса, свидетелем которого он стал и частью которого себя ощущал.
Вообще, это навязанное Мандельштаму изгойство — и эстетическое, и политическое, и социальное — я думаю, Мандельштам переживал его очень остро, потому что его способ писания стихов предполагал глубокую подключенность к народному телу, к коллективному бессознательному народного хора. И Мандельштам это знал и чувствовал инструментальность или, как он говорил «орудийность» этого подключения. Это глубокое погружение с помощью языка в народную Психею — способ его письма. И, вероятно, поэтому тоже Мандельштам не мог не написать свою инвективу. Для него в этих стихах звучит голос хора, по крайней мере, огромной его части, той, что не готова лечь под Хозяина и вернуться в рабское состояние. После глотка свободы. Это не голос чекистов или таких писателей-функционеров, как Павленко и Ставский, которые поспешили написать донос на Мандельштама в ЧК, но другой части народа, которой совсем не нравился культ «кремлевского горца» и его курс. Для этой части народа Сталин не был вождем и отцом — он был узурпатором. И это ощущение Мандельштам выразил очень ясно и сильно.
Здесь уже прозвучало, что инвектива как бы парная вещь по отношению к «Оде Сталину», которую по чьей-то лукавой подсказке Мандельштам был вынужден написать, чтобы выкупить свою жизнь. И вот Надежда Яковлевна вспоминает, что Мандельштам не сочинял «Оду» так, как он обычно сочинял стихи. Мандельштам садился к столу, раскладывал перед собой бумагу, карандаши, и пытался работать «как мастер». И, пытаясь работать как мастер-ремесленник, терпел неудачу за неудачей. Он мучился часами, вскакивал из-за стола и восклицал: «Вот Асеев — мастер: сел и написал, а у меня не получается, я не могу просто писать стихи, как делают вещь». Осип Мандельштам писал другим способом — и в этом инструментарии особенность его эстетики.
Существует мнение, что «Ода» написана эзоповым языком. В каком-то смысле «Ода» развивает эту же идею расчеловеченного вождя. В «Оде» есть этот мотив: Джугашвили — это титан Прометей, прикованный к горе, он как бы стал частью этой горы, он и есть сама эта гора, которая смотрит на гигантскую равнину, на бугры человеческих голов. Дальше: пахарь, гигантский плуг, который идет по этим головам, — это, в общем-то, образность, которая продолжает идею сверхчеловеческой, античеловеческой, титанической силы, которая явлена в инвективе. И, мне кажется, это очень важно отметить. Подключенность к коллективной Психее давала Мандельштаму ясное ощущение: сила, с которой имеет дело Россия, именно демоническая, инфернальная, её природа не человеческая. И «тараканьи глазищи», кстати, вполне демонический образ.
Мне кажется, Мандельштам сам прокомментировал это в «Разговоре о Данте». Он пишет: поэзия — это своего рода Эрмитаж, где все полотна вдруг сорвались со своих привычных мест, соединились и наложились друг на друга, как бы смешались в одно полотно. По-моему, «Ода» написана именно этим способом. В ней как бы двойная, тройная экспозиция, наложение разнородных образов и эстетик: античной, фольклорной, современной. Поэтому ее так сложно разгадать. Знаете, что может быть ключом к «Оде»? Только не смейтесь, я понимаю, что это сильная натяжка. Если хотите, метафора. У Комара и Меламида есть такое полотно «Сталин и музы». В этой вещи использован античный сюжет, по стилю это классицизм, переодетый в советский ампир, Сталин в белой шинели и «картузе», музы в туниках и так далее — по форме всё вполне серьезно, а по существу издевательство, тотальная ирония.
Иосиф Сталин в 1937 году
Конечно, в инвективе этого нет, она гораздо ближе к пушкинскому сюрреализму, в ней убийственная ясность. Но я бы еще напомнил слова Иосифа Бродского по поводу «Оды». Поэт говорил, что этот текст чуть ли не лучший у Мандельштама, потому что это невероятное соединение гимна и сатиры. Бродский очень ценил это стихотворение. Мне кажется, это тонкое замечание: в конечном счете, именно «Одой», а не инвективой, Мандельштам подписал себе смертный приговор. Сталин дождался от Мандельштама произведения, которое легло на другую чашу весов и должно было уравновесить злую и карикатурную инвективу, но не уравновесило, а парадоксально подтвердило её. Потому что Мандельштам даже в заказной «Оде», даже в гимне остался верен себе, своей образности, своему языку. Я не думаю, что в «Оде» есть только ирония, эзопов язык, поэт свидетельствует о сверхчеловеческой инфернальной силе, которая оседлала страну, оседлала Россию. И, в итоге, оседлала русскую революцию. Народ, освободивший себя для исторического творчества, для того чтобы стать историческим субъектом, этот измученный рабством и произволом народ был вновь закрепощен советской властью под руководством товарища Сталина. Мандельштам это чувствовал как неизбежность общей судьбы и переживал как абсурд и трагедию.
МОРЕВ: Владимир сказал очень важные вещи, на самом деле: что это стихотворение — антисталинское, но не антисоветское. Как назывались люди, которые против Сталина, но не против советской власти? Эти люди тогда назывались «оппозиционеры». И пока мы тут с вами сидим, разговариваем про это стихотворение — так случайно произошло — на «Кольте» вышла большая статья Леонида Михайловича Видгофа об этом стихотворении, вот такое совпадение. И он там делает очень важную вещь: он берет газетный контекст конца 1920-х годов, ориентируясь на слова Мандельштама, сказанные на допросе, о том, что он в конце 1920-х гг испытывал поверхностные, но горячие симпатии к троцкизму. И Видгоф по газетам восстанавливает контекст партийных дискуссий, когда это еще выплескивалось на страницы газет, когда «Правда» предоставляла слово не только сталинскому большинству, но и давала слово и печатала речи оппозиционеров, в том числе Троцкого и других. И это, надо сказать, очень увлекательное чтение, которое во многом объясняет, как предполагает (на мой взгляд, обоснованно) Видгоф, те уничижительные характеристики вождей, которые появляются в этом тексте.
Чем определялись эти симпатии Мандельштама к троцкизму? Не тем, что он был противником построения социализма в одной стране или сторонником каких-то радикальных революционных преобразований, предлагаемых Троцким. А, мне кажется, эти симпатии не только у него, но и у многих среди советской интеллигенции, определялись тем, что картина борьбы партии с оппозицией представляла собой, если посмотреть эти стенограммы, печатавшиеся в «Правде», уничтожение просто того или иного «интеллигентного» человека. В кавычках не в том смысле, что не интеллигентного, а как типаж. Уничтожение некоего интеллигентного партийца сбродом какой-то, как сейчас бы выразились, просто гопоты. То есть это буквально, это потрясающие диалоги, когда Троцкий пытается говорить, в него швыряют чернильницами, кидают книги, раздаются какие-то совершенно хамские, подзаборные возгласы. И он пытается через этот шабаш высказывать какие-то идеи, в чем-то убеждать. Это очень яркое впечатление. И Видгоф показывает, что многие из мандельштамовских характеристик просто восходят к этим газетным дискуссиям конца 20-х. На мой взгляд, это хорошая, правильная идея.
Ронен в свое время, когда реконструировал политический контекст появления этого текста, возводил его к программе — антисталинской тоже, не антисоветской — Мартемьяна Рютина (такой коммунист не первого, но второго ряда, занимавший довольно крупные посты), который в 1932 году весной-летом написал большой антисталинский трактат и короткое воззвание к членам партии. Этот трактат, как и стихотворение Мандельштама, отличался очень резкой персональной антисталинской направленностью, за что Рютин и пострадал, на самом деле, по мнению того же Бухарина, который потом в 1936 году в Париже рассказывал Николаевскому все эти истории и особо подчеркивал, что печальную участь Рютина определила именно резкая личная направленность против Сталина его трактата.
Ронен прямо не формулирует предположение о том, что Мандельштам мог знать этот трактат, и, на мой взгляд, это маловероятно. Это большая рукопись, там 150 машинописных страниц, и она имела небольшое хождение, среди немногих членов партии. Но для понимания политического контекста это важно. Потому что этот момент, 1932-1933 год — это период, когда казалось, что позиции Сталина не так прочны, что есть не только большое антисоветское крестьянское большинство, которое противостоит коллективизации, но и рабочее, которое живет в нищенских условиях, и среди партии появляется большое количество людей, партийцев, недовольных радикальной сталинской политикой. И, собственно, возникновение платформы Рютина — отсюда. В этом смысле Мандельштам откликается на довольно массовые настроения. И у меня вопрос в связи с этим к коллегам: а как вы понимаете первую строчку стихотворения, «Мы живем, под собою не чуя страны»? Здесь может быть, на мой взгляд, две интерпретации. Одна — та, которой я придерживался всю жизнь, не задумываясь особенно: что мы живем, не слыша, не понимая свою страну, не чувствуя ее настроений, такой маленький кружок каких-то отщепенцев, речи которых не слышны, которые загнаны в подполье и которые обсуждают Сталина при первой возможности. Но недавно я подумал, что это вступает в противоречие именно с контекстом антисталинского если не большинства, то уж точно не меньшинства, которое ощущается Мандельштамом в 1932-1933 году. И, возможно, это «не чуя» восходит к формульному языковому употреблению, как например «не чуя ног», то есть «не чуя страны» — это может быть, парадоксальным образом, «мы живем усталые, загнанные, голодные», в этом смысле. Что вся страна находится в таком положении. Наоборот, это не противопоставление автора и близких ему как какого-то условно говоря антинародного кружка, а наоборот это «мы» становится народным, что «мы все тут в СССР живем в таком плачевном состоянии, наши речи не слышны за десять шагов — не только наши-интеллигентские, но и ГПУ терроризирует всю страну, и мы не можем высказаться свободно никто. Обсуждаем Сталина не только в московских квартирах, но и в голодных деревнях».
ЛЕКМАНОВ: Мне кажется, если мы какой-то ближайший контекст вводим, обязательно нужно вспомнить, что, во-первых, Мандельштам может быть и чувствовал себя частью коллективного бессознательного, это в нем было, но он был человек холерического темперамента все-таки, это важно. И на несправедливость очень резко реагировал. И, во-вторых, все-таки одним из конкретных поводов написания этого стихотворения, помимо газет было то, что он поехал в Крым и увидел, как там живут крестьяне. Летом 1933 года помечено стихотворение мандельштамовское про этих несчастных крестьян. И «мужикоборец», который появился в нашем стихотворении, в одном из его вариантов, конечно с этими впечатлениями связан.
ПАВЛЕНКО: По поводу первой строчки. Я ее, наверное, третьим образом вообще воспринимаю. Конечно, это, может быть, деформация, касающаяся сегодняшнего дня, но мне казалось, что здесь речь о том, что мы не можем влиять на то, что в стране происходит. Мы не чувствуем сил что-то делать, что-то менять. Условно говоря, формально у нас власть народа и формально есть структуры, которые могут позволить нам управлять своей страной, но делать этого мы не можем, и не чувствуем в себе… может быть, и сил, но и возможностей тоже. Хотя идея про то, что это про всеобщую усталость и подавленность, мне тоже показалось близкой сейчас, когда я услышала.
Если говорить вообще про текст в целом и про то, что мы обсуждали до этого — я, как и мой однофамилец, не специалист по поэзии тоже. Мне кажется, что это не тот текст, который один сам по себе мог бы решить эту задачу. В целом, и круг общения Мандельштама, и его доступ к каким-то кругам — он относительно элитарный, так или иначе, и то, что заметно и что может знать Мандельштам, и чувствовать, и видеть, недоступно очень многим его современникам, на мой взгляд. Поэтому взгляд на картину происходящего у Мандельштама, мне кажется, сложно, с одной стороны, экстраполировать на условных «обычных людей» (это очень спорная категория), но с другой стороны, здесь как раз и любопытно, что у него есть этот доступ к чему-то относительно элитарному, и интересна как раз эта история с фиксацией определенных эмоций в этом тексте. В частности, мне кажется очень любопытным разговор про тех самых «тонкошеих вождей» — с одной стороны, в советских медиа есть образ этих людей (до разгромных кампаний в их адрес, как минимум) как довольно сильных людей, которые отвечают за большие проекты, занимаются довольно важными вещами, и у которых много власти. А здесь они выглядят совсем иначе. Мне кажется, не для всех людей в то время было очевидно, что они могли себя так чувствовать, при всей власти, которой они обладают. Поэтому срез этих эмоций людей, у которых, с одной стороны, есть много власти, а с другой стороны, они чувствуют себя так, как пишет Мандельштам, — это довольно любопытно.
Еще я не совсем внутренне принимаю категории вроде «полулюдей»: если говорить с помощью этого текста про тот период, с одной стороны, несомненно, объем ответственности и власти, который был у Сталина, очень специфический и сильно превышающий объем власти, который был у кого-то еще. Но когда мы говорим про полулюдей, мы как будто немножко их лишаем какой-то субъектности и немножко с них как будто бы снимаем ответственность за то, чем они занимались, в чем они участвовали.
Про демонизацию и про то, что Сталин здесь выглядит каким-то монструозным, я согласна, я тоже это так считываю. Но я бы добавила еще один сюжет — в том, о чем мы говорим, я чувствую некоторую экзотизацию истории с этим текстом и с Мандельштамом. Если говорить о поэтических кругах, особенно о круге поэтов, у которых было признание — это история про то, насколько эксклюзивной, скажем так, была история с такой прямой критикой в адрес Сталина в их случае. Но почему я бы не стала говорить об эпохе через этот текст — я, например, работала очень много со следственными делами как раз начала 1930-х в частности, и со следственными делами, где есть голос людей, в адрес которых вели следствие. Очень часто, мне кажется, сейчас упрощают картину, когда говорят о том, что людей судили, условно говоря, «ни за что». Это я говорю не в том смысле, что они были в чем-то виноваты — часто проблема в том, как квалифицировали то, что они делали. Фактически они были вполне способны производить и свои тексты, в том числе и довольно жесткие местами, и делиться ими не только в каком-то своем узком кругу, «в радиусе 10 шагов», а, на самом деле, пытаться эти тексты доставить «по адресу», в частности самому Сталину. Поэтому мне кажется, что очень важно было бы в дальнейшем говорить еще про сюжет про «безымянных» поэтов, назовем их так, которые никогда не стали известными и не попали ни в какие структуры, не сделали никакую карьеру. И не только про поэтические тексты, в принципе. Про то, что такая адресная жесткая критика, от которой люди потом не отказывались даже на следствии, она вполне себе была, и для того, чтобы усложнить картину и чтобы, опять же, не лишать голоса людей, про которых мы знаем пока что меньше, можно было бы придумать, как Мандельштама не вытащить из другого контекста и сделать особым случаем, а наоборот, поместить его в ряд других историй и начать говорить о том, что люди на самом деле в тот период не были такими бессловесными и послушными, как иногда принято о них думать.
Другой вопрос — почему не получилось как-то консолидироваться и что-то сделать и как-то справиться с этой ситуацией, но, в любом случае, мне кажется, что стоит еще искать и говорить о других текстах, которые, может быть, по качеству своему несравнимы с Мандельштамом, но, тем не менее, по значимости и по своей репрезентативности может быть даже и выше в чем-то.
ЛЕКМАНОВ: То есть вы говорите про поэтические тексты, направленные против Сталина?
ПАВЛЕНКО: Там может быть абсолютно разная форма. Это могут быть письма с критикой, а кто-то пытается это в поэтическую форму, так или иначе. Это могут быть, если брать какие-то более сниженные формы, и всякие частушки, маленькие стишки, как раз эпиграммы, всякие истории (такие тексты уже не отправляли в тот же Кремль). Их довольно много, на самом деле. Их очень сложно достать, потому что они хранятся в следственных делах, доступ к которым все еще довольно затруднен. И это у нас такая, условно говоря, довольно уникальная возможность этот большой массив просматривать и много таких историй находить. А вообще степень и способы выплеска своей фрустрации и невозможность молчать — она выливалась не всегда в тексты, мы очень много видим в делах артефактов, связанных с порчей портретов, с тем, что кто-то на заводе что-нибудь где-нибудь нарисовал.
ЛЕЙБОВ: Простите, а где дела лежат, с которыми вы работаете?
ПАВЛЕНКО: Они лежат в ГАРФе [Государственный архив Российской Федерации]. Это отдельный фонд, где их довольно много.
СТАРОСТИН: Я хотел еще поговорить про тему релевантности этого текста сейчас, в наших реалиях. И я, во-первых, хотел согласиться, я воспринимаю этот текст, безусловно, как некий политический акт, о чем сегодня уже говорилась. И первые строчки, наверное, у меня в восприятии тоже что разговор идет об общественном страхе. Я задумывался, как Мандельштам воспринимается сейчас, и почему-то у меня ход мысли пошел к реинтерпретации его в современной поп-культуре, конкретно — современными рэперами, которые, в общем и целом, позиционируют себя, мне кажется, отчасти как наследники этой поэтической культуры. Как мне кажется, очень часто почему-то идет обращение именно к Мандельштаму. То есть, условно, была история несколько лет назад про школьницу, которая выдала текст рэпера Оксимирона и сказала, что это Мандельштам, за что получила пятерку. И потом, соответственно, есть еще достаточно очевидный пример — про рэпера Фейса, который прямо ссылается на это стихотворение в своем втором альбоме, где прямо цитирует в конце первую строчку, говоря, что «мы все еще живем, под собою не чуя страны». Как раз интересно, что этот текст все еще имеет релевантность и воспринимается как достаточно актуальный для нашего времени, что ничего не изменилось.
Только начал слушать (интруха с финальной цитатой из Мандельштама) но сходу — просто, жестко, сильно и это факт. Напоминаю о своем твите о Фейсе годовой давности, тогда все посмеялись. Слушайте.
— Oxxxymiron (@norimyxxxo) September 2, 2018
КИМ: Кстати, насчет того трэка Фейса — он называется «Ворованный воздух». Не только в тексте, но и в названии уже есть отсылка к нему.
Для меня текст Мандельштама очень интересен тем, что у него сплетается эстетическое, политическое и этическое. Многие говорили о политической и поэтической мощи этого текста. Ирина Сурат, например, вообще пишет, что это стихотворение не только повлияло на всю судьбу Мандельштама, но и на судьбу тридцатых. Но у меня в этот момент возникает вопрос: действительно ли эта, в некотором смысле политическая, акция достигла своей некоторой цели? Скажем, в стратегическом плане. Не оказалось ли так, что этот мощный, политически потенциальный взрыв был сразу заглушен, и от него ничего не осталось? Вернее, остался лишь литературный факт этической позиции Мандельштама? Которая, безусловно, важна, но если смотреть на это с политической точки зрения, то, может быть, все оказалось напрасно. Глеб Алексеевич заметил, что если в то время были не так уж малы антисталинские настроения, то мог ли — у меня возникает вопрос — мог ли Мандельштам как-то по-другому распространить это стихотворение? То есть если он не мог его не написать, то, может быть, он слишком поспешно его начал читать и не смог реализовать весь тот потенциал, который был в нем заложен?
ЦВЕТКОВ: Я хочу сказать, что не совсем правильно, потому что это теракт. Это не акт войны. У него не было никаких войск, и он, естественно, никого не мог мобилизовать. Но осколки этого взрыва долетели, по крайней мере, до моего поколения, скажем, в 1960-х. Так что в этом смысле я думаю, что этот взрыв достиг полной силы. И никакой конспирации — Мандельштам тот еще конспиратор, ничего другого он не мог с этим сделать. Он, грубо говоря — так нельзя говорить, конечно, но — из этого стихотворения максимум заряда подействовало, мне так кажется.
ЛЕКМАНОВ: Мне кажется, что это можно отчасти сравнить с историей публикации «Мастера и Маргариты». Роман стал важнейшим литературным фактом не того времени, когда он был написан, того, когда он был опубликован. И, конечно, для 1960-х, для 1970-х годов «Мы живем, под собою не чуя страны» — это очень важный текст.
ЛЕЙБОВ: Который не печатали в советских изданиях и тем самым повышали его статус дополнительно.
ЛЕКМАНОВ: На первых Мандельштамовских чтениях, которые были, кажется, в 1988 году, в Институте мировой литературы, присутствующие не знали, можно это стихотворение читать или нет. Тогда встал один мандельштамовед и объявил: «Не волнуйтесь! Это стихотворение уже напечатано в газете «За автомобильные кадры!» Можно!» И все сразу поняли — да, можно. Оно действительно было опубликовано сыном Александра Мандельштама в этой экзотической весьма газете, многотиражке, кажется.
МОРЕВ: Очень мандельштамовская история, и название газеты очень мандельштамовское такое.
ЛЕКМАНОВ: Ну, да, поэма «Москва-Петушки» должна быть опубликовано в журнале «Трезвость и культура», а «Мы живем, под собою не чуя страны» — в «За автомобильные кадры».
МОРЕВ: «За коммунистические потрясения», «За автомобильные кадры».
ЛЕКМАНОВ (читает вопрос из чата): «Скажите, как можно было бы прокомментировать особую интонацию, разговорную и даже на грани просторечия (полразговорца, усища, глазища, малина и так далее)»?
ФРЕЙДИН: Мы знаем о, так сказать, фольклорной струе в поэзии Мандельштама. И Надежда Яковлевна об этом пишет, и есть одна воронежская работа, и даже не одна… Когда-то я консультировался по этому поводу с Сергеем Юрьевичем Неклюдовым, ну, понятное дело. Он сказал: «Это фольклоризация». То есть это искусственные фольклороподобные построения стихотворения — Садко и прочее-прочее. Вот и здесь фольклоризация.
Помните вариант из «Крымского стихотворения»? «Вчерашней глупостью украшенный миндаль». Я долго ломал голову. А как цветет миндаль? Розовым цветом. Вот она, вчерашняя глупость. Розовый цвет.
Во-первых, такой абсолютно неизвестный, может быть, несуществовавший претекст — это то, что служило формальным основанием для обвинений и приговора Николаю Степановичу Гумилеву — прокламация, которую якобы он обязался написать и, может быть, написал. Она не была найдена, ее нет в материалах дела, неизвестно, написал ли он ее. Он был готов вернуть деньги, которые вроде бы ему вручили за это. Гумилев хотел написать прокламацию. О важности образа и опыта Гумилева для Мандельштама говорить не приходится.
Мы имеем одну реплику этого стихотворения, это Окуджава. Окуджава — это человек глубокого мышления, в общем, в каком-то смысле мудрец. Это известная песенка «Со двора подъезд известный…» Это единственная известная мне получившая популярность пародия, очень острая и очень актуальная, из редких политических стихов Окуджавы. «Надо б лампочку повесить — денег все не соберем».
«Не чуя страны» — это чувство землетрясения, неустойчивости. «Под собою не чуя страны». Это как «не чуя земли». Те, кто пережил хотя бы небольшое землетрясение, головокружение, такие вещи, — вот «под собою не чуя страны». Не ног не чуя, а опоры. То есть чувство неуверенности, чувство колебания. И действительно, чаша весов тогда колебалась. Политических весов.
Поэт и Сталин
80 лет назад, в ноябре 1933 года, Осип Мандельштам написал пророческое антисталинское стихотворение. Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина.
В видеосюжете Юрия Векслера о нем говорят Сергей Гандлевский, Мария Степанова, Лев Рубинштейн и Андрей Битов
Отложенный выстрел Сталина
В истории с двумя арестами Мандельштама (1934 и 1938), между которыми пролегли четыре года передышки, давшие миру «Воронежские тетради», несомненно, ключевой, но не до конца расшифрованной, является запись Сталина на письме Бухарина. «Бухарчик» просил «друга Кобу» облегчить участь поэта, уже отправленного в ссылку в Чердынь. Сталин начертал на письме, непонятно к кому обращаясь: «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие…»
Отмечу, что написал он это, уже будучи, в отличие от заступника Бухарина, знакомым с эпиграммой на «кремлевского горца». И тем не менее Сталин успел к этому времени произнести: «Изолировать, но сохранить!» Этой фразой он приказал заменить планировавшуюся отправку поэта в лагерь или на строительство канала ссылкой. Но и он не мог (и, конечно, не хотел) освобождать автора «пасквиля» (так в деле Мандельштама).
Просто Сталин хотел сам и только сам решать судьбы «своих» писателей и поэтов. В сталинской фразе – его убеждение, что если все граждане – это его подданные, то писатели еще более подданные, чем все остальные.
Они – его писатели. «Комедианты господина». И без его санкции арестовывать никого из них нельзя. Сталин не забыл о тех, к кому мысленно обращался. И выписавший ордер на арест Яков Агранов и следователь Николай Шиваров были репрессированы в 1937 году, т. е. до второго ареста Мандельштама. Позднее уже все чекисты знали, кто «главный друг литераторов», и Абакумов в 1950 году письменно запрашивал у Сталина санкцию на арест Ахматовой. Арестована она не была. Так что можно не сомневаться, что второй арест Мандельштама был санкционирован Сталиным лично. Почему же и за что поэт был повторно арестован и отправлен на Колыму, до которой не доехал?Поражает, что во втором деле Мандельштама вообще нет состава преступления. Oно, это дело, как бы пришито к первому. При этом само стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны» в нем вовсе не упоминается! Но, несомненно, подразумевается.
Сталин был человеком начитанным и любил литературные ассоциации. Поэтому я рискну предложить возможность того, что вождь сразу же по прочтении оскорбительного текста вынес поэту свой приговор. Но он отсрочил его исполнение, или, еще точнее, как пушкинский Сильвио, отложил свой выстрел в этой дуэли. Было ли это признанием значения миссии поэта и равенства его царю («и меня только равный убьет»)?
Того, чего ожидал или, может быть, даже хотел Мандельштам – казни, расстрела, – Сталин не соизволил приказать, а еще он не захотел отвечать на мастерский поэтический выстрел реальным. Было ли это проявлением человеческого в нем? Или поэтического? Ведь ему, писавшему стихи в молодости, была, скорее всего, понятна особость поэтического дара?
Конечно, мы можем только предполагать, каковы были его истинные мотивы. В начале 1937 года Мандельштамом была написана «Ода Сталину», вызывающая по сей день споры, была ли она панегириком тирану или искусным продолжением первой лобовой атаки (так считал, например, Иосиф Бродский).
Но нет подтверждения, что Сталин вообще читал «Оду». Сталин сам творил себя, свой образ. Уже после смерти Мандельштама в пересыльном лагере под Владивостоком Сталин, выступая на совещании в ЦК ВКП(б) 9 сентября 1940 года сказал, обращаясь к писателям и киносценаристам:
«Я бы предпочел, чтобы нам давали врагов не как извергов, а как людей, враждебных нашему обществу, но не лишенных некоторых человеческих черт. У самого последнего подлеца есть человеческие черты, он кого-то любит, кого-то уважает, ради кого-то хочет жертвовать. Есть у него какие-то человеческие черты… И враги… не так слабы они были. Разве не было сильных людей? Почему Бухарина не изобразить, каким бы он ни был чудовищем, – а у него есть какие-то человеческие черты. Троцкий – враг, но он способный человек, – бесспорно <следует> изобразить его, как врага, имеющего отрицательные черты, но и имеющего хорошие качества, потому что они у него были, бесспорно».
«Некоторые человеческие черты» Сталина, проявленные им в истории с Мандельштамом, не делают его меньшим чудовищем.
P. S. Важные линки:
Бенедикт Сарнов. «Дело обернулось не по трафарету»
Павел Нерлер. Сталинская премия за 1934 год. Следственное дело Осипа Мандельштама
Революционное творчество Осипа Мандельштама | Библиотеки Юго-Востока Москвы
Осип Мандельштам родился в семье польских евреев. Его отец был весьма обеспеченным торговцем кожей. Юный Иосиф (имя поэта, данное ему от рождения – прим. ред.), как старший сын, мог стать преемником родительского дела, однако пошёл по совершенно иному пути.
⠀
Первые стихи он опубликовал в 1907 году в журнале училища под псевдонимом. Это была острая гражданская лирика, на которую Мандельштама вдохновило «Кровавое воскресенье». Поэт не стал включать эти произведения в свои последующие сборники, однако с 1908 в его творчестве также прослеживается последовательная критика царского режима и поднимаются проблемы угнетённого народа.
⠀
Революция и разочарование
⠀
Революцию 1917 года Мандельштам встречает с надеждой на общественные перемены. Его отец к тому времени вложился в покупку завода, который в итоге был национализирован, и становится наёмным работником. Сам Осип также активно включается в новую советскую жизнь. Публикуется в газетах, выпускает сборники, работает в Наркомпросе.
⠀
Мандельштама признают, как поэта, но широкой популярностью его стихи не пользуются. Постепенно он разочаровывается и в новом государственном строе. Тоскливые мотивы звучат в его лирике к середине 20-х годов и всё чаще проявляются в начале 30-х.
⠀
В 1933 году Мандельштам получает квартиру в писательском доме. «И стены проклятые тонки, И некуда больше бежать, И я как дурак на гребёнке Обязан кому-то играть», — пишет после заселения поэт. А месяц спустя он сочиняет роковое стихотворение «Мы живём, под собою не чуя страны…»
⠀
Акт самоубийства
⠀
Строки о Сталине из этого произведения в те времена вполне могли привести к расстрелу. Мандельштам читает стихотворение десятку знакомых. Все, как один, они отказываются комментировать его, заявляя: «Мы ничего не слышали». Борис Пастернак и вовсе отвечает: «Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия».
⠀
Вскоре, по донесению одного из слушателей, за Мандельштамом пришли. На первом же допросе он признал существование стихотворения и записал его. В доме поэта прошли обыски, и лишь стараниями его жены удалось спрятать и сохранить многие стихи.
⠀
Мандельштама отправили в ссылку в Чердынь. Там он пытается покончить с собой, выбросившись из окна. Его жена отправляет телеграмму Бухарину, а тот – письмо Сталину. Приговор смягчают: поэту разрешают выбрать место проживания, исключая Москву, Ленинград и десяток других крупных городов. Мандельштам с женой переезжают в Воронеж.
⠀
Звонок Пастернаку
⠀
Получив письмо от Бухарина, Сталин созванивался с Пастернаком. В разговоре он спрашивал о Мандельштаме, в частности, интересовался, мастер ли он. Позже Фазиль Искандер предположит, что вождю понравилась та эпиграмма. Показывая Сталина деспотичным диктатором, она одновременно подчёркивала неотвратимость его воли и силу его власти.
⠀
Поэтическое мастерство Мандельштама могло интересовать Сталина с точки зрения новых посвящённых ему стихотворений. И такое произведение появилось. Уже в воронежской ссылке Мандельштам пишет «Оду Сталину», по воспоминаниям его супруги, вымученную.
⠀
В 1937 году ссылка Мандельштама заканчивается, а год спустя, он вновь попадает под арест. На этот раз ему присудили пять лет лагерей за контрреволюционную деятельность. Поэт не пережил зимовку в пересыльном лагере и был похоронен в братской могиле во Владивостоке.
⠀
Самобичевание и личный протест
⠀
Однако к революционерам поэта отнести вряд ли возможно. Вся его жизнь, отразившаяся в творчестве, напоминала скорее некий личный бунт. У Мандельштама было своё представление о прекрасном. И он остро, всем своим нутром, протестовал против того, что этой картине противоречило.
⠀
Яркий пример – его пощёчина Алексею Толстому за результат товарищеского суда. Мандельштам считал задетой честь своей супруги и не забыл обиды даже спустя два года после произошедшего. Что вылилось в этот яркий и абсолютно бессмысленный импульсивный жест.
Очевидно, что поэту было свойственно и самобичевание. Его нападки на царский режим многие связывают с неприятием собственного происхождения. Сюда же вписываются стихотворение «Квартира» и, разумеется, эпиграмма на Сталина – по сути, игра со смертью. Возможно, таким же самобичеванием была работа над последующей одой вождю.
⠀
Поиск подтекста
⠀
Сегодня Мандельштама признают одним из главных поэтов Серебряного века. Его творчество исследуют как на Родине, так и за рубежом. С подачи американских филологов по отношению к стихотворениям поэта многие стали применять так называемый интертекстуальный подход: поиск подтекстов.
⠀
Поэзия Мандельштама полна метафор и аллюзий. Несмотря на отсутствие дипломов, поэт был образованным человеком и, в первую очередь, очень начитанным. Многие считают, что его стихи невозможно понять, не обладая багажом знаний в области культуры и не ознакомившись с теми же произведениями, что читал сам автор.
⠀
Его стихи разбирают по словам в поисках глубинного смысла. И непременно находят, причём очень вероятно, даже там, куда он не был заложен. Одних лишь версий о причинах употребления слова «осетин» в той самой эпиграмме на Сталина сегодня звучит немало, и многие из них противоречат друг другу.
⠀
Впрочем, тем поэзия и хороша, что каждый может прочесть в ней то, что хочет прочесть. А вот узнать наверняка, что вкладывал и вкладывал ли Мандельштам в то или иное слово, не выйдет ни читая его любимые произведения, ни получая докторскую степень в сфере искусств. Это можно узнать, лишь прожив жизнь самого поэта.
⠀
Сегодня со дня рождения Осипа Мандельштама исполнилось 130 лет.
Загадка мандельштамовской «Оды» Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение»
Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 47
УДК: 82.091
DOI: 10.17223/19986645/47/8
A.B. Жучкова ЗАГАДКА МАНДЕЛЬШТАМОВСКОЙ «ОДЫ»
При осуществлении эмпирического анализа языковой структуры «Оды» Сталину в статье используются как традиционные лингвистические подходы, так и психолингвистические средства. В результате делается вывод, что Мандельштам создает произведение, текст которого двупланов. Ода написана эзоповым языком. На первом плане — восхваление вождя, но пародийное, гротескное, зловещее. Второй план, одический, прославляет то, что действительно дорого Мандельштаму, — силу народа и непрерывное движение истории.
Ключевые слова: Мандельштам, ода, Сталин, сатира, кумир, карикатура, гротеск, анаграмма.
«Ода» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы…») занимает особое место в манделыптамоведении. Сложно вписать это произведение в систему этических координат поэта, который в 1933 г. написал самоубийственное1
стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…» и читал его окру-
2
жающим, превыше всего ценя чувство «внутренней правоты» .
Первый полемический вопрос, связанный с манделыптамовской «Одой», звучит так: искренний или неискренний порыв привёл к ее созданию, верил ли Мандельштам в то, что писал, или это было осознанным насилием над собой? С. С. Аверинцев, в частности, уверен, что Мандельштам написал похвалу Сталину, моля о милости и «причиняя себе при работе над «Одой» немалое насилие»3. M.JI. Гаспаров убежден, напротив, в искреннем гражданском пафосе «Оды».
Дискуссия вокруг «Оды» имеет свою точку отсчета — небольшую главу с одноименным названием в книге воспоминаний Надежды Мандельштам. Насилием над собой, совершенным в целях спасения, считает Надежда Яковлевна это стихотворение и предполагает, что данный шаг был учтен, поскольку после гибели мужа ее не тронули4. К мнению вдовы поэта примкнули Э. Герштейн, И. Кондаков, А. Кушнер. С. Аверинцев и др., объясняя поли-
1 «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому», — сказал Пастернак, услышав данное стихотворение [1].
2 В нем росли и переливались //Волны внутренней правоты [2. С. 476].
3 «Поэт проходит через свое последнее искушение: попросить милостыню у тени, поддаться иллюзорному соблазну, использовать свой дар, чтобы вернуться в жизнь. Так возникает «Ода Сталину». Вполне очевидно, что Мандельштам… должен был причинить себе при работе над «Одой» немалое насилие» [3. С. 264].
4 При огромном уважении к личности Н. Мандельштам мы не будем подробно останавливаться на ее трактовке «Оды» ввиду общей необъективности «Воспоминаний», что неоднократно констатировалось в научной литературе и поэтому не позволяет считать данный источник основанием убедительной аргументации.
тическое «отступничество» Мандельштама попыткой сохранить жизнь: свою и жены. «Это была конъюнктурная вещь, не заслуживающая внимания исследователя», — пишет Э. Герштейн [4. С. 388]. A.C. Кушнер сопоставляет «грандиозную и жуткую «Оду» с «нестерпимо льстивой державинской одой «Изображение Фелицы» (1789)», написанной под угрозой судебного расследования. «Что это, только лесть? Только стремление выжить? Или только свидетельство советизации сознания («Я должен жить, дыша и болыпевея»)? Нет, это еще и желание отблагодарить Сталина за неслыханно мягкий приговор: «Изолировать, но сохранить». Другие получали высшую меру за одно неосторожное слово, за случайную обмолвку, вообще ни за что, а тут «тараканьи усища», «широкая грудь осетина», «он играет услугами полулюдей», «его толстые пальцы, как черви, жирны» — и всего лишь Чердынь, вскоре замененная вполне «приличным» и «сносным» Воронежем» [5].
Оппозиционная партия, во главе с M.JI. Гаспаровым, высказывает мнение, что «Ода» является следствием душевного потрясения, приведшего поэта к искреннему и восторженному принятию сталинизма: «Мандельштам своих последних лет принимает советскую действительность» [6. С. 66].
Главным аргументом представителей первой группы исследователей, отстаивающих политическую честь поэта и незыблемость его антисталинских убеждений (но жертвующих его честью человеческой, предполагая в нем желание «выслужиться»), является тезис о вымученности Оды, несоответствии ее остальному творчеству Мандельштама. Б. Сарнов, споря с М. Гаспаровым, говорит о насильственном характере Оды и этим оправдывает поэта, продолжая линию «защиты» Надежды Мандельштам. По воспоминаниям жены, при работе над Одой Мандельштаму впервые в жизни понадобился письменный стол и карандаш… каждые полчаса он вспоминал Н. Асеева (поскольку, поясняет Б. Сарнов, писать по заданию, как Асеев, не умел): «Вот Асеев — мастер! Он бы не задумался и сразу написал» [7. С. 244]. В. Гандельсман пишет: «Мне кажется, что если читать в упор, то концы с концами не сходятся и нет ни гармонически единого строя речи, ни положительной определенности взгляда, ни связи со стихами вокруг (за исключением тех двух-трех, где мелькает Сталин)… в «Оде» нет того, что не определить никакими подсчетами. Нет искренне интимной интонации» [8. С. 311-320].
Приверженцы же противоположной точки зрения, считающие «Оду» вкупе с соседними большевистскими стихами выражением искреннего сталинизма, настаивают на одухотворенности текста, часто ссылаясь на высказывание И. Бродского о грандиозности этих стихов: «На мой взгляд, это, может быть, самые грандиозные стихи, которые когда-либо написал Мандельштам. Более того, это стихотворение, быть может, одно из самых значительных событий во всей русской литературе XX века» [9].
Воспринимать «Оду» буквально, как восхваление Сталину, легко, что и делает Чеслав Милош в «Комментарии к оде Сталину О. Мандельштама», отмечая ее «отвратительный византизм, не знающий в лести ни стыда, ни меры» [10], легко, но недальновидно.
Потому что произведение это многомерное, — и именно таким и задумывалось.
Текст «Оды», цепляющий вызывающей политической семантикой, на самом деле глубоко уходит корнями в духовную и национальную метафорику:
B.В. Мусатов, исследуя фольклорные мотивы «Оды Сталину», приходит к выводу, что Мандельштам, как некий фольклорный герой, в подтексте и фольклорных аллюзиях оды противопоставляет себя окостеневшему, мертвому идолу — «кумиру-Кащею» Сталину: «Мандельштам, смотревший на фигуру вождя через призму фольклорных мотивов и ассоциаций, хорошо сознавал всю меру риска, связанного с прямым обращением к «кумиру». Знал он, безусловно, и другое: фольклорный герой лишь тогда не погибает при контакте с нечистой силой, когда владеет правилами поведения в волшебном мире и грамматикой языка, на котором с этой силой можно общаться» [11.
C. 158].
В. Гандельсман обнаруживает в «Оде» «что-то жутковатое от смеси заурядного и гениального <.. .> гремучую смесь поэзии и неправды» [8].
Есть и более далекие от научных, но в некотором плане интересные наблюдения. А. Чернов расценивает текст «Оды» как магическое проклятье: «Перед нами поэтический шифр. Уже четвертая строка «Оды» заключает анаграмму имени ИОС-И-/Ф/… В пятой, шестой, седьмой, восьмой и десятой строках вновь: ОСЬ — И-ОС-И — И-ОСЬ — СТА… JI ИН. Слово «черт» в «Оде» зашифровано шестикратно (и значит, тоже сознательно): расЧЕРТил — ЧЕРТах — оТца РеЧЕй упрямых — завТра из вЧЕРа — ЧЕРез Тайгу — ЧЕм искРенносТь» [12].
В. Григорьев находит в «Оде» противопоставление образов В. Хлебникова — И. Сталина. «Портрету Сталина отведена беспрецедентная роль — послужить «планом выражения» для иного содержательного, но непортретного образа… Поражает искусство Мандельштама, сумевшего на протяжении семи строф, в тяжелейших условиях официальной задачи («прославить Сталина») <…> сказать так много о «сталинском конкуренте», прославив «Его» <Хлебникова> и сделав это так, что тайна «двойного плана» сохраняется на пространстве семи строф в продолжение 60 лет» [13. С. 125-149].
Дискуссии и споры вокруг «Оды» Сталину не затихают. Например, на декабрьском собрании 2015 г. лаборатории манделыптамоведения Института филологии РГГУ (Москва) с докладом о жанровых особенностях оды Сталину выступила С. Артемова, актуализировав вопрос жанровой идентификации этого произведения.
В истории русской литературы понимание жанра оды подвергалось трансформации. В древнегреческой и римской поэзии (Пиндар, Гораций), как известно, ода представляла собой похвальную песнь, славящую какое-либо государственное событие или достижения человеческого разума (но не восхваление частного лица, эту сферу обслуживал скорее дифирамб). Пиндар превозносил победы на спортивных состязаниях Гораций — Мецената, но в целях идеологического воздействия на него. Так и оды М.В. Ломоносова посвящены событиям гражданского значения: «Ода на день восшествия на Всероссийский престол… императрицы Елисаветы Петровны», «Ода… на взятие Хотина 1739 года», «Ода на день брачного сочетания… Петра Феодоровича и… Екатерины Алексеевны», «Ода… Елисавете Петровне… на торжественный праздник тезоименитства…». К концу XVIII в. жанровые признаки оды рас-
шатываются. Державин отходит от традиции отражать в оде только события общегражданского характера и некоторые стихотворения с тем же жанровым обозначением посвящает конкретному лицу («Фелица») или личному переживанию («Истинное счастье», «Буря», «Молитва»).
Стихотворение Мандельштама 1937 г. называется просто «Ода», таким образом акцентируется его жанровая специфика. Полагаясь на изначальное понимание жанра, можно сделать вывод, что это произведение не адресно, оно не восхваляет Сталина, а освещает сталинскую эпоху в жизни народа. Учитывая же постепенную историческую персонализацию оды, можно обнаружить еще более рискованные аллюзии: в истории русской литературы оды создавались, во-первых, с посвящением царям; во-вторых, с целью дать урок царям. Уже в названии и жанровой принадлежности оды заложена игра со смыслами.
Обращался ли поэт ранее к жанру оды? В поэзии Мандельштама до 1937 г. мы дважды встречаемся с одическим жанром, обозначенным в заглавии: в 1914 г. он пишет «Оду Бетховену» и в 1923 г. «Грифельную оду». Остановимся на «Грифельной оде», одном из ключевых произведений поэта, посвященном эпохальному сдвигу в судьбе народа. «Двадцатые годы, может быть, самое трудное время в жизни О. Мандельштама, — вспоминала жена поэта. — Никогда ни раньше, ни впоследствии, хотя жизнь потом стала гораздо страшнее, Мандельштам с такой горечью не говорил о своем положении в мире» [7. С. 203].
Долгом поэта Мандельштам считает «флейтою связать» «узловатых дней колена», склеить позвонки разорванного времени, но в косматой, звериной действительности двадцатых годов ему это не удается. Нет слушателей, стремящихся вслед за орфеевой флейтой поднять «до членораздельного порыва растительные краски бытия» [14. С. 193]. Послереволюционную Советскую Россию Мандельштам ощущает как эпоху, повернувшую вспять, исполинской глыбой вставшую на пути общего хода времени и личностного развития.
Распряженный огромный воз
Поперек вселенной торчит.
с… >
Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поем…
«Я по лесенке приставной…», 1922
О том же говорится и в «Грифельной оде»:
Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг…
Но «Грифельная ода» не рядовое стихотворение периода. Это именно ода, жанр, описывающий события общегражданского масштаба. В теоретических работах 1920-1921 гг. Мандельштам обосновывает героическую миссию поэзии, видя ее в утверждении культурных ценностей и гуманистических идеалов. Называя стихотворение одой, поэт предпринимает попытку не просто осмыслить современность, но и принять ее, «восславить», осознать целе-
сообразность, проникнуться «целокупностью» происходящего. А для этого необходимо соединить бездуховность и жестокость эпохи с верой в культуру и человека. Этой задаче и посвящена «Грифельная ода».
Сотканная из противоречий материя стихотворения сопрягает несоединимое: кремень и воздух, кремень и воду. Смысловая и структурная ось «Грифельной оды» — образ «стыка». Само это слово упоминается трижды: в первой, шестой и последней строфе. Стык — соединение катастрофического переживания исторического перелома, сдвига, повернувшего ход истории вспять («обратно в крепь родник журчит») с поэзией и незыблемыми ценностям гуманистической культуры: «кремнистый путь» и «звезда с звездою» Лермонтова, «прозрачный лес» Пушкина, вложение перстов в язвы Христа и образ-символ грифеля.
В финале «Грифельной оды» Мандельштам преодолевает разорванность бытия через себя, через слух, голос и сердце поэта и через его дело: «Мы только с голоса поймем, // Что там царапалось, боролось, // И черствый грифель поведем // Туда, куда укажет голос»:
И я хочу вложить персты В кремнистый путь из старой песни Как в язву, заключая встык -Кремень с водой, с подковой перстень.
«Грифельная ода» — ода грифелю, орудию поэтического творчества. Грифель получают из графита, который является наиболее устойчивой при обычных условиях аллотропной модификаций углерода, вторая же модификация его — алмаз. Внутренний образ кристаллической структуры алмаза -одна из онтологических метафор манделыптамовского мира («кристаллическая нота, что от рождения чиста», «соборы кристаллов сверхжизненных»). Поэзия — грифель и алмаз одновременно — только она может скрепить распадающиеся временные пласты, сберегая духовность.
Сопоставление «Грифельной оды» и «Оды» Сталину выявляет множество интересных соответствий.
«Грифельная ода» посвящена гибельному, с точки зрения Мандельштама, времени в истории России, времени сдвига. В «Оде» 1937 г. поэт тоже указывает, что Сталин «сдвинул ось»:
Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг («Грифельная ода») Я б рассказал о том, кто сдвинул ось («Ода»)
Ведущий порыв «Грифельной оды» — стремление преодолеть разрыв, связать пласты времен. В «Оде» та же мысль:
Но в книгах ласковых и в играх детворы воскресну я сказать, что солнце светит.
Но если в «Грифельной оде» поэт надеется на поэзию, на свой пророческий дар, то в «Оде» 1937 г. он опирается на народные силы. Хотя Сталин «сдвинул ось», но поэт верит в сохранность внутренней правды народа, в его
«счастье стержневое». Стержень народной души — тот же грифель. Надежда Мандельштам рассказывает, что в последнем цикле стихов, не дошедших до нас, был представлен «взгляд на Россию, которая продолжает жить медлительной жизнью, вопреки всему и ничего не замечая. В погибших стихах страна противостоит губительным силам — своим молчанием и тишиной, своим пассивным сопротивлением, укладом, жертвенной готовностью к любым испытаниям» [15. С. 492].
Изображение Сталина в первой части «Оды» окаменело, окостенело и идолоподобно (выпячивается мотив горы и кости, что позволяет В. Мусатову сравнить его образ с фольклорным Кащеем [11. С. 155-162]):
И я хочу благодарить холмы, Что эту кость и эту кисть развили: Он родился в горах и горечь знал тюрьмы… Он свесился с трибуны, как с горы… Глазами Сталина раздвинута гора…
Но жизнь противопоставлена фигуре кумира-горы, она движется: «ворочается», «свидетель медленный труда, борьбы и жатвы». Жизнь как таковая, в ее вечном движении, и жизнь народа как единого организма существует вопреки сталинскому омертвению:
И каждое гумно, и каждая копна сильна, убориста, умна — добро живое -чудо народное! Да будет жизнь крупна! Ворочается счастье стержневое.
По линии «движения-омертвения», продолжающей мотив кремня и воздуха, кремня и воды из «Грифельной оды», народ противопоставляется Сталину: народ живой, его жизнь непрерывна, образ Сталина — застывший, окаменевший, мертвый.
Первая часть «Оды» написана от лица лирического «я» и выдержана в условном наклонении: «Когда б я уголь взял…». Здесь нет действия, а есть лишь вероятностное будущее, которое так и не наступает. Грифель из «Грифельной оды», синоним поэтического творчества, обретает две противоположные ипостаси: уголь и стержень. В соответствии с этим понимание поэтического творчества тоже двойственно: первое, ассоциирующееся с углем, рисованием и чтецом, т.е. официальное, которое делается на заказ, собственно и не творчество, а второе — настоящее, стержневое, понимается как ось мира, столь важная для Мандельштама: ворочается счастье стержневое. Сталина лирический герой, по его собственному признанию, собирается именно рисовать, и уголь, атрибут уже не поэтического, а скорее рисовального процесса, который он все равно искрошит, свидетельствует о чуждости этой задачи внутреннему миру поэта. Поэзия для Мандельштама — пение; говоря о поэтическом, он всегда использует слова с семантикой «петь», «певец»: «Мандельштам — прирожденный певец» [16. С. 212]. А в «Оде» употреблен глагол «рисую» (вместо «петь») и трижды — «художник». Предпринимая весьма странные попытки нарисовать Сталина («Я б воздух расчертил на
хитрые углы…») и понимая их безуспешность («Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!»), поэт делегирует задачу художнику.
Слова «рисование» и «художник» несвойственны поэтическому словарю Мандельштама, как и визуальные эпитеты [17. С. 155-168]. Естественной для Мандельштама является кинестетическая репрезентативная система, доля кинестетических предикатов в основном корпусе его стихотворений составляет 75 % [18. С. 47]. Визуальных образов в его творчестве, напротив, совсем немного, и даже те на 50 % нагружены дополнительный кинестетической образностью [17. С. 155-168]: зловещий деготь, в беременной глубокой сини, сухое золото и пр.
Подсчет визуальных, аудиальных и кинестетических предикатов (К — 50, V — 49, А — 10) показывает нам, что «Ода» стоит особняком среди прочих произведений Мандельштама, поскольку доля визуальных предикатов здесь непомерно велика. Но если мы обратимся к более детальному УАК-анализу (т.е. анализу визуальной, аудиальной и кинестетической образности), то окажется, что в первой и последней частях стихотворения, где поэт говорит от имени лирического «я», количество кинестетических предикатов значительно преобладает над количеством визуальных, что соответствует ведущей репрезентативной системе Мандельштама — кинестетической. Эта ситуация кардинальным образом меняется, когда поэт обращается к изображению вождя: образ Сталина, нарочито, искусственно, рисуется в несвойственной Мандельштаму визуальной системе. И вот что «вырисовывается»: «Могучие глаза мучительно добры, // Густая бровь кому-то светит близко. // …стрелкой указать на твердость рта… // Лепное, сложное, крутое веко // бегут, играя, хмурые морщинки». Абсурдный портрет не только вполне уродлив, но и полон угрожающими каламбурами («густая бровь кому-то светит», хмурые морщинки бегут «на всех, готовых жить и умереть»), восходя к образу «высшей похвалы» как высшей меры.
И это в то время, когда облик Сталина, как облик бога, даже просто воспроизводить простым смертным было запрещено, поскольку неумелые художники могли вольно или невольно исказить великие черты. В одном из музеев Торжка хранится вытканное мастерицей золотошвейного цеха полотно с вдохновенным изображением вождя, которое она прятала всю жизнь, опасаясь ареста.
После визуализации Сталина, вдоволь поиздевашись над отцом народов, Мандельштам меняет интонацию, опять обращаясь к угольку, но здесь уже как к новому воплощению грифеля, символу поэтического творчества (хотя на первый взгляд может показаться, что речь идет о Сталине, при более внимательном прочтении видно — об угольке):
Сжимая уголек, в котором все сошлось, Рукою жадною одно лишь сходство клича, Рукою хищною — ловить лишь сходства ось, -Я уголь искрошу, ища его обличья. Я у него учусь — не для себя учась, Я у него учусь — к себе не знать пощады. Несчастья скроют ли большого плана часть? Я разыщу его в случайностях их чада…
Эзопов язык1 этой строфы строится на подмене грамматического значения — контекстуальным. Местоимение третьего лица мужского рода воспринимается адресованным Сталину (по аналогии с темой стихотворения и по привычке использовать фигуру умолчания в разговоре о нем), но на самом деле Сталин в этой строфе даже не упоминается, речь идет об угольке: Я уголь искрошу, ища его обличья, я у него учусь… В зависимости от атрибуции местоимения текст получает различное значение. И если мы прочитаем его в соответствии с грамматической структурой строфы, держа в уме семантику уголька как символа поэтической правоты, подсказанную «Грифельной одой», то получится совсем иной текст — о сущности времени, о сути и обличье поэзии, о роли и ответственности поэта.
Далее, после многоточия, Мандельштам реверсивно персонифицирует местоимение «его» сталинскими чертами: «в шинели, в картузе», надежно пряча двойной смысл этих строк.
Тот же прием «размывания» значения личных местоимений использован и далее, но теперь комплементарным субъектом выступает народ. Прочитаем следующую строфу как адресованную народу:
И каждое гумно, и каждая копна Сильна, убориста, умна — добро живое -Чудо народное! Да будет жизнь крупна! Ворочается счастье стержневое.
И шестикратно я в сознаньи берегу -Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы -Его огромный путь — через тайгу И ленинский октябрь — до выполненной клятвы.
Образ Сталина истончается, и сквозь него проступает то, что тирану неподвластно: ворочается счастье стержневое, воскресает поэтическая правота.
По сути, все громоздкие метафоры, связанные с образом Сталина, выполняют ту же функцию: раздвигают реальное его восприятие до гротескного и иллюзорного. Фигура Сталина отступает, растворяется… Он «чудится» лирическому герою, он «улыбается улыбкою жнеца // рукопожатий в разговоре» (троекратная метонимическая цепочка), его имя есть для губ чтеца, но его самого уже нет.
Ломается композиция застывшего парадного портрета, и место Сталина занимают образы поэта и народа, которые начинают движение каждый по своей траектории: поэт ищет смысл происходящего и готовится к смерти и воскресению; народ медленно ворочается, продолжая не останавливающееся никогда поступательное движение жизни. Центральный образ «Оды», как и центральный мотив «Стихов о неизвестном солдате» и всей гражданской лирики 1937 г., — это образ поэта, образ народа и их единство, а вовсе не признание сталинизма. И заканчивается «Ода» утверждением этого единения в повторении местоимения «мы»:
1 Применительно к поэтике Мандельштама данное выражение было введено в научный обиход И. Месс-Бейер сначала в журнальной статье (1991), а затем в монографии [19].
Есть имя славное для сильных губ чтеца. Его мы слышали, и мы его застали.
Последняя строка стихотворения — отдельное предложение. Синтаксически и интонационно такое деление не детерминировано, уместнее была бы запятая. Однако поэт ставит точку, отделяя последнюю строку. Что же в ней, кроме сильного МЫ?
В ней нарочитая упрощенность и небрежная разговорная инверсия (его мы… и мы его), а главное — уничижительное звучание (относительно предмета речи) глаголов слышали, застали, употребленных в прошедшем времени. Мол, было дело. Застали Сталина (частичная анаграмма Сталин — застали), но пошли дальше. Какова семантика слова «застать»? — «случайно встретить на своем пути». То есть наличие пути воспринимается как смысловая доминанта, а отрезок этого пути, связанный с правлением Сталина, — как некоторая случайность.
В «Оде» Мандельштам снова, как и в стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны…», развенчивает ореол страха и власти, окружающий «кремлевского временщика». Л. Кацис говорит о «Стихах о неизвестном солдате», что они о «преодолении языческого сталинско-зевсового морока» [20]. То же происходит и в «Оде», но в двух жанровых планах: сатирическом, по отношению к фигуре Сталина, и одическом — в утверждении целокупности бытия. «Это стихотворение Мандельштама — одновременно и ода, и сатира. И из комбинации этих двух противоположных жанров возникает совершенно новое качество», — считал Бродский [9]. Одическое начало в стихотворении -провозглашение народной силы и славы, высокой миссии поэта и единства поэта и народа. Сатирическое начало — нарочито уродливое, гротескное изображение Сталина.
Мертворожденные «неманделыптамовские» строки «Оды» мы считаем свидетельством не наступания на горло собственной песне, а сознательным художественным приемом, призванным создать сатирический, пародийный пласт произведения.
Сравним, например, зачин «Оды» («Когда б я угль взял для высшей похвалы. ..») с сатирическим стихотворением того же 1937 г.:
Когда б женился я на египтянке И обратился в пирамид закон, Я б для моей жены, для иностранки, Для донны покупал пирамидон….
То, что в «Оде» объявляется выморочным, тягостным и объясняется политическим давлением, на самом деле — сатирический слог. На сатирических приёмах — отсутствие мелодии, пародийность, каламбур, карикатура, алогизм, анаграммы и пр. — и построено изображение Сталина:
Глазами Сталина раздвинута гора
Искажение фразеологизма «сдвинуть горы» приводит к абсурдному образу раздвинутой, т.е. разрушенной, горы.
Я б рассказал о том, кто сдвинул ось…
В контексте художественного мира Мандельштама сдвинуть ось равнозначно нарушению гармонии мироздания; поэтому фраза приобретает коннотацию «ябедничества»: «я б рассказал о том, кто это сделал…»
Он улыбается улыбкою жнеца…
Страшноватая улыбка, если сопоставить фольклорную метафору жатвы как кровавого боя и количество жертв сталинских репрессий. «В жатве — завершение прошлого, в Сталине, улыбающемся «улыбкою жнеца», история умирает» [21].
И я хочу благодарить холмы,
Что эту кость и эту кисть развили.
Странно благодарить неодушевленные и невеликие холмы, тем более развившие лишь костяное, кащеевское начало в вожде, анаграмматически связанные — кость и кисть. Далее продолжается мотив каменного истукана, отмеченный В. Мусатовым:
Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.
Согласно В.Я. Проппу удвоение — один из вариантов насмешливой комичности [22. С. 44-47]. Так и с образом Сталина связаны ряды анаграмма-тичпского удвоения: кость — кисть, горы — горечь, трибуна — бугры, горы -голов.
И даже восклицание оборачивается ироническим обесцениванием:
Хочу его назвать — не Сталин, — Джугашвили!
Замаскированное обесценивание мы видим и в предпоследней строке:
Есть имя славное для сильных губ чтеца.
В поэтическом лексиконе Мандельштама много певцов, скальдов, собеседников, есть те, кто рассказывает, кричит, шумит и т.п., но нет тех, кто читает, потому что чтец — ненавистный Мандельштаму «пересказчик», «переводчик готового смысла». В стихах Мандельштама нам только один раз встретился «чтец» — и с отрицательным значением: в стихотворении «Мы напряженного молчанья не выносим…» появление чтеца метафорически отражает несовершенство душ: «И в замешательстве уж объявился чтец», от которого исходят «суета» и «шум».
И вот перед нами еще один чтец, да еще с сильными губами. Причем в ранней редакции губы чтеца были «сжатые», что усиливало абсурд ситуации.
Весь — откровенность, весь — признанья медь…
Признанья в чем? В совершенных преступлениях? Семантически непроясненные фразы и слова с отсутствием референтных индексов рождают двойственность толкования.
вдруг узнаешь отца // и задыхаешься, почуяв мира близость — предикат «задыхаешься» контекстуально окружен глаголами взял, связал, свесился, что в корне меняет смысл строки.
Художник, береги и охраняй бойца: В рост окружи его сырым и синим бором…
Если под бойцом подразумевать Сталина, поскольку до этого речь шла о нем, то вторая строка прочитывается так: «упрячь его подальше». И этот мотив повторяется:
Художник, береги и охраняй бойца -Лес человечества за ним идет, густея, Само грядущее — дружина мудреца И слушает его всё чаще, всё смелее.
Словосочетание «дружина мудреца» основано на фонетической аллюзии: мудреца — мертвеца. Образ мертвых воинов и их мертвого предводителя закреплен в фольклоре. А вот образа мудреца, который водил бы за собой дружину, не существует. В результате фраза приобретает чуть ли не заклина-тельный смысл: само грядущее — дружина мертвеца.
В стихотворениях, написанных около «Оды», Сталин также трактуется как «мертвое», «неживое». К образу окаменевшего кумира-идола из стихотворения «Внутри горы бездействует кумир» восходит, вероятно, строка «Оды» «глазами Сталина раздвинута гора…». В «Стихах о неизвестном солдате» Сталин изображен как «пасмурный, оспенный // И приниженный гений могил». У него нет губ, которыми автор (поэт) способен «нестись в темноте», он лишь «медлит и мглит».
Эпитеты, атрибутирующие Сталина, обладают ярко выраженной отрицательной коннотацией: хитрые, тревожно, гремучие, жадный, хищный, хмурый, мучительно.
Именно «Ода», в которой Мандельштам откровенно иронизирует над «вождем народов», ироничная, издевательская, презрительная, — вызвала страшный ответ. Бродский говорил: «Вы знаете, будь я Иосифом Виссарионовичем, я бы на то, сатирическое стихотворение, никак не осерчал бы. Но после «Оды», будь я Сталин, я бы Мандельштама тотчас зарезал» [9].
Мы считаем, что никаких внутренних противоречий в «Оде» нет. Не предавал поэт поэтической правоты. Он написал сатиру на Сталина и оду жизни. Сталинский морок насилия и страха преодолевается здесь дважды: через сатирическое развенчание Сталина и одическое прославление жизненной силы народа и миссии поэта. Гений могил, окаменевший внутри горы, безусловно, пугает. Но его власть — иллюзия. Живая душа народа и поэтический дар поэта
ей неподвластны. Когда поэт обращается к теме непрерывности народной жизни или к теме поэта, косноязычие уходит, перед нами и манделыптамов-ские интонации, и кинестетическая образность:
И каждое гумно и каждая копна Сильна, убориста, умна — добро живое -Чудо народное! Да будет жизнь крупна! Ворочается счастье стержневое.
Но в книгах ласковых и в играх детворы Воскресну я сказать, как солнце светит.
Это произведение о Сталине и народе, об эпохе и вечности, о жизни и смерти, о роли поэта и поэзии. Завершить разговор об Оде мы хотели бы словами И. Бродского: «я повторяю и настаиваю: стихотворение о Сталине гениально. Быть может, эта ода Иосифу Виссарионовичу — самые потрясающие стихи, которые Мандельштамом написаны. <…> Мандельштам использует тот факт, что они со Сталиным все-таки тезки. <…> Я думаю, что Сталин сообразил, в чем дело <…> что это не Мандельштам — его тезка, а он, Сталин, — тезка Мандельштама» [9].
Литература
1. Нерлер П. Слово и «Дело» Мандельштама // Новая газета. 2009. 17 февр.
2. Мандельштам О.Э. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Т. 1. М.: Прогресс-Плеяда, 2009. 810 с.
3. Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Поэты. М., 1996.
4. Герштейн Э.Г. Мемуары. СПб.: Инапресс, 1998.
5. Кушнер A.C. Это не литературный факт, а самоубийство // Новый мир. 2005. № 7. URL: http://magazines.mss.rU/novyi_mi/2005/7/ku9.html
6. ГаспаровM.JI. О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 г. М.: РГГУ, 1996.
7. МандельштамН.Я. Воспоминания. М.: Согласие, 1999. 555 с.
8. Гандельсман В. Сталинская Ода Мандельштама // Новый журнал. 1999. № 133. С. 311320.
9. Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая Газета, 1998. 128 с. URL: http://lib.ru/BRODSKIJ/wolkow.txt
10. Грудзинская-Гросс И. Россия и Америка — две империи. Глава из книги «Милош и Бродский: магнитное поле» / пер. с пол. М. Алексеевой // Иностр. лит., 2011. № 7.
11. Мусатов В.В. О фольклорном подтексте сталинской темы в воронежских стихах Мандельштама // Смерть и бессмертие поэта: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 60-летию со дня гибели О.Э. Мандельштама. М., 2001. С. 155-162.
12. Чернов А. Ода рябому черту: Тайнопись в «покаянных» стихах О. Мандельштама. URL: chernov-trezin.narod.ru
13. Григорьев В.П. Поздний Мандельштам: хитрые углы: («Ода» Сталину или/и Хлебникову?) // Europa Orientalis. Salerno, 1998. Vol. 17, №2. С. 125-149.
14. Мандельштам О. Разговор о Данте // Поли. собр. соч. и писем: в 3 т. Т. 2. М.: Прогресс-Плеяда, 2010. 763 с.
15. МандельштамН.Я. Вторая книга. М.: Согласие, 1990. 750 с.
16. Волошин В. Лики творчества. JL: Наука., 1988. 287 с.
17. Жучкова A.B. Гипнотический язык поэзии О. Мандельштама // Вестн. Моск. унта. Сер. 9: Филология. 2014. № 2. С. 155-168.
18. ХлыстоваА.В. Магия поэтики О. Мандельштама. М.: РУДН, 2009. 209 с.
19. Месс-Бейер И. Мандельштам и сталинская эпоха: эзопов язык в поэзии Мандельштама 30-х годов. Helsinki, 1997.
20. Кацис Л. Отражение Апокалипсиса. URL: http:// gordon0030.narod.ru/archive/l 1619/index.html
21. Кен О. Нелогичный третий раздел. «Стихи о неизвестном солдате» и ожидания эпохи URL: // http:/lvin.ra>documents/ken/neizv-soldat.doc
22. ПроппВ.Я. Проблемы комизма и смеха. М.: Лабиринт, 2007. 256 с.
ENIGMA OF OSIP MANDELSTAM’S THE ODE
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya — Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 47. 109-122. DOI: 10.17223/19986645/47/8
Anna V. Zhuchkova, Peoples’ Friendship University of Russia (Moscow, Russian Federation). E-mail: [email protected]
Keywords: Osip Mandelstam, Ode, Stalin, satiric style, idol, caricature, grotesque, odic style.
The aim of this article is to present a consistent conception based on linguistic facts. The author does not discuss any arguments related to its creation. The problem of the hermeneutic analysis of Mandelstam’s Ode lies in the debates about Mandelstam’s reasons and aims of writing the poem. There are two basic concepts that explain the emergence and importance of The Ode, 1937. N. Mandelstam, E. Gerstein, A. Kushner, S. Averintsev, B. Sarnov consider that this poem was written with a disregard for the feeling of inner poetic righteousness, in order to protect his life. They explain the absurd and ridiculous images of the poem (such as «with Stalin’s eyes a mountain is pushed apart», «the thick eyebrow at someone nearby flashing») by the fact that it was written under compulsion. The second group of scholars led by M.L. Gasparov believe in the sincere pro-Stalin sentiments of the poet. The stylistic awkwardness of The Ode is not considered by this group of researchers.
The author makes an evidence-based, empirical analysis of the language structure of the poem, relying on the traditional grammar and literary analysis as well as on the tools of psycholinguistic analysis based on works of N. Chomsky, A. Korzybski, J. Grinder, R. Bandler.
The author concludes that The Ode is written in the Aesopian language, it is an ambiguous text, a two-planned discourse. In the foreground the reader can see a eulogy to the Vozhd. However, it is a mock eulogy, a grotesque and sinister caricature. The Ode begins in the same way as a 1937 humorous poem by Mandelstam («If I married an Egyptian woman . . .»), and every epithet, every speech structure describing peoples’ Vozhd continues the same satirical line. For example, a number of adjectives have a pronounced negative connotation: sly, anxiously, rattlesnakes, greedy, rapacious, gloomy, painfully. Another proof is that Stalin is portrayed in a visual modality which is untypical for the poet. Mandelstam’s lyrical hero is always a kinesthetic and a poet. But here the situation is reversed: the artist draws. The second meaning of the poem comes to what is really important to Mandelstam, like people’s strength, people’s happiness or the continuous movement of history and the role of the poet in this movement. In these lines he returns to his primary kinesthetic modality. And that is the ode. The lines dedicated to «pivotal happiness», «kids’ games», «affectionate books», sound deep, poetic, musical in Mandelstam’s way.
Hence, the author believes that the poet neither betrays the sense of inner poetic righteousness for the sake of political expediency, nor becomes an ideologue of Stalinism. In The Ode Mandelstam combines two genres: the ode and the satire. Satire dispels the image of Stalin, it dispels fear and darkness enveloping his figure, and through the broken Stalin’s grand portrait emerges an odic, lofty story: the life of people, the mission of the poet and their unity.
References
1. Nerler, P. (2009) Slovo i «Delo» Mandel’shtama [Word and «The Case» of Mandelstam], No-vaya gazeta. 17 February.
2. Mandelstam, O.E. (2009) Polnoe sobranie sochineniy ipisem v 3 tt. [Complete works and letters in 3 vols]. Vol. 1. Moscow: Progress-Pleyada.
3. Averintsev, S.S. (1996) Sud’ba i vest’ Osipa Mandel’shtama [The fate and message of Osip Mandelstam], In: Averintsev, S.S. Poety [Poets], Moscow: Yazyki russkoy kul’tury.
4. Gershteyn, E.G. (1998)Memuary [Memoirs], St. Petersburg: Inapress.
5. Kushner, A.S. (2005) Eto ne literaturnyy fakt, a samoubiystvo [This is not a literary fact, but suicide], Novyy mir. 7. [Online] Available from: http://magazines.rass.rU/novyi_mi/2005/7/ku9.html
6. Gasparov, M.L. (1996) О. Mandelshtam: Grazhdanskaya lirika 1937g. [O. Mandelstam: Civil Lyrics of 1937]. Moscow: RSUH.
7. Mandelstam, N.Ya. (1999) Vospominaniya [Memories], Moscow: Soglasie.
8. Gandel’sman, V. (1999) Stalinskaya Oda Mandel’shtama [The Stalin Ode of Mandelstam], Novyy zhurnal. 133. pp. 311-320.
9. Volkov, S. (1998)Dialogi sIosifom Brodskim [Dialogues with Joseph Brodsky], Moscow: Izd-vo Nezavisimaya gazeta. [Online] Available from: http://lib.ru/BRODSKIJ/wolkow.txt.
10. Grudzinskaya-Gross, I. (2011) Rossiya i Amerika — dve imperii. Glava iz knigi «Milosh i Brodskiy: magnitnoe pole» [Russia and America are two empires. Chapter from the book «Milos and Brodsky: a magnetic field»]. Translated from Polish by M. Alekseeva. Inostrannaya literatura. 7.
11. Musatov, V.V. (2001) [On the folklore subtext of the Stalinist theme in Voronezh verses by Mandelstam], Smert’ i bessmertie poeta [Death and Immortality of the Poet], Proceedings of the international conference dedicated to the 60th anniversary of the death of O.E. Mandelstam. Moscow: RSUH. pp. 155-162. (In Russian).
12. Chernov, A. (2003-2005) Oda ryabomu chertu. Taynopis’ v «pokayannykh» stikhakh O. Mandel’shtama [Ode to the spotted devil. Cryptography in «repentant» poems by O. Mandelstam], [Online] Available from: http://chernov-trezin.narod.ru/Mandel.htm.
13. Grigor’ev, V.P. (1998) Pozdniy Mandel’shtam: khitrye ugly: («Oda» Stalinu ili/i Khlebnik-ovu?) [Late Mandelstam: tricky angles: («Ode» to Stalin and/or Khlebnikov?)]. Europa Orientalis.il: 2. pp. 125-149.
14. Mandelstam, O. (2010) Polnoe sobranie sochineniy ipisem v 3 tomakh [Complete works and letters in 3 volumes]. Vol. 2. Moscow: Progress-pleyada.
15. Mandelstam, N.Ya. (1999) Vtoraya kniga [Book Two], Moscow: Soglasie.
16. Voloshin, V. (1988) ZAi tvorchestva [Faces of creativity]. Leningrad: Nauka.
17. Zhuchkova, A.V. (2014) Gipnoticheskiy yazyk poezii O. Mandel’shtama [The Hypnotic Language of Poetry by O. Mandelstam], VestnikMoskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya — Bulletin of Moscow University. Series 9: Philology. 2. pp. 155-168.
18. Khlystova, A.V. (2009) Magiya poetiki O. Mandel’shtama [The magic of the poetics of O. Mandelstam], Moscow: RUDN.
19. Mess-Beyer, I. (1997) Mandel’shtam i stalinskaya epokha: ezopov yazyk v poezii Mandel’shtama 30-kh godov [Mandelstam and the Stalin era: the Aesopian language in Mandelshtam’s poetry of the ’30s], Helsinki.
20. Katsis, L. (2003) Otrazhenie Apokalipsisa [Reflection of the Apocalypse],[Online] Available from: http://gordon0030.narod.ru/archive/l 1619/index.html
21. Ken, O.N. (1998) Nelogichnyy tretiy razdel. «Stikhi о neizvestnom soldate» i ozhidaniya epokhi [The illogical third section. «Poems about the Unknown Soldier» and the expectations of the era], [Online] Available from: http:/lvin.ru>documents/ken/neizv-soldat.doc
22. Propp, V.Ya. (2007) Problemy komizma i smekha [The problems of the comic and laughter], Moscow: Labirint.
Сталин и Мандельштам — Павел Нерлер — Именем Сталина — Эхо Москвы, 05.06.2010
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканала RTVi, цикл передач «Именем Сталина» совместно с издательством «Российская Политическая Энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я – ведущая программы Нателла Болтянская, в нашей студии Павел Нерлер. Можно говорить мандельштамовед?
П.НЕРЛЕР: Можно говорить. Почему нет? Это не будет ошибкой.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: И говорим мы с вами о взаимоотношениях Сталина и Мандельштама. И знаете как? Люди, не очень знакомые с вопросом, но хотя бы имеющие некоторое представление, знают обычно те самые строчки Осипа Эмильевича: «Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи на сколько шагов не слышны».
П.НЕРЛЕР: На десять.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: «А где хватит на полразговорца…»
П.НЕРЛЕР: «…там помянут кремлевского горца».
Н.БОЛТЯНСКАЯ: И что? В результате этих нескольких строчек и была трагическая судьба Осипа Эмильевича?
П.НЕРЛЕР: Ну, почему же в результате именно этих десяти строчек? Вся его жизнь поэтическая и человеческая вела к этим строчкам. А уже эти строчки привели его к каким-то последующим этапам. Более того, отдадим себе отчет, эти строчки не погубили его напрямую. Эти строчки, в общем-то, понравились тому, о ком они. И Мандельштам отделался очень легко с точки зрения сталинского. Тогда не было Басманного, не знаю как его назвать, сталинско-лубянского правосудия. Он отделался достаточно легко. Он был за эти стихи после короткого следствия, его арестовали в ночь с 15 на 16 мая, а где-то 25-26 числа следствие было закончено и закончено было очень неожиданно. Потому что если мы посмотрим материалы следственного дела, то, в общем-то, Мандельштама подводили, может быть, к другому приговору – не к тому, который он получил. И его следователь Шиваров готовил обвинительное заключение и тот, кто представлял это дело, поскольку Сталина касалось это лично, в данном случае это был Ягода, руководитель ОГПУ. И, скорее всего, 25 числа где-то в первой половине дня – все это можно примерно рассчитать, если проанализировать самые разные источники – состоялся какой-то разговор, какой-то контакт между Ягодой и Сталиным по поводу этого дела. И по всей видимости, Ягода прочел или дал прочесть это стихотворение Сталину, и Сталину оно, скорее всего, понравилось, иначе концы с концами не сходятся. Что значит «понравилось» и что значит «не сходятся концы с концами»? Ну, в общем-то, за гораздо меньшую антисоветчину, антисталинщину и так дальше люди получали гораздо более суровые наказания. Хотя, 1934-й год – один из самых мягких годов с точки зрения системы наказаний, то есть 1929-й, потом 1934-й, потом уже таких мягких годов практически не было. Вот, 5 тысяч приговоров ссылкой, Мандельштам был один из них.
Ну, в общем-то, то, что в этом стихотворении, что страна пребывает в полнейшем страхе, не чует под собою страны. Люди, которые в ней живут, не чуют страны под собой, они живут в какой-то тягчайшей атмосфере страха всего и вся. По-моему, понравилось Сталину, во-первых, как политику – собственно, он этого и добивался. А во-вторых, ну, в общем-то, сильное стихотворение, сильные строчки. В общем, даже обидно и для адресата, какому грузину приятно прочесть про себя.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: «Широкая грудь осетина», да.
П.НЕРЛЕР: То есть в этом даже какое-то, то есть такое, стихотворение-пощечина. Но пощечина, ну, в общем-то, это сложный жанр, редкий жанр и Сталин оценил, насколько это сильно. Потому что лично Мандельштама он особо-то не знал. Сталин был человеком, который интересовался и литературой, и писателями.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Но давайте вот как. Вопрос первый. Многие считают, что именно это стихотворение было пусковым механизмом, но есть также версия о том, что, там, «Четвертая проза», что какие-то другие произведения Мандельштама в той же степени были виноваты в его трагической судьбе. Это один момент. Второй момент. Так, мастер или не мастер? То есть, скажем так, независимость принятия решений сталинских в этом вопросе.
П.НЕРЛЕР: «Четвертая проза», в общем-то, ни разу нигде не всплыла. То есть никаких материалов антимандельштамовских, «Четвертая проза» не всплывала, так что она осталась от Лубянки некоей незнакомой ей рукописью. То есть здесь не «Четвертая проза», здесь, скорее, стихотворение о кулаках, вот оно могло быть с точки зрения социальной, с точки зрения антипропагандной и контрпропагандной гораздо более неприятным для режима. «Четвертая проза» до режима не дошла. И, в общем-то, так и считается, что 3 стихотворения, это плюс «Квартира», являлись теми стихотворениями, из-за которых Мандельштам пострадал. Подчеркиваю, первая его репрессия 1934 года была мягкой. Она была гораздо более мягкой, чем можно было ожидать.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: А скажите пожалуйста, это было уже после того, как им было написано стихотворение, что-то насчет того, что как в колхоз единоличник? То есть уже начались попытки…
П.НЕРЛЕР: Нет. Нет-нет, это 1935-й год, Воронеж. Его же сначала отправили в ссылку Чердынь. Там случилось то, что случилось, Мандельштам пытался покончить собой в тюрьме, какая-то разновидность психоза у него была. Галлюцинации и прочее. Он пытался покончить собой, выбросился из окна со 2-го этажа в больнице местной. Сейчас на этом здании доска мемориальная снова восстановлена, этим летом были мандельштамовские чтения в Чердыни. Мандельштам упал на мягкую землю, он разбил руку, он, в общем, практически был цел.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: А почему?.. Казалось бы, для режима человеческая жизнь не являет собой никакой ценности. Чем, на ваш взгляд, объясняется такая относительная мягкость?
П.НЕРЛЕР: Секундочку. Почему Мандельштам это сделал? Или почему Мандельштам хотел покончить жизнь?
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Нет. Почему его всего-навсего ссылают в Чердынь? И более того, когда он пытается покончить собой… В общем, Воронеж – это что? Все-таки, смягчение истории?
П.НЕРЛЕР: Конечно! Еще какое смягчение. В это же время Клюев сидит где-то там в Западной Сибири и мечтает о Чердыни хотя бы.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Чем это объясняется?
П.НЕРЛЕР: Ну, это объясняется целым рядом обстоятельств. Значит, вот, вообще, у Мандельштама всегда что-то особенное и такое, чего ни у кого не бывает. Нет таких других случаев, когда был бы зафиксирован такой прямой донос на Мандельштама во 2-м деле, в 1937 году Павленко и Ставского, и так дальше. Здесь же уникальности были такими. Ну, вот, во-первых, Сталин принял такое волевое решение. Это немножко решение кошки против мышки, он решил поиграть с ним. Это во-первых. Во-вторых, хлопоты, которые в первый же день после ареста были начаты, в конечном счете тоже совпали с тем, что происходило в процессе следствия, а именно там Енукидзе с одной стороны и Бухарин с другой стороны после того как их об этом просили Ахматова и Пастернак, свою какую-то лепту внесли в эти хлопоты. Известно письмо Бухарина Сталину о Мандельштаме, на котором Сталин начертал, как они смели арестовать и так дальше.
Это, ведь, май-июнь 1934 года. Скоро будет Съезд писателей, да? Мандельштам, вообще, некоторыми исследователями, в частности западными, рассматривался как участник номенклатуры предписательского съезда, он фигурирует в каких-то списках и Сталин не вычеркивал его имя из этих списков. И, вот, арест и суровое наказание в этой ситуации могло произвести на писателей и на писательскую общественность, на заграницу впечатление не то, которого хотелось бы.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Павел Маркович, а скажите пожалуйста, вот тот факт, что коллеги по писательскому цеху далеко не однозначно оценивали Осипа Эмильевича, как-то сказался на попытках или непопытках помочь опальному поэту?
П.НЕРЛЕР: Сейчас мы к этому, если вы позволите, подойдем. Потому что вы же уже намекнули на звонок Сталина Пастернаку. В принципе, то, что произошло с Мандельштамом, я так, чисто метафорически называю сталинской премией за 1934 год. Сталин подарил Мандельштаму жизнь и совсем иную степень несвободы, чем ему грозила, даже если бы ему сохранил жизнь орган, куда было направлено его дело (особое совещание). Оно, в принципе, не решало вопросы жизни и смерти, оно могло дать ему 5 лет исправительно-трудовых лагерей. А получилось 3 года ссылки – даже сначала высылки, а потом ссылки. Это еще небольшие градации, но для человека существенные: в одном режиме он должен был бы отмечаться каждые 10 дней, в Чердыни, а в Воронеже ему это нужно не было, он не отмечался регулярно в соответствующей комендатуре. То есть, в принципе, чудо продолжалось.
Так вот после того как Пастернак снял трубку, вернее, после того как Сталина соединили с Пастернаком, и состоялся этот знаменитый разговор между ними.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Напомните его, пожалуйста.
П.НЕРЛЕР: Сталин позвонил Пастернаку по поводу Мандельштама. Это было прямым следствием письма Сталина Бухарину. При том, что, как бы, чудо уже, главное чудо уже произошло. Мандельштам уже был в Чердыни, уже даже решался вопрос о его переводе в какой-то другой город – они выбрали Воронеж. А, вот, следствием этого письма был звонок Сталина Пастернаку. И Сталин задавал ему такие странные вопросы: «Ну как же так? Вот, если он мой товарищ, поэт, я бы на стену лез, чтобы ему помочь». Ну, на что Пастернак ему резонно сказал: «А как же? Вот, вы же узнали. Наверное, не без того, что в этом кто-то принял какое-то участие». И Сталин его все допытывался, мастер ли Мандельштам.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Ну, Борис Леонидович не очень любил Осипа Эмильевича, да?
П.НЕРЛЕР: Это не так. Почему? У них были, ну, как бы, 2 гения разного структурного наполнения и содержания, они друг друга очень любили и поэзию друг друга очень ценили и любили. То, что они в разное время с разной интенсивностью общались и то, что у каждого из них могли быть какие-то критические стрелы в адрес другого, ни о чем не говорит. Как Пастернак бросился заступаться за Мандельштама, практически один из немногих, ну, по крайней мере, наиболее значимый, так же и Мандельштам бросился бы, если бы случилось что. Мандельштам тоже оказывался не раз в ситуациях, когда…
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Можно я задам еще более дурацкий вопрос?
П.НЕРЛЕР: Да, пожалуйста.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Что бы ни сказал Пастернак, ничего бы не изменили его слова, сказанные Сталину по телефону, конкретно по поводу Мандельштама?
П.НЕРЛЕР: Ну, если бы Пастернак подтвердил сталинскую догадку, а у него образовалась от личного прочтения. Ведь, он же не знал лично Мандельштама, Мандельштам общался с Бухариным, Мандельштам общался в какой-то момент, совершенно не зная, кем этот человек Сталину, с Ежовым. Но он не общался со Сталиным. Это не Шолохов, который переписывался с ним, встречался и вообще писал тоже очень резкие вещи совершенно в другом режиме. Это совсем другой тип общения. Он хотел для себя понять, насколько этот человек значим, весом, в этом смысле опасен, насколько он важен, в каком виде, в живом ли, в мертвом ли, в униженном ли, в поддержанном ли он был бы для него интересен. Он хотел в этом сориентироваться лично – не через каких-то своих референтов, а лично. И Пастернак этот разговор не поддержал, и очень правильно сделал, как считает Надежда Яковлевна – я с ней согласен. Пастернак предложил Сталину встретиться и поговорить о жизни и смерти. Интересная тема.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: А Сталин, прям, разбежался?
П.НЕРЛЕР: Ага, ага.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Трубочку бросил и все.
П.НЕРЛЕР: И все, да. Но чудо-то произошло. После этого же как бы переспросил Пастернак Поскребышева или кого-то из секретариата, может ли он об этом разговоре рассказывать. Ему сказали: «Можете, рассказывайте». И он начал рассказывать. Правда, там Надежда Яковлевна узнала об этом гораздо позже, чем могла бы. Ну, они были в Воронеже и так дальше. Но, во всяком случае, «Можете, рассказывайте», то есть писательская среда узнала об этом. И Сталин стал не только мужикоборцем, но и чудотворцем, да? И этого он, наверное, вольно или невольно, но хотел. Во всяком случае, это ем было в жилу, что называется.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Вон лежит макет, да? Как его назвать? Покажите его, пожалуйста.
П.НЕРЛЕР: Это называется, к сожалению, не макет, а фальшь-макет, потому что дело в том, что это обложка.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: «Слово и дело Осипа Мандельштама».
П.НЕРЛЕР: А это вот такие вот странички, еще мы не дошли до стадии макета, но книжка готова. Эта книжка «Слово и дело Осипа Мандельштама», подзаголовок: «Книга доносов, допросов и обвинительных заключений». Здесь собраны все документы с соответствующими комментариями и пояснениями, которые касаются любых видов репрессий, любых видов государственности против Осипа Эмильевича Мандельштама. А началось это отнюдь не со Сталина, не с 1934 года. Началось это с 1911 года, когда царская охранка, найдя имя Мандельштама в записной книжке одного из террористов, заинтересовалась, а кто этот, некий еврей Мандельштам? Не террорист ли он, имеет ли право на жительство в Финляндии? И где-то месяцев 5-6 они занимались выяснением этого вопроса.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Но я, все-таки, хочу вернуться к советскому периоду жизни Мандельштама.
П.НЕРЛЕР: Да-да-да. Ну, просто это существенно понимать, что у Мандельштама были сложные отношения с любыми властями, более-менее сложные.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: А как формулировалось обвинение, то, по которому он попал в Чердынь?
П.НЕРЛЕР: Антисоветский пасквиль. На следствии и в обвинительном заключении эта формулировка была найдена следователем Шиваровым. Может быть, даже Мандельштам ему помог, потому что эти допросы, которые велись на следствии, они показывают поразительную степень, что называется, сотрудничества со следствием Осипа Эмильевича.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Ну, он разговорчив был, кроме всего прочего, очень сильно, да?
П.НЕРЛЕР: Я думаю, что он был уверен в том, что вот эта искренность – она не может повредить никому, поскольку, ну, вот он такой, да? Его поведение, ну, можно было бы назвать не безупречным, потому что он довольно много имен назвал среди тех, кто слышал это стихотворение. И это могло плохо для них кончиться в другом контексте. Но в контексте этого чудесного избавления, это непосредственно ни для кого ничем худым не кончилось. Но он назвал далеко не всех, кому он читал. Вот, я, например, насчитал в общей сложности 23 или 24 человека, кому он прочел это стихотворение, И все люди, как бы, и близкие, и в то же время есть среди них и чужие. Помните у Тарковского «И стихи читал чужим»? Это достаточно правильно было почувствовано Арсением Александровичем.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: «Эту книгу мне когда-то в коридорах Госиздата».
П.НЕРЛЕР: Да. «Подарил один поэт. Книга порвана, измята и в живых поэта нет». Так вот, было названо 9, если не ошибаюсь, фамилий.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Они пострадали, эти люди?
П.НЕРЛЕР: Нет. Они потом пострадали и потом, по крайней мере, в случае Льва Гумилева. К сожалению, я не знаю дела Бориса Кузина – он тоже был арестован и я не знаю, в какой степени ему инкриминировалось знакомство с Мандельштаму. Но, вот, Гумилеву Льву инкриминировалось. Но не это было каким-то элементом обвинения против Льва Николаевича. Но, во всяком случае, это просто фигурировало в деле.
Считать, что мандельштамовский допрос привел к каким-то прямым репрессиям против этих людей, было бы неправильно. То, что с ними происходило, происходило позже совершенно по другим, по своим канонам и причинам.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: А скажите, пожалуйста, конечно, эта информация поступала по более поздним событиям. Но, ведь, когда арестовывался человек, когда он получал некое наказание от советской власти, семья тоже в какой-то степени подвергалась остракизму. Что происходило, например, с Надеждой Яковлевной, когда Осип Эмильевич попал в Чердынь?
П.НЕРЛЕР: Вот тут надо разделить, все-таки, 2 разные репрессии, 2 дела. То, что происходило по делу 1934 года, это было частью этого колоссального чуда. Ей предложили, если она хочет, поехать с мужем в ссылку. Большая привилегия. Это не предлагалось направо и налево. И, в принципе, все это время она была рядом. Ну, когда нужно было, – у нее был другой гражданский статус – она могла съездить в Москву по каким-то делам из Воронежа (он не мог). И то, что потом она разделила его судьбу в том смысле, что они оба потеряли прописку свою московскую после того как срок кончился, это уже другой вопрос, это уже особенности, ну, такого, как бы, гражданского процессуально-административного кодексоприменения. А, во всяком случае, это, безусловно, тоже было определенной репрессий административного порядка. Ну, как бы, но не содержащей в себе какую бы ни было угрозу. Но когда в 1938 году Мандельштама арестовали, это уже было другое время и уже Сталину эти кошки-мышки не нужны были. И уже Союз писателей очаровывать будущий тоже ему не нужно было. Какие писатели есть, такими он уже и довольствовался, и сталинские премии получали деньгами или еще как-то, ну, в общем, а не такого рода подарками другие люди, гораздо более близкие ему. И тогда уже Надежда Яковлевна попала в разряд угрожаемых. Она как жена врага народа, жена репрессированного и приговоренного особым совещанием к определенному сроку, 5 лет исправительно-трудовых лагерей Колымы, за ней тоже приходили в Струнино. Она стала, во-первых, стопятницей, она не могла жить.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: В 105 крупнейших городах?
П.НЕРЛЕР: Нет-нет-нет, в 100-верстной зоне. Она не могла жить в Москве… Ну да, это другое, это минус что-то. Были разные административные режимы, и у Мандельштама был режим, по-моему, минус 11 – на память сейчас не помню.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Минус 12, если верить интернету.
П.НЕРЛЕР: Может быть, минус 12. Ну, не помню на память, они были разные. Во всяком случае, в каких-то таких городах, Москва, Петербург, крупнейшие города и курортные центры – в них находиться нежелательно. А стопятница – это 105-километровые зоны от этих крупных городов, в них тоже нельзя было им селиться. И Надежда Яковлевна устроилась на ткацкую фабрику в Струнино, и вот там за ней приходили для того, чтобы ее арестовать. Приходили и на квартиру в Тверь, в Калинин, искали архив Мандельштама. Надежда Яковлевна там была за несколько дней до этого и увезла благополучно архив к этим замечательным их хозяевам, у которых они жили в Калинине. То есть, как бы, по следам ее власть шла. Но шла не очень настойчиво. Ее не стали вот так вот разыскивать. Она в самых разных местах находилась в то время, когда Мандельштам был на Дальнем Востоке, в тюрьме, а потом на Дальнем Востоке под Владивостоком на Второй речке, где он начал отбывать наказание. Она была и в Шортанды у Кузина, она и была в Малом Ярославце. Ну, в самых разных местах. И, в общем, этой судьбы она избежала.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Давайте мы сейчас прервемся. Я напомню, что наш гость сегодня – Павел Нерлер, известный нам также как Павел Полян, но сегодня он выступает в этой своей ипостаси, поскольку говорим мы о Сталине и Мандельштаме. Продолжим через пару минут.
НОВОСТИ
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Мы продолжаем разговор о судьбе Осипа Эмильевича Мандельштама. Наш собеседник – мандельштамовед, литератор-филолог Павел Нерлер. Итак, небывалое вегетарианство. Или, точнее, еще просто не начался период каннибализма, потому что Надежда Яковлевна – кому она там письмо пишет? Берии?
П.НЕРЛЕР: Да. Но, как бы, тут надо четко разделять 2 разных дела, 2 разных репрессии, 1934-й год и 1938-й год.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: То есть это какой год, когда она пишет письмо Берии?
П.НЕРЛЕР: В общем-то, Мандельштаму в какой-то степени повезло и в 1938-м году, потому что это был год, когда уровень расстрельности репрессий составлял почти 60%. Мандельштама не расстреляли, Мандельштаму дали 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Просто для него, в его физическом состоянии с его уровнем, низким, слабым, никуда негодным здоровьем, это все равно был смертный приговор.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Но он ждал расстрела и по первому своему аресту, так?
П.НЕРЛЕР: Ну, это было его субъективное впечатление от тюремных каких-то своих впечатлений. Потому что он же не знал, что идет там какая-то в Кремле дискуссия по его поводу. Он общался только со следователем, это общение, видимо, не давало ему каких-то больших надежд.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: А скажите, пожалуйста, вот, существует такая версия, что, дескать, убить человека невелика доблесть. А вся судьба Мандельштама сделала крутой поворот после того как был написан все тот же «Единоличник», потом еще там были какие-то стишки типа «Я буду жить, дыша и большевея», что-то такое было?
П.НЕРЛЕР: Да конечно! Мандельштам писал в 1935-м.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: То есть надо было заставить его делать?..
П.НЕРЛЕР: Не то, чтобы прямо, вот, как бы, Мандельштам из благодарности за эту сталинскую премию начал писать стихи, которые могли бы Сталину понравиться. Он да, он, действительно, попробовал такие стихи написать – это Ода Сталину, да? И он долго к этому шел. У Мандельштама был свой к этому маршрут. Потому что он хотел понять свое время, он хотел понять свое отщепенство, он хотел понять свое попутничество и переосмыслить его и постараться преодолеть это. Он хотел оказаться в ногу со временем — в нем все время борется одно с другим.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Подождите. Он хотел оказаться в ногу со временем или он хотел спасти?.. Он думал, что он изменит отношение к себе?
П.НЕРЛЕР: Это связанные вещи для него. Но в данном случае он искал некоторого резонанса со своей эпохой. Потому что жить поперек шерсти этого времени очень тяжело. И чувство внутренней правоты, которая его постоянно сопровождала, его хотелось как-то подстроить или настроить на то, что созвучно эпохе. И он делал много разных попыток. Это не только в Воронеже – он в 1929-30-м работал в «Московском Комсомольце» и занимался воспитанием поэтической молодежи. А потом в комсомольской ячейке и так дальше. Он написал об этих, так сказать, «учить щебетать палачей», да?
Поэтому все время эти попытки потом оканчивались срывами. Он пытался написать очерк о колхозной деревне, о совхозе, у него тоже ничего не получилось. Он пытался перестать писать. Вообще стихи о немецкой речи – это стихи об отказе от употребления русского языка в поэзии. Он хотел уйти из этой русской речи. И этого не получилось. Он искренне пытался или через Гете, или через Данте сделать какой-то побег из своего родного языка, на котором он писал такие гениальные стихи. Он все это пытался и у него это не получалось.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Слабым человеком был Осип Эмильевич?
П.НЕРЛЕР: Нет, он не был слабым человеком. Он был человеком хрупким, но не слабым. Он был даже очень сильным человеком. Среди его поступков было несколько таких мужественных, которые трудно ожидать вообще от кого бы то ни было. Попробуйте-ка вырвать у человека, похваляющегося ордерами и судьбами, которые за этими ордерами стоят, и что он может их завтра расстрелять, попробуйте-ка вырвать эти бумаги и разорвать, да? Так сделал Мандельштам, у Блюмкина вырвав несколько – или один, или я не знаю, это по-разному разные свидетели говорят. После чего он сам страшно боялся Блюмкина и прятался.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: А дальше легенда идет, что Блюмкин-таки знал, кто такой Мандельштам, читал его стихи?
П.НЕРЛЕР: Какая же легенда? Блюмкин, конечно, знал. Блюмкин был как, впрочем, и Сталин, такой, начинающий поэт и Мандельштам как литератор первого ряда, как поэт первого ряда, был, безусловно, ему знаком как поэт.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Давайте мы с вами вернемся непосредственно к судьбе, к хронологии событий в судьбе Осипа Эмильевича. Итак, Воронеж. Какой год?
П.НЕРЛЕР: Мандельштам получил, как бы, определение отправляться в Чердынь 27 или 28 мая. В Чердынь он приехал – это был достаточно долгий и сложный путь – в начале июня, в первых числах июня. И уже, там, числа 14-15 его дело было пересмотрено после того как он выбросился из окна, и он отправился через Москву в Воронеж. То есть в Воронеже он оказался где-то в 20-х числах июня 1934 года.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Что с ним происходит в Воронеже?
П.НЕРЛЕР: В Воронеже с ним происходит следующее. В Воронеже поначалу чудо продолжалось, и, как бы, вслед за Мандельштамом параллельно с тем, пока Мандельштам ехал в Воронеж, шла переписка между отделом пропаганды и агитации ЦК и соответствующим обкомовским отделом центрально-черноземной области между Генкиным и между… не помню этих имен. Ну, могу вспомнить.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Ну, хорошо, тогда… Может быть, придет еще.
П.НЕРЛЕР: Ну, неважно, да. В общем, в Воронеже был дан сигнал, что Мандельштаму надо помогать. И Мандельштаму поначалу помогали. Мандельштам, будучи ссыльным, имел довольно-таки много возможностей заработать самостоятельно. Он существовал какое-то время на заработки… Он был завлитом в театре, он писал очерки, рецензии для журнала «Подъем», он вел консультацию для молодых литераторов при газете «Коммуна».
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Ничего себе политический ссыльный.
П.НЕРЛЕР: Ну, в общем, у политических ссыльных разные были траектории. Были, как бы, нужные и ненужные, да? Это одно дело, действительно, та страшная судьба, ситуация, в которой оказался Клюев. И многие ссыльные оказывались совершенно в других, как, допустим, Мандельштам вначале, условиях. Он сотрудничал с радио, он делал радиопередачи о Гете, о Глюке и многие другие. Но, в общем, всего этого у него не могло бы в Чердыни. Останься он в Чердыни, я, вот, даже видел сейчас, будучи в Чердыни, смотря чердынскую прессу, там наклевывалась вакансия в одной из двух чердынских газеток, которые выходили 2 или 3 раза в месяц. Вакансия корректора. Это, может быть, был тот потолок, на который Мандельштам мог бы претендовать максимум в Чердыни, если бы он там остался. В Воронеже, замечательном губернском областном центре ситуация была другая. И там были люди, и там были писатели, и с кем-то из них Мандельштам вполне… Да! И там были другие ссыльные, с которыми Мандельштаму было просто интересно. Там был Павел Калецкий, там был Айч, там был Стефен – те самые, имена которых рядом с его именем потом в 1937-м году, когда все перевернется, окажутся в качестве правотроцкистов и так дальше (когда началась травля уже этих людей и Мандельштама вместе с ними).
Это было его обществом. Там был Рудаков, Сергей Борисович Рудаков, ученик Тынянова, начинающий филолог, литератор, и сам пробовавший себя в стихосложении, с которым очень плотно общался Мандельштам в это время. И Рудаков в письмах жене очень много оставил свидетельств об этом. В общем, это была совсем не пустая, совсем не…
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Невыброшенная жизнь.
П.НЕРЛЕР: Невыброшенная жизнь. Главное доказательство даже не все это, не эти свидетельства биографические, главное доказательство – стихи, эти 3 воронежских тетради, наполненные поэзией такого прозрачного и сильного звучания как у Мандельштама никогда раньше не было. Это светлые стихи. И то, что среди них есть стихи, которые при анализе вполне позволяют себя интерпретировать как попытки поиска компромисса с эпохой или конформизма, это не отменяет того поэтического порыва.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Уровня.
П.НЕРЛЕР: И уровня, которым…
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Ну, давайте ко 2-му делу. Времени у нас уже не так много остается.
П.НЕРЛЕР: Да, ко 2-му делу. Мандельштама могли запросто осудить уже в Воронеже. На него материал уже копился. Те статьи, которые начались, начиная с сентября 1936 года, его имя начали уже полоскать тогда. И, в общем, я в этой книжке проанализировал воронежскую ситуацию, и с людьми, которые были очень близко к Мандельштаму, и его покровители в партийных кругах, происходили вещи, которые с Мандельштамом не произошли. Они начали гибнуть уже в 1937 году пачками.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: А он знал об этом?
П.НЕРЛЕР: Да, конечно. Конечно. Это громкие люди, известные люди. Варейкис, Елоза. Люди, с которыми он общался, которые оказывались в этот момент неугодными новой ежовской метле.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Ну, собственно, Бухарин, который за него, так сказать, как вы говорите, заступался, он тоже.
П.НЕРЛЕР: Да-да, конечно. В марте 1937 года это уже бухаринская судьба решалась и была на волоске, и волосок этот был перерезан. То есть вот это странный оксюморон, правотроцкизм, да? Троцкизм – очень левое, правое – это бухаринское вот это вот. Ну, в общем, все, что антисталинское, антипартийное, в этом слове как-то должно было бы сочетаться. Хотя, очень чудно сочетается. И, вот, Мандельштама постоянно начали обвинять в правотроцкизме, вплоть до того, что даже какой-то школьник, если не ошибаюсь, в Савелове, ну, как бы, назвал его «ушастым троцкистом».
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Бедный Осип Эмильевич.
П.НЕРЛЕР: Да. А его поразили уши Мандельштамовские – действительно, очень торчащие, очень выразительные. Вот, смотрите, вот Мандельштам в 1934 году.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Покажите.
П.НЕРЛЕР: Мандельштам в 1934 году. Вот это обложка книги «Осип Мандельштам и Урал» — здесь фотография из следственного дела 1934 года. Посмотрите, как сидит этот человек. Вы видели такие фотографии из следственных дел, чтобы человек вот так сидел и вообще как-то с некоторым, чуть ли не надменностью определенной? Вот фотография 1938 года. Это уже дело 1938 года, тут уже не до этой надменности. Кстати, это, вот, пальто желтой кожи Эренбурговское, в котором он поехал на Дальний Восток, в котором его арестовали и в котором его увезли. Это 2 разных, в общем-то, человека, если хотите.
И вот то, что Мандельштама не арестовали в Воронеже – первое везение, он избежал этой судьбы. И я уверен, что еще 2-3 недели задержись он после середины мая в Воронеже, то эти круги сошлись бы. Потому что то, что он числился за Москвой, его спасло. Люди из его близкого окружения, если они уже к этому времени не вернулись из своих ссылок, то они оказывались вновь репрессированными.
В это же самое время сгущались тучи над Мандельштамом в Ленинграде. Там вовсю раскручивалось дело о заговоре писателей против Сталина, заговоре под руководством, если память не изменяет, Тихонова и Эренбурга. Ни Тихонов, ни Эренбург не пострадали, но по этому делу погибли, были арестованы десятки писателей, в том числе очень близкие Мандельштаму люди. Мандельштам фигурирует в их допросах, эти дела частично сейчас известны. Мандельштам уже был включен в список людей, которые должны были по этому делу стать фигурантами первого ряда. Но этого не произошло, потому что он стал фигурантом собственного дела – не заговора, а собственного дела, которое был инспирировано специально индивидуальным. Правда, второго такого случая… Вот, чтобы так писать, как начальство расстаралось в своих доносах, в общем-то, практикой это не было. А тут, пожалуйста: Мандельштам, который требовал признания, который надоедал писательскому начальству, в данном случае имея в виду Ставского. Который реагировал на каждое обвинение против себя, на каждый элемент травли против себя – он отвечал какими-то бешеными письмами. В этом был весь его характер, то же происходило в 1929 году в ситуации травли Мандельштама со стороны Заславского. И вообще вся эта история с Уленшпигелем – это было какое-то мультипликаторное, многократно увеличивавшееся, ну, как бы масштаб события, сила, которая вела Мандельштама. В результате мы имеем «Четвертую прозу», в результате мы имеем стихи Мандельштама, в 1930-м году они вернулись.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: 2-й арест Осипа Эмильевича.
П.НЕРЛЕР: 2-й арест Осипа Эмильевича произошел в западне. И таких случаев тоже не так много. Я искал, а не было ли какой-то еще похожей практики? И почти ничего не нашел. Какие-то отдаленно напоминающие эту ситуацию. То есть Мандельштама заманили в западню в дом отдыха «Саматиха», дали ему путевки в зимнее время на 2 месяца. А сами в это время писали товарищу Ежову писатели, те, которые это сделали, Ставский и отзыв ему написал Павленко, который…
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Который «Счастье»?
П.НЕРЛЕР: Ну, который много чего. И «Шамиль», и много всего. Павел Андреевич Павленко – замечательная такая сволочь. То есть политическое письмо – просит помочь решить вопрос с Мандельштамом и литературная справка.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: То есть все лапку подняли?
П.НЕРЛЕР: Все лапку подняли. И пока этот вопрос не решался, поскольку, все-таки, Сталин в 1934 году играл определенную роль и, как бы, все-таки, наверное, с ним проконсультировались и он сказал «Делайте, что хотите», судя по всему. На это ушло какое-то время. И Мандельштам сидел и, в общем, думал, что он отдыхает. А на самом деле он сидел в западне.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: И ждал ареста.
П.НЕРЛЕР: Да, и оказалось, что это самая настоящая западня, и в западне его арестовали.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Павел, скажите пожалуйста, а, вот, истории, многочисленные апокрифические легенды о том, что уже после смерти Мандельштама его видели в качестве доходяги в самых разных лагерях и назывались, по-моему, лагеря всех направлений. На чем это базируется?
П.НЕРЛЕР: А на том, что Мандельштам – фигура, в общем, весьма и весьма мифологическая. И это, как бы, помните, есть песня Алешковского, «Фартовый парень Оська Мандельштам»? Нет, все эти истории не выдерживают критики, поскольку, в общем, его физическая смерть задокументирована в высокой степени достоверно. Есть тюремно-лагерное дело Мандельштама, которое хранится в Магадане. И там есть и протокол отождествления отпечатков пальцев. Все эти документы, вот эти мандельштамовские отпечатки пальцев, все эти документы в этой книжке, все до одного представлены.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: То есть с вашей точки зрения, вот в этой дате 27 декабря 1938 года?..
П.НЕРЛЕР: Нет оснований сомневаться. 12 часов 30 минут была зафиксирована смерть врачом Кресановым. Может быть, сама смерть наступила несколько раньше. Просто в тот момент Кресанов это запротоколировал, и все остальные действия были сделаны, ну, кроме разве что патологоанатомии, все были сделаны по правилам, и каких бы то ни было оснований думать о том, что что-то здесь такое фальсифицированное, нет.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: А что в это время, например, происходит с Надеждой Яковлевной?
П.НЕРЛЕР: С Надеждой Яковлевной происходит в это время следующее. Непосредственно когда Мандельштам умер, есть ее письмо от октября. Во-первых, Мандельштам написал, одно письмо пришло его брату и ей через него. Она написала ему письмо в октябре, которого он, конечно, не получил. Сама она в это время была у Кузина в Шортандах, определенную часть времени провела там. Когда стало известно, пришла весь о смерти Мандельштама, она пришла в один день с объявлением о наградах писателей – это, кажется, 6-е февраля или еще что-то в этом духе, 1939 года. И с этой вестью она пришла, по-моему, к Катаеву в дом в Лаврушинском переулке. Она останавливалась всегда у Шкловских в этом же самом доме, у Василисы Шкловской, ее ближайшей подруги.
И тогда как раз Фадеев пролил слезу, какого писателя погубили. Хотя, Фадеев как раз был из тех, кто понимал, что происходит с Мандельштамом, что делает с ним Ставский, судя по ее же воспоминаниям. Так вот, Надежда Яковлевна после этого набралась не то, чтобы смелости и дерзости. Вот это ее письмо Берии, которое примерно в это время, в марте 1939 года написано, где она пишет: «За что арестовали моего мужа? Нет ли тут каких-то интриг и козней? Я была рядом с ним и ничего такого антисоветского он не делал. А если делал, то почему не арестовали и меня?» — спрашивает она. «Потому что я была все время рядом. Почему?» В общем, это было время бериевской оттепели, как раз Берия сменил Ежова и на реверсе казалось, что Берия – человек, несущий какую-то мягкость и законность, сотни тысяч человек были возвращены из лагерей. Потом они туда, может быть, снова попали, но, во всяком случае, это как раз пало на этот период бериевской оттепели. И поэтому никаких для нее лично сверхнеприятных последствий в 1939 году и в 1940-м не произошло. Она переехала в Калинин, начала там работать. Она раскрашивала игрушки, она преподавала в школе. Начались ее тяжелые трудовые будни, потом война, эвакуация, она оказывается сначала в Муйнаке, в очень тяжелом климатическом месте со своей старушкой-матерью. И потом ее брат перетаскивает ее в Ташкент, и там она с Ахматовой и с некоторыми другими вместе перекантовалась вот эту часть военного времени.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: А скажите пожалуйста, в тот момент, когда вы, как выразились, Фадеев пролил слезу со словами «Какого писателя потеряли».
П.НЕРЛЕР: «Погубили».
Н.БОЛТЯНСКАЯ: «Погубили». Вся информация, которая появилась, она была только от Надежды Яковлевны, да?
П.НЕРЛЕР: Ну, собственно, весть эта была. Она тут же разнеслась по сарафанному радио.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: А ей отправили свидетельство о смерти как положено?
П.НЕРЛЕР: Да, она получила справку. Или это было возвращение посылки за смертью адресата. Да, скорее всего так, потому что официальная справка о смерти Мандельштама была получена ею несколько позже. И братом, и ею. Да, это был, так сказать, почтовый талончик, что посылка вернулась за смерть адресата. Ну, собственно, вот вам, пожалуйста.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: А скажите, пожалуйста, вот вы в своих материалах очень много говорите о людях, которые шли по тому же делу. Вот, уже 1938-й год. И я смотрела ваш комментарий, там внизу везде стоит «Расстрелян», «Расстрелян», «Расстрелян» такого-то числа. Вот, Буквально пару слов. У нас всего 2 минуты осталось.
П.НЕРЛЕР: А это не то же дело. Вы, наверное, имеете в виду Эшелонный список?
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Да.
П.НЕРЛЕР: Судьбы тех, кто был у Мандельштама в его эшелоне.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Да.
П.НЕРЛЕР: Это не люди, которые шли по его делу. У него было индивидуальное дело, у них были другие дела – их судьба свела в эшелоне, да? Вот этот эшелон, вот эти эшелонные списки – они сами по себе документ потрясающий, потому что это вся страна. Это и учителя, это колхозники, это кто угодно. Абсолютно все. Слесари-фрезеровщики, писатели, дипломаты. И у каждого из них были свои или групповые, или индивидуальные дела. Многие из них были расстреляны. Действительно, анализ последующих каких-то баз данных…
Н.БОЛТЯНСКАЯ: То есть сами по себе, а просто эшелоном как-то?..
П.НЕРЛЕР: Да. Это и есть гурьбою, гуртом, то, что Мандельштам потом написал в своем стихотворении «Стихов о неизвестном солдате» с гурьбой, гуртом» — это вот это и есть гурьба и гурт. Это, вот, этот эшелон, этот лагерь. И социальный портрет репрессированного советского человека – это просто поразительный этот список. И то, что они все были вместе, кто-то по дороге уже умер, кто-то еще как-то. Он попал в отсев, он не был способен работать на Колыме.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: И тем не менее, мифологичность самого Осипа Эмильевича, все-таки, приводила к тому, что были люди, которые клялись и божились, что позже они видели в разных лагерях Мандельштама?
П.НЕРЛЕР: Да. Кто-то видел, кто-то рассказывал. Да, это миф.
Н.БОЛТЯНСКАЯ: Истекает, к сожалению, наше время. Я хочу напомнить, что наш собеседник сегодня – Павел Нерлер, также известный как Павел Полян, но несколько в другом качестве. Говорили мы сегодня о судьбе поэта Осипа Эмильевича Мандельштама. Цикл передач «Именем Сталина» совместно с издательством «Российская Политическая Энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я благодарю Павла. А я, ведущая программы Нателла Болтянская прощаюсь.
Осип Мандельштам: дорога к смерти и бессмертию
Справка «МК»
<p>В сентябре 1929-го — в тот самый год, когда газета «Московский комсомолец» получила свое историческое название (ранее, с 1919 года, «Юный коммунар», «Юношеская правда», «Молодой ленинец»), — у редакции появился новый сотрудник — Осип Мандельштам. Ему помог устроиться в издание Николай Бухарин. Поэт работал заведующим литературно-художественного отдела, вел еженедельную «Литературную страницу». Мандельштам проработал в «МК» вплоть до закрытия издания в 1930-м году. В 1938-м один из самых значительных и сложных поэтов ХХ века Осип Мандельштам скончался в пересыльном лагере, не доехав до места заключения.</p>О последних годах жизни Осипа Мандельштама и его наследие «МК» беседует с исследователем творчества поэта, руководителем Мандельштамовского общества Павлом Нерлером.
— Павел Маркович, давайте вернемся в прошлое — в 1934 год. Осип Мандельштам читает узкому кругу друзей стихотворение «Кремлевский горец», в том числе Пастернаку, который называет эту эпиграмму на Сталина «актом самоубийства» и заклинает больше никому ее не показывать… Все-таки кто-то доносит на поэта и его арестовывают. Известно ли кто донес на Осипа Мандельштама?
— Доносчик неизвестен, не будем спекулировать на эту тему. Пастернак — один из 30 человек, которым Мандельштам читал стихи о Сталине. Пытаться угадать по этому списку, кто донес, занятие неинтересное. А вот кто донес в 1938 году, мы знаем – это был Ставский, который обратился непосредственно к Ежову с просьбой «решить вопрос о Мандельштаме», к письму было приложено экспертное заключение Павленко. Именно эти двое людей несут ответственность за гибель Мандельштама, 75-летие которой мы сейчас вынуждены отмечать в тяжелое декабрьское время.
— Решающую роль в судьбе поэта сыграло именно это стихотворение или не только в нем дело?
— Безусловно, эта эпиграмма фигурирует в делах, протоколах допросов. Но Мандельштам одновременно был и фигурантом другого дела, которое разворачивалось в Ленинграде и по которому расстреляли Лившица и арестовали Заболоцкого. Но Мандельштам там был лишь фигурантом, а вообще им занималась Москва.
— Сталин ведь читал эту эпиграмму?
— Не сомневаюсь, что он ее читал. Также я предполагаю – это уже гипотеза – что стихи ему понравились и польстили. То впечатление, которое Сталин производил на подвластные ему города и веси, тот страх, которым он смог стреножить своих подданных – вся эта атмосфера была ему только лестна, собственно, он этого и добивался. Он мог только мечтать о таком подтверждении, как эта эпиграмма. С моей точки зрения, это было ему отнюдь не оскорбительно, а именно лестно, потому что в стихах он представал как властитель, тиран, а именно к этому эффекту он и стремился.
— В 1934-м году Осип Мандельштам отправляется в первую ссылку — сначала в Чердынь, затем в Воронеж. В 1937-м он возвращается в Москву. Освобождения удалось добиться усилиями его супруги Надежды Яковлевны и друзей-писателей?
— Это произошло усилиями тех, кто хлопотал. И это были довольно сложные цепочки. Ахматова пошла в одни кабинеты, Пастернак — в другие. Ахматова ходила к Ломинадзе, а Пастернак пошел к Бухарину – скорее всего, сработала именно эта связка. Бухарин писал Сталину о Мандельштаме. И после этого раздался звонок в квартире Пастернака – звонил Сталин и разговаривал с ним о Мандельштаме. Так что здесь сыграло то, что можно было бы назвать гражданским обществом, неравнодушие писательской среды. А то, что Сталин принял такое решения, которое мы можем рассматривать как достаточно благоволящее к Мандельштаму, сравнительно нежесткое – это следствие и этих усилий, и того реального эффекта, которого Сталин добился своим звонком. Ведь тем самым он совершил некое чудо, слух о котором распространился быстро. Это был май, готовился первый писательский съезд, и Сталин хотел выглядеть неплохо. И в данном свете Мандельштам польстил ему эпиграммой, и это было нетрудно. Сохранился автограф Сталина на соответствующем письме Бухарина, где написано примерно следующее: «как они смели арестовать Мандельштама!». Да, но кто такие эти «они»!
— Почему же пошла «вторая волна» репрессий в отношении Мандельштама?
Смотрите видео по темеОсип Мандельштам читает свои стихи
— Хватит, поиграли в кошки-мышки – и хорош, сколько же можно! И так три года он неплохо жил на свою «сталинскую премию», хватит. К Ежову обратились Ставский с Павленко, но Ежов около месяца не давал четкой реакции. Думаю, он все это как-то вентилировал, может быть, даже и не с самим Сталиным. Но во всяком случае, это было особенное дело, потому что роль Сталина в судьбе Мандельштама по первому делу была известна тем, кто принимал следующее решение. И без санкции Сталина никакое решение было невозможным, а оно было таким. Время было такое. Излет большого террора. Мандельштаму в каком-то смысле повезло, что эта волна не накрыла его летом 1937 года – тогда он мог запросто попасть в расстрельные списки. А так ему дали 5 лет трудовых лагерей – минимум, который давали в то время. Другое дело, что для него это было равносильно смерти, учитывая его физическое и душевное состояние. Он прожил всего 11 недель в том пересыльном лагере, куда попал.
— Какова на самом деле причина смерти поэта? Тиф, сердце, общее истощение — известен ли исследователям диагноз?
— На самом деле, источник один, и он не вызывает сомнений – официальные документы: свидетельство о смерти, протоколы дактилоскописта. Анализ тех свидетельств о гибели Мандельштама, которые сохранились, не говорит в пользу того, что это был не тиф. Да, в лагере был тиф, был карантин, и Мандельштама забирали в больницу, но тифа у него не нашли. Этому свидетелями были два-три человека – довольно много для такой ситуации. Нет необходимости так уж сильно оспаривать документы лагерных медиков. Такой искажающей страсти у них не было и не могло быть. Смертность была высокая, и не было ни смысла, ни возможности идти на фальсификацию документов о смерти. Вот — цитирую акт о смерти, врач Кресанов плюс дежурный медфельдшер. «Причина смерти: паралич сердца, артериальный склероз. Труп дактилоскопирован 27.12.1938». Тогда была полоса массовой смертности, и во время голода могли приписывать другие причины смерти. Но тогда, в отличие от ситуации с голодомором, не было в этом никакой практической необходимости. Даже документы, подтверждающие смерть, выдавались не автоматически, а только по запросу родственников. Надежда Яковлевна такой запрос послала, и почти через полтора года документы пришли ей на руки. Это достоверные сведения.
— Верной спутнице поэта Надежде Яковлевне выпала сложная судьба. Это обычная участь интеллигенции в то страшное время, или ей пришлось тяжелее, чем другим близким репрессированных писателей? Действительно ли она хранила рукописи Мандельштама в ботинках?
— Хранила… Но не в тех, в которых ходила. Это еще было даже и при жизни Мандельштама. После его смерти она счастливо избежала участи жены врага народа, по некоторым признакам ее хотели арестовать еще там, где она работала. Она быстро взяла расчет и бежала. И в Калинине, где они жили, туда тоже приходили с обыском. Она не выделялась, не высовывалась в то время. В Калинине были и другие ссыльные – достаточно далеко и от Москвы, и от Ленинграда. Неправильно пытаться сравнивать тяготы, это очень тяжелая жизнь для членов семей репрессированных – неважно, поэт, писатель или простой слесарь или учитель. Это не было привилегией творческой интеллигенции, арестам и репрессиям подвергались абсолютно все слои советского общества. И в этом была какая-то определенная логика и мысль. Но если посмотреть список мандельшамовского эшелона – 1770 человек, это была вся страна, весь социальный спектр. Надежда Яковлевна сохранила в памяти то, что осталось от мандельштамовского архива к моменту его смерти. Он пережил много злоключений, но существенная его часть все же сохранилась. Кроме того, после его смерти архив пополнялся благодаря друзьям Мандельштама, у которых хранились какие-то его рукописи, книги с автографами, которых у нее не было. И постепенно у нее собиралось то, что мы сейчас называем архивом Мандельштама, и то, что с 1976 года хранится в Принстоне по ее воле и с ее согласия.
— Слава о Мандельштаме разошлась по всему Союзу, хотя большими тиражами его стихи начали издавать только во время перестройки. Как можно было прочитать Мандельштама в то время? Где его брали?
— Дело в том, что даже те книги, которые выходили до перестройки – всего-то две: «Разговор о Данте» и тоненький томик в большой серии «Библиотека поэта» — можно было взять в библиотеках. А где взять стихи, которые выходили в 30-х годах? Конечно, это был самиздат! Более того, Мандельштам – это фирменный знак самиздата, и наоборот, они неразрывно связаны. Его самиздатные тиражи, безусловно, сопоставимы с теми, что были, когда его начали печатать.
— Как сейчас обстоят дела с наследием Мандельштама? Надежда Яковлевна передала архив в Принстон. Это не создает преград для издателей?
— Эксклюзивных прав на мандельштамовские тексты ни у кого нет. Они никому не принадлежат, поэтому его издание свободно и зависит уже от добросовестности подготовителей конкретных книг, от их профессионализма и качества. Книги начали выходить с конца 80-х, и выходят достаточно регулярно, в том числе, и критические издания. Работа идет, есть массовые издания – хуже или лучше. И есть серьезные издания. Слава богу, в правовом поле вокруг Мандельштама нет этой мины в виде особых копирайтов. Правда, иногда люди все же злоупотребляют. Вот, в «АСТе» вышла книга Надежды Яковлевны «Мандельштам. Воспоминания», которая неожиданно оказалась под названием «Мой муж Осип Мандельштам», хотя такого названия никогда не было, и морального право на такого рода отсебятину у издательства нет, дурно и печально, что они так сделали. Но при этом они практически ничего не нарушили…
— Если говорить о Мандельштаме сегодня, о его влиянии на современную литературу, то каково оно?
— У него много последователей. В Мандельштамовском обществе мы собираем стихи, посвященные ему – это сотни стихотворений, написанных как очень известными авторами, так и совершенно неизвестными. Влияние Мандельштама испытывала на себе вся русская поэзия ХХ века, соприкасавшаяся с его творчеством. Он сам писал Тынянову, что его стихи сливаются с русской поэзией, кое-что изменив в ее структуре и составе. И сила чудесности его поэзии, безусловно, ощутима – особенно в лучших представителей поэтического цеха русской литературы. Некоторые считают это недостатком и борются с этим, некоторые – наоборот, видят в этом следование традициям и преемственность. Мне практически не доводилось встречать людей, за редкими исключениями, абсолютно не принимающих Мандельштама, отрицающих его волшебный поэтический дар, оспаривающих его значение. С тем, что это великий поэт, согласны практически все, и, скорее, можно видеть некоторую драку за то, чтобы написать имя Мандельштама на своем знамени. Понимая то поэтическое качества, которое являет собой его поэзия, его охотно признают великим и русским, даже несмотря на то, что он еврей. И даже с трудом, но находят аргументы в пользу того, каким великим русским он был. А вообще, он европеец по мироощущению, конфессиональный аспект здесь не так важен. Он конвертировался в методисты исключительно из прагматических соображений, чтобы иметь возможность учиться в Санкт-Петербургском университете. У евреев же была особая черта оседлости в царской России. Вне черты оседлости имели право проживать только определенные категории лиц еврейской национальности – в частности, купцы, каковым был отец Мандельштама, а также образованные люди, окончившие университет. Без этого по закону он должен был бы покинуть Петроград и жить где-то на западе России.
— На конференции в Еврейском музее обсуждались вопросы перевода произведений Мандельштама на такие языки, как, например, японский. Насколько велика география распространение поэзии Осипа Мандельштама и насколько сложен он для перевода?
— Она очень широка. Мы это знаем, потому что искали соответствующие статьи и их авторов о переводе Мандельштама на тот или иной язык. Мы готовим энциклопедию, и такого рода статьи нам необходимы. Языки, на которые он переведен, — практически все европейские, плюс основные дальневосточные – корейский, японский, китайский. Также иврит, идиш. Вот на арабском мы пока не нашли, но допускаю, что они есть. Могу сказать, что особенно близок Мандельштам был польскому читателю, там он чтился не меньше, а может быть, в определенный исторический момент, и больше, чем в Союзе. К тому же, он родился в Варшаве. Сейчас ставится не так уж мало спектаклей по произведениям Мандельштама, а в Польше они ставились еще в 70-е годы. Там все это произошло гораздо раньше, чем стало обыденным делом у нас. Как предмет некоторого сравнительного анализа это особенно интересно, потому что в каждой языковой культуре есть особенности восприятия Мандельштама.
Мария Москвичева
«Кремлевский горец»
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.
Ноябрь 1933
В плену у тирана: Пастернак и Мандельштам
В творчестве любимых всеми поэтов и писателей XX века встречаются вещи, которые хочется поскорее пролистнуть. Верноподданнические стихи, посвящённые Иосифу Сталину, так не вяжутся со всем остальным, что они написали, и с их тяжёлой, часто трагической судьбой. «Стол» вспоминает о том, как ломались лучшие
Отношение Сталина к Пастернаку – загадка. И сам Пастернак, и его биографы не могли однозначно ответить на вопрос: как удалось ему уцелеть в мясорубке 1930-х? Да, он не был бескомпромиссным оппозиционером, которого нужно было бы немедля убрать. Но не был он и верным слугой режима, чтобы иметь надёжный иммунитет. Хотя у кого этот иммунитет был, если даже «ежовых» казнили как заговорщиков?
В его жизни достаточно фактов, чтобы реконструировать из них двух разных, непохожих друг на друга людей. У Пастернака удивительным образом сочетались «самоуговаривание и самообман с искренностью и безусловным сохранением собственного достоинства», отмечает исследователь его творчества Наталья Иванова. Он был одинаково искренен в почитании Сталина и жалости к его жертвам.
Очарование Сталиным возникает у Пастернака не внезапно. До этого он был не менее очарован Лениным и Троцким, о чём свидетельствуют его письма и стихи.
Борис Пастернак
Первым знаковым, почти программным стихотворением, посвящённым Сталину, стало «Столетье с лишним – не вчера…». Пастернак недвусмысленно отсылает нас к пушкинским «Стансам», которые тот посвятил Николаю I. Умерив свой бунтарский пыл, остепенившийся Пушкин хвалит императора, сравнивая его с Петром I. Поэт оправдывает тем самым и его жесткость (по тем меркам!) по отношению к декабристам, и тот стиль управления страной, за который царя уже впоследствии прозвали «Николай Палкин».
В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Дальше следует «но», после которого рассказывается, каким на самом деле Николай был хорошим. Именно эту форму Пастернак выбирает для своего послания Сталину. Он не только цитирует «Стансы», но и воспроизводит их стихотворный размер.
Столетье с лишним – не вчера,
А сила прежняя в соблазне,
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.
<…>
Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненья разня:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
А дальше поэт дает тирану своё благословение на продолжение этой политики (можно ли это понять иначе?):
Итак, вперед, не трепеща
И утешаясь параллелью,
Пока ты жив, и не моща,
И о тебе не пожалели.
Мера компромисса Пастернака была, наверное, больше, чем у Ахматовой, Булгакова и Мандельштама, вместе взятых.
Невозможно себе представить Ахматову, отмечает Наталья Иванова, приглашённую Сталиным или Троцким для встречи и обмена мнениями, или в «салоне» к О.Д. Каменевой в конце 20-х, или в коллективной командировке на стройку на Урал или Магнитку, или в президиуме первого съезда союза писателей принимающей в дар портрет Сталина… А Пастернак везде был.
Но при этом оставалось несколько бастионов, которые он оборонял до конца. Например, он не подписывался под письмами, одобрявшими смертные приговоры «врагам народа». Однажды (этот рассказ Пастернака записали два посетителя его дачи, а затем в своих воспоминаниях приводит его последняя, неофициальная, жена О.В. Ивинская) от поэта требовали подписать одобрение смертного приговора по делу Якира и Тухачевского. После отказа Пастернака к нему в Переделкино приехало всё руководство Союза писателей. Кричали, запугивали – он отказался. (Впоследствии Пастернак увидел в «Правде» свою фамилию под этим письмом, протесты и опровержения не помогли.)
«Друзья и близкие уговаривали меня написать Сталину, – рассказывал Пастернак. – Как будто у нас с ним переписка. Всё-таки я послал письмо. Я писал, что вырос в семье, где очень сильны были толстовские убеждения, всосал их с молоком матери, что он может располагать моей жизнью, но себя я считаю не вправе быть судьей в жизни и смерти других людей. Я до сих пор не понимаю, почему меня тогда не арестовали!..»
Когда после смерти Сталина были открыты архивы, выяснилось, что «дело» на Пастернака было готово: он проходил соучастником вымышленной диверсионной организации работников искусства, за «создание» которой были расстреляны Мейерхольд и Бабель.
Ходили слухи (Пастернак сам об этом рассказывал), будто при докладе о документах, обосновывающих его арест, Сталин сказал: «Не трогайте этого небожителя».
Известно также, что Пастернак написал Бухарину за несколько дней до ареста, что не верит в его вину. Ещё он решительно отказался подписывать письмо, осуждавшее французского писателя за нелицеприятную книгу об СССР. «Я не читал книгу!» – настаивал он.
Смелость, однако, изменила поэту, когда в коридоре коммунальной квартиры на Волхонке-14 зазвенел телефон и в трубке он услышал голос Сталина, который стал его расспрашивать о Мандельштаме. Этот краткий разговор вошёл в историю. Пастернак сам воспроизводил его в беседах с разными людьми – и почти всегда по-разному. Поэтому до нас он дошёл во множестве версий, иногда радикально отличающихся одна от другой. Впрочем, самую суть диалога поэта со Сталиным большинство этих версий, очевидно, сохранили. А суть в том, что Пастернак жутко испугался самого факта звонка и на вопрос генсека об арестованном Осипе Мандельштаме (то было прямое или косвенное предложение замолвить за него словечко) ответил, что плохо знает его, и не стал ни о чём просить. И Сталин – в мягкой или грубой форме – устыдил поэта за малодушие.
Надо сказать, что бояться было чего. Как-то раз, гуляя по улицам, Мандельштам и Пастернак забрели на какую-то безлюдную окраину Москвы. Здесь Мандельштам остановился и прочёл своему спутнику стихотворение:
Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина,
И широкая грудь осетина.
Выслушав, Пастернак сказал: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому». Борис Леонидович отлично знал, что сесть или даже распрощаться с жизнью можно было за одно только слушание запретной литературы. И действительно, после ареста Мандельштама НКВД старательно выясняла, кому он читал своё стихотворение, и многие из слушателей были арестованы. Но не Пастернак: «небожителя» и тогда не тронули.
Иначе сложилась судьба Мандельштама.
Свою едкую эпиграмму на Сталина и его окружение он пишет в ноябре 1933 года и в порыве безрассудной храбрости читает направо и налево. Через полгода его арестовывают и отправляют в Чердынь. Вскоре, однако, после попытки самоубийства приговор смягчают и разрешают ему самостоятельно выбрать место для поселения. Происходит это не без участия самого Сталина. Откуда такая мягкость? В эти годы расстреливали вообще ни за что, а тут такой пасквиль! Считается, что Сталин мыслил стратегически, на десятилетия вперёд. Он не желал создавать биографию мученика дерзкому поэту: а вдруг это новый Пушкин, и тогда эти строки прилипнут к нему, советскому вождю, навеки да ещё и будут освящены жестокой расправой над автором?
Тогда-то Сталин и позвонил Пастернаку, чтобы понять, с кем он имеет дело (Мандельштама генсек не знал).
Осип Мандельштам
За время ссылки сначала в Чердыне, а потом в Воронеже в сознании поэта происходит переворот. Мандельштам, не поверивший в мягкость приговора, все четыре года жил в ожидании расстрела. Когда же в итоге расстрела не произошло, он, казалось бы, воспринимает это как незаслуженную милость и чувствует себя в долгу перед этой страной и большевиками, которые сохранили жизнь поэту, не принимавшему их ценности и методы. В 1935 году Мандельштам пишет знаковое в его творчестве стихотворение, где обещает ещё недавно ненавистной власти переменить свой образ мыслей и «большеветь»:
Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла.
Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь – сам-друг, –
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню всё: немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.
И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен…
Сложно судить об искренности «большевистского переворота» в душе напуганного и загнанного человека. Именно в Воронеже Мандельштам пишет свои наиболее известные впоследствии стихи – «Воронежские тетради». Он и сам, очевидно, понимал, что это вершина его творчества, и желание опубликовать этот сборник заставляет его отказаться от нерушимых прежде принципов. В 1937 году ссыльный поэт пишет уже откровенно верноподданнические стихи – оду Сталину. Кроме того, подходит к концу срок ссылки, и непонятно: он прощён и можно жить дальше или со дня на день ждать нового срока?
Жена поэта Надежда Яковлевна вспоминает, что оду вождю он писал совсем не так, как другие свои стихотворения. Обыкновенно он сочинял в уме, шевеля губами и расхаживая, и только под самый конец брал карандаш и записывал или же диктовал, пишет она в своих воспоминаниях. На этот раз он сел за стол, разложил бумагу, карандаши и стал сочинять. Это его сочинение вышло очень непохожим на всё то, что он писал прежде.
Когда б я уголь взял для высшей похвалы –
Для радости рисунка непреложной, –
Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно, и тревожно.
Чтоб настоящее в чертах отозвалось,
В искусстве с дерзостью гранича,
Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,
Ста сорока народов чтя обычай.
<…>
И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
Какого – не скажу, то выраженье, близясь
К которому, к нему, – вдруг узнаешь отца
И задыхаешься, почуяв мира близость.
И я хочу благодарить холмы,
Что эту кость и эту кисть развили:
Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.
Хочу назвать его – не Сталин, – Джугашвили!
<…>
Могучие глаза решительно добры,
Густая бровь кому-то светит близко,
И я хотел бы стрелкой указать
На твёрдость рта – отца речей упрямых,
Лепное, сложное, крутое веко – знать,
Работает из миллиона рамок.
Весь – откровенность, весь – признанья медь,
И зоркий слух, не терпящий сурдинки,
На всех, готовых жить и умереть,
Бегут, играя, хмурые морщинки.
<…>
Я у него учусь, не для себя учась.
Я у него учусь – к себе не знать пощады.
<…>
Глазами Сталина раздвинута гора
И вдаль прищурилась равнина.
Как море без морщин, как завтра из вчера –
До солнца борозды от плуга-исполина.
Он улыбается улыбкою жнеца
Рукопожатий в разговоре,
Который начался и длится без конца
На шестиклятвенном просторе. <…>
Надежда Яковлевна не пишет, как Мандельштам использовал эту оду. Вероятно, она была разослана отдельно или с подборкой других стихов, для которых она должна была служить пропуском. Но ощутимых результатов ода не принесла. Разве что Мандельштамам разрешили покинуть Воронеж по истечении законного трёхлетнего срока ссылки.
В начале марта 1938 года супруги переезжают в профсоюзную здравницу Саматиха (Егорьевский район Московской области). Там же в ночь с 1 на 2 мая 1938 года Мандельштама вновь арестовывают. В обвинительном заключении по 58-й статье говорится, что «Мандельштам О.Э. несмотря на то, что ему после отбытия наказания запрещено было проживать в Москве, часто приезжал в Москву, останавливался у своих знакомых, пытался воздействовать на общественное мнение в свою пользу путём нарочитого демонстрирования своего «бедственного» положения и болезненного состояния».
В августе того же года Особое совещание при НКВД приговорило Мандельштама к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Его отправляют этапом на Дальний Восток, но до места назначения он не доходит – в декабре умирает в одном из пересыльных лагерей. Его тело до весны остается непогребённым, а затем вместе с другими «зимним штабелем» захоронено в братской могиле.
Пастернак пережил Мандельштама на 22 года. Его лично репрессии не коснулись, если не считать ареста и 4 лет лагерей, на которые осудили его последнюю, неофициальную, жену Ольгу Ивинскую – за «близость к лицам, подозреваемым в шпионаже». Она тогда была беременна, и в тюрьме у неё случился выкидыш. Аресты и расстрелы друзей и коллег, наверное, в число личных обстоятельств не входили. Как бы то ни было, своего «благословения» на такую политику Пастернак не берёт обратно и после смерти Сталина. Вот как он описывает свои впечатления с похорон вождя в письме к главе Союза писателей Александру Фадееву:
«Как поразительна была сломившая все границы очевидность этого величия и его необозримость! Это тело в гробу с такими исполненными мысли и впервые отдыхающими руками <…>.
Какое счастье и гордость, что из всех стран мира именно наша земля <…> стала родиной чистой жизни, всемирно признанным местом осушенных слёз и смытых обид!
Все мы юношами вспыхивали при виде безнаказанно торжествовавшей низости, втаптывания в грязь человека человеком, поругания женской чести. Однако как быстро проходила у многих эта горячка.
Но каких безмерных последствий достигают, когда, не изменив ни разу в жизни огню этого негодования, проходят до конца мимо всех видов мелкой жалости по отдельным поводам (это, очевидно, оценка политики репрессий – А.Г.) к общей цели устранения всего извращения в целом и установления порядка, в котором это зло было бы немыслимо, невозникаемо, неповторимо!»
Фадеев, кстати, не пережил «оттепели», когда были реабилитированы многие из тех, кого он росчерком пера отправлял на смерть и в лагеря. В мае 1956 года он застрелился.
Первую часть материала читайте тут.
Ода Мандельштама Сталину и «Строки на Неизвестного солдата» на JSTOR
Abstract«Дорога к Сталину» представляет новые трансляции двух поздних стихотворений Осипа Мандельштама: Оды Сталину и «Строки на Неизвестного солдата». Стихи написаны в 1937 году, ближе к концу ссылки Мандельштама в Воронеже. Оба были предназначены для публикации. В последние годы «Неизвестный солдат» признан одним из главных произведений Мандельштама. Ода, по большей части, воспринималась как смущение.Однако, если бы публикация произошла в то время, эти два стихотворения были бы прочитаны в терминах друг друга — как взаимодополняющие произведения поэта, чье инакомыслие, арест и изгнание праздновались. Публикуя эти переводы вместе, наша основная цель также очень проста — предложить способ, которым эти два стихотворения могут быть прочитаны вместе.
Информация о журналеShofar публикует оригинальные научные работы и рассматривает широкий спектр недавних книг по иудаике.Shofar — это рецензируемый журнал, основанный в 1981 году, который ежеквартально издается издательством Purdue University Press от имени университетской программы иудаистики.
Информация об издателеПосвященная распространению научной и профессиональной информации, Purdue University Press отбирает, разрабатывает и распространяет качественные ресурсы в нескольких ключевых предметных областях, которыми известен его головной университет, включая бизнес, технологии, здоровье, ветеринарию и другие избранные. дисциплины в области гуманитарных и естественных наук.Как научное издательское подразделение Университета Пердью и подразделение библиотек Пердью, Press также является партнером преподавателей и сотрудников университета, центров и отделов, желающих распространять результаты своих исследований. В 2012 году издательская деятельность в библиотеках Purdue была реорганизована, чтобы сотрудники, обладающие навыками в этой области, могли также обслуживать менее формальные потребности сообщества Purdue в публикации научных материалов (например, выпуск технических отчетов, материалов конференций, сборников препринтов, студенческих журналов), в то время как по-прежнему поддерживая репутацию Press в области выпуска рецензируемых книг и журналов по предметам, имеющим отношение к университету.
1938: поэт, высмеивающий Сталина, умирает в ГУЛАГе — Еврейский мир — Haaretz | Новости Израиля, данные о вакцинах против COVID, Ближний Восток и еврейский мир
27 декабря 1938 года русско-еврейский поэт Осип Мандельштам скончался в ГУЛАГе на Дальнем Востоке Советского Союза. Ему было 47 лет. Мандельштам был пионером новой школы натуралистической поэзии, но также писал художественную литературу и эссе. Поскольку он отказывался придерживаться линии партии, а при Иосифе Сталине даже осмеливался критиковать и высмеивать тоталитарного лидера по имени, все, что он написал в последние годы своей жизни, не могло быть опубликовано в течение примерно трех десятилетий после его смерти.
Статьи по теме
Осип Эмильевич Мандельштам родился 15 января 1891 года в Варшаве, тогда еще находившейся под властью России. Его отец, Эмиль Хакель Мандельштам, был торговцем кожей из Риги, который отказался от раввинского образования, чтобы продолжить светское образование в Германии. Его мать, бывшая Флора Вербловски, была из зажиточной, культурной еврейской семьи из Вильно.Работала учителем музыки.
Эмиль имел разрешение жить со своей семьей за пределами черты оседлости, а Осип вырос в столице империи Санкт-Петербурге.Петербург. Там с 8 лет он посещал престижное Тенишевское училище, в литературном журнале которого опубликовал несколько своих первых стихотворений.
Фотография НКВД после второго ареста Осипа Мандельштама, 1938 г. WikiCommonsПреобразование удобства
Ближе к концу школы, в период высокого революционного брожения, Осип заигрывал с социалистически-революционной организацией.Чтобы уберечь его от опасностей, родители отправили его в Париж. Следующие три года он провел там, а также в Гейдельберге и Швейцарии, изучая, сочиняя стихи и встречаясь с единомышленниками-художниками.
Он вернулся в Св.В 1911 году в Петербурге, во время краткого визита в Финляндию, он присоединился к финской методистской церкви, что, по-видимому, было направлено на то, чтобы позволить ему поступить в Санкт-Петербургский университет, в котором была жесткая квота для студентов-евреев. Он был посредственным студентом и бросил университет, не закончив его, в 1915 году.
В то же время Мандельштам был связан с группой поэтов, включая Анну Ахматову и ее тогдашнего мужа Николая Гумилева, которые отвергли модный тогда мистицизм русского символизма и создали литературное движение, которое они назвали акмеизмом.Мандельштам начал публиковаться в ведущем литературном журнале России «Аполлон», а в 1913 году он выпустил свой первый небольшой сборник стихов «Камень» («Камень»), издание которого подписал его отец.
Мандельштам не участвовал в Первой мировой войне, и хотя он симпатизировал революции 1917 года, он не поддерживал большевиков в гражданской войне.В 1919 году у него завязались отношения с писательницей Надеждой Яковлевной Хазиной; Они официально поженились в 1922 году и поселились в Москве. В том же году он опубликовал сборник стихов «Тристия» — шедевр романтического гуманизма.
Осип Мандельштам в 1914 году. WikiCommons‘Убийца крестьян’
Политические проблемы Мандельштама начались в 1930-е годы при Сталине.К тому времени он отказался от поэзии в пользу эссе, путевых заметок и художественной литературы, прежде чем вернуться к стихам. Став свидетелем жестоких экспериментов коммунистического режима в области социальной инженерии, он выразил свое отвращение в стихах, написав в 1933 году свою «Сталинскую эпиграмму», в которой назвал диктатора «убийцей крестьян».
Будьте в курсе: подпишитесь на нашу рассылку новостей
Спасибо за регистрацию.
У нас есть и другие информационные бюллетени, которые, на наш взгляд, будут для вас интересными.
кликните сюдаОй. Что-то пошло не так.
Повторите попытку позже.
Попробуй еще разСпасибо,
Указанный вами адрес электронной почты уже зарегистрирован.
ЗакрыватьПо собственным причинам Сталин не казнил Мандельштама, а приказал своим приспешникам «изолировать, но сохранить» поэта, отправив его в ссылку на Северный Урал.Его сопровождала Надежда, которая изо всех сил старалась сохранить каждую написанную им страницу, а также запомнить его работы.
После неудачной попытки самоубийства Мандельштаму разрешили переехать в более удобное место по его собственному выбору — Воронеж.Там он написал часть своих самых известных стихов, опубликованных спустя десятилетия как «Воронежские тетради». Но его здоровье было слабым, и у них с Надеждой почти не было дохода, и ни о каких его работах не могло быть и речи.
В 1937 году закончился срок ссылки, Мандельштам вернулся в Москву.Но его сочли слишком опасным для режима, и в мае 1938 года его арестовали и отправили в трудовой лагерь после того, как его судили за «антисоветскую агитацию». Он скончался 27 декабря в пересыльном лагере «Вторая речка» под Владивостоком и похоронен в безымянной могиле.
Спустя годы, после посмертной политической реабилитации Мандельштама, улица на месте пересыльного лагеря, где он умер, была переименована в его честь.
‘Избранные стихи Осипа Мандельштама
Поэзия Осипа Мандельштама лирична и экспериментальна, хотя она была достаточно простой, чтобы я (новичок, не имеющий литературного образования) понял сложную образность его стихов.Это заставляет задуматься об огромных возможностях языка, лингвистики в оправдании наших эмоциональных способностей, потому что он достигает этого подвига благодаря чистой простоте в сочетании с глубокими наблюдениями. Предисловие переводчика было интересным дополнением, в котором объяснялись такие термины, как акемизм и участие Мандельштама в нем, хотя в душе он был настоящим нонконформистом. В целом, это был полезный опыт, чтобы прочитать его, и, разумеется, его стихи останутся со мной надолго.Мне кажется, что Мандельштам определил новый путь великолепного и революционного стиля поэзии. Это был мой любимый стих, и он мне очень понравился —Я подумал — речи не нужны:
Мы не пророки и не предшественники,
Мы не восхищаемся раем и не живем в страхе ада,
В пасмурный полдень мы горим, как свечи.
Кроме того, я включил все другие стихотворения, которые были слишком красивы, чтобы их нельзя было не упомянуть и, главным образом, чтобы их нельзя было забыть:
Читать только детские книжки, сокровище
Только детские мысли, выбросить
Взрослые
И встать из глубокой печали.
Я устал до смерти от жизни,
Я не принимаю ничего, что он может мне дать,
Но я люблю свою бедную землю
Потому что это единственное, что я видел.
В далеком саду качал
На простых деревянных качелях
И вспоминаю темные высокие ели
В туманной лихорадке.
Что мне делать с телом, которое мне дали?
Так много вместе со мной, так много моего собственного?
За тихое счастье дышать, быть способным
Чтобы быть живым, скажи мне, кому я должен быть благодарен?
Пусть моментальный сгусток исчезнет без следа:
Заветный узор, который никто не может стереть.
Невыразимая грусть
Открылись два огромных глаза,
Ваза с цветами проснулась
И ее кристалл произвел фурор.
Вся комната наполнилась
Слабостью — этим сладким лекарством!
Такое маленькое королевство
Чтобы проглотить столько сна.
Слова не нужны,
Нечего учить:
Как грустно и образцово
Темное сердце животного!
Нет нужды наставлять
И слова не нужны,
И плывет, как молодой дельфин,
Вдоль серых заливов мира.
Грудь моря дышит спокойно,
Но безумный день сверкает
И бледно-сиреневый пенопласт
В своей мутно-голубой чаше.
Да обретут мои губы
Первозданной немоты,
Как кристально чистый звук
Безупречный от рождения!
Остаться пена, Афродита,
А — слово — вернуться к музыке;
И, слившись с ядром жизни,
Сердце стыдишься сердца! (Silentium)
Меня одолевает страх
Перед лицом таинственных высот;
Я доволен ласточкой в небе
И мне нравится, как парит колокольня!
Чувствую себя вековым путником
Кто на гнутых досках над пропастью
Слушает, как растет снежный ком
И вечность ударяет по каменным часам.
Если бы это могло быть! Но я не тот странник.
Мерцание на фоне увядшей листвы:
Во мне поет настоящая печаль.
На холмах сошла лавина!
И все я в колоколах,
Хотя музыка не спасет от бездны!
Я не сторонник преднамеренного счастья:
Иногда природа — серая пятно
И меня приговаривают, слегка навеселе,
Попробовать краски обнищания.
Ветер играет взъерошенным облаком,
Якорь царапает дно океана;
Мой ум, безжизненный, как полотно,
Повисает над ничто.
Но мне нравится казино на дюнах:
Обширный вид из туманного окна,
Тонкий луч света на мятой скатерти;
И, кругом зеленоватая вода,
Когда, как роза, вино в бокале,
Мне нравится следовать за крыльями чайки!
Когда я состарюсь, пусть моя печаль заблестит.
Я родился в Риме; он вернулся ко мне;
Доброй осенью была моя волчица.
И август — месяц цезарей — улыбнулся мне.
Охотники поймали тебя:
Олень, оплакивают леса!
Можешь получить мое черное пальто, солнышко,
Но сохрани мою живую силу!
Боимся, не смеем
Помочь царскому горю.
Укус Тесея, ночь упала на него.
Мы принесем мертвых домой с нашим погребальным пением;
Охладим черное солнце
Его дикую бессонницу страсть.
И огромный флаг памяти —
Птица смерти и скорбящие —
Следы своих черных границ
Над кормой кипариса.
Ах, как скудна утка жизни,
Как истощен язык ликования!
Все было старым, все повторяется,
И сладок только момент признания.
Человек умирает, горячий песок остывает.
Вчерашнее солнце несет на черной подстилке.
Осталась одна забота, золотая:
Освободить себя от бремени времени.
Пусть заговорщики, как овцы, несутся по снегу.
Пусть треснет хрупкая корка снега.
Зима — для некоторых — поселение полыни и едкого дыма,
Для некоторых суровая соль церемониальных ран.
Ах, чтобы поднять фонарь на длинной палке,
Под звездной солью, чтобы следовать за собакой,
И, петух в горшке, войти во двор гадалки.
Но белый, белый снег обжигает мне глаза до остроты.
Косилки возвращают
щеглов, выпавших из гнезд.
Я вырвусь из этих горящих линий,
Вернусь к порядку звуков, к которому я принадлежу,
К звенящей связке крови, подобной траве,
Нервничаю себе за мечту без разума.
Чтобы вырвать наш век из тюрьмы
Нужна флейта
Чтобы соединить секции
Разъединенных дней…
И бутоны снова набухнут,
Зеленые побеги выплеснут.
Но твой позвоночник сломан,
Мой прекрасный, жалкий век.
С резкой и слабой ухмылкой идиота
Вы оглядываетесь:
Зверь, некогда податливый,
Обдумывает следы лап на песке.
Я смотрю морозу в лицо, один —
Он никуда не денется, я пришел из ниоткуда —
И всегда дышащее чудо простого
Отглаженный, сложенный без складок.
Страдая от своего чудесного и всепоглощающего голода,
Что мы можем сделать с кровавыми равнинами?
Несомненно то, что мы считаем их открытостью
Мы сами — засыпая — смотрим;
И везде пачкают вопросы — куда они деваются,
И откуда они берутся?
И не он ли заставляет нас во сне визжать
Медленно ползать по ним —
Пространство для еще не родившихся Иуд.
И я задыхаюсь им вслед, кричу
На какую-то замороженную груду дров:
Просто читатель, с кем поговорить, доктор!
Разговор на горькой лестнице!
Я ушел в глубины времени —
И обнаружил, что он онемел.
Глаза когда-то зорче заостренной косы —
В зрачке кукушка, капля росы —
Теперь еле различить в полную величину
Одинокое множество звезд.
Если наши враги возьмут меня
И люди перестанут со мной разговаривать,
Если они конфискуют весь мир —
Право дышать, откройте двери,
Подтвердите, что существование будет продолжаться
И что люди, как судья, должны судья,
И если они посмеют держать меня, как животное
И швырнуть мою еду на пол,
Я не замолчу и не заглушу агонию,
Но напишу то, что я могу писать,
Только пусть теперь будь на земле, а не на небе,
Как в доме, полном музыки.-
Если бы только не пугать и не ранить —
Приятно было бы выжить.
Простите меня за то, что я вам говорю;
Тихо-тихо прочти мне.
Карьера, политическое преследование и смерть | Осип Мандельштам: Стихи Википедия
В 1922 году Мандельштам и Надежда переехали в Москву. В это время в Берлине была опубликована его вторая книга стихов, Tristia [8]. В течение нескольких лет после этого он почти полностью отказался от поэзии, сосредоточившись на эссе, литературной критике, мемуарах Шум времени , Феодосия — оба 1925; ( Noise of Time 1993 на английском языке) и малоформатная проза The Egyptian Stamp (1928).На дневной работе он переводил литературу на русский язык (19 книг за 6 лет), затем работал корреспондентом газеты.
Первый арест
Осенью 1933 года Мандельштам написал стихотворение «Эпиграмма Сталина», которое он прочитал на нескольких небольших частных собраниях в Москве. Стихотворение умышленно оскорбило советского лидера Иосифа Сталина. В первоначальной версии, той, что была передана в полицию, он называл Сталина «крестьянским убийцей», а также указывал на то, что у него толстые пальцы.Спустя полгода, в ночь с 16 на 17 мая 1934 г., Мандельштам был арестован тремя сотрудниками НКВД, прибывшими в его квартиру с ордером на обыск, подписанным Яковом Аграновым [16]. Его жена сначала надеялась, что это было из-за скандала, произошедшего в Ленинграде несколькими днями ранее, когда Мандлестам ударил писателя Алексея Толстого из-за предполагаемого оскорбления Надежды, но на допросе он столкнулся с копией Сталинской эпиграммы. , и сразу же признался в том, что является ее автором, считая, что отказ поэта от своего произведения в принципе был неправильным.Ни он, ни Надежда никогда не рисковали записать его, предполагая, что один из доверенных друзей, которому он рассказывал, выучил его наизусть и передал копию в полицию. Кто это был, так и не было установлено. [17]
Мандельштам ожидал, что оскорбление Сталина повлечет за собой смертную казнь, но Надежда и Анна Ахматова начали кампанию по его спасению и сумели создать «особую атмосферу, в которой люди суетятся и перешептываются друг с другом». Посол Литвы в Москве Юргис Балтрушайтис предупредил делегатов на конференции журналистов, что режим оказался на грани убийства известного поэта.[18] Борис Пастернак, который не одобрял тон эпиграммы, тем не менее обратился к выдающемуся большевику Николаю Бухарину с просьбой вмешаться. Бухарин, который знал Мандельштамов с начала 1920 года и часто помогал им, подошел к главе НКВД и написал записку Сталину.
Ссылка
26 мая Мандельштам был приговорен не к смертной казни и даже не к ГУЛАГу, а к трем годам ссылки в Чердыни на Северном Урале, где его сопровождала жена.Этот побег расценили как «чудо» [18], но напряжение допроса довело Мандельштама до безумия. Позже он писал, что «рядом со мной моя жена не спала пять ночей» [19], но когда они прибыли в Чердынь, она заснула на верхнем этаже больницы, и он попытался покончить жизнь самоубийством, выбросившись из окно. Его брат Александр обратился в полицию с просьбой о предоставлении его брату надлежащей психиатрической помощи, и 10 июня произошло второе «чудо», изгнавшее Мандельштама из двенадцати крупнейших советских городов, но в остальном позволившее ему выбрать свое место. изгнания.[18]
Мандельштам с женой выбрали Воронеж, возможно, отчасти потому, что имя ему понравилось. В апреле 1935 года он написал четырехстрочное стихотворение с каламбуром — Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож — «Воронеж — прихоть, Воронеж — ворон, нож». Сразу после их прибытия Борису Пастернаку позвонил Сталин — его единственный разговор с диктатором, в котором Сталин хотел узнать, действительно ли Мандельштам был талантливым поэтом.»Он гений, не так ли?» он, как говорят, спрашивал Пастернака [20].
За эти три года Мандельштам написал сборник стихов, известный как Воронежские тетради , в который вошел цикл стихов о Неизвестном солдате . Он и его жена знали о телефонном звонке Сталина Пастернаку только через несколько месяцев после того, как это произошло, и не чувствовали себя в безопасности от ареста. Когда Ахматова ехала к ним в гости, в дверь неожиданно постучали еще двое друзей.Все думали, что это полиция. Это послужило вдохновением для строк, написанных Ахматовой в марте 1936 года:
.mw-parser-output .templatequote {overflow: hidden; margin: 1em 0; padding: 0 40px} .mw-parser-output .templatequote .templatequotecite {line-height: 1.5em; text-align: left; padding- left: 1.6em; margin-top: 0}Но в комнате поэта с позором
Страх и муза бодрствуют по очереди.
И наступает ночь
Это не знает рассвета. [21]
Фактически, тот факт, что Сталин отдал приказ «изолировать и сохранить» Мандельштама, означал, что он был в безопасности от дальнейших преследований, временно. В Воронеже ему даже была предоставлена личная встреча с местным главой НКВД Семеном Дукельским, который сказал ему «пиши, что хочешь», и отклонил предложение Мандельштама присылать каждое стихотворение, которое он написал. штаб полиции. После этой встречи полицейские прекратили слежку за парой. [22] Есть история, возможно, апохрифическая, что Мандельштам даже звонил Дукельскому, чтобы он читал стихи по телефону.[23]
Второй арест и смерть
Трехлетний период ссылки Мандельштама закончился в мае 1937 года, когда шла Великая чистка. Прошлой зимой он заставил себя написать свою «Оду Сталину», надеясь, что это защитит его от дальнейших преследований. Супруги больше не имели права жить в Москве, поэтому жили в соседнем Калинине (Тверь) и приезжали в столицу, где они рассчитывали, что друзья разместят их. Весной 1938 года Мандельштам получил интервью с главой Союза писателей Владимиром Ставским, который предоставил ему двухнедельный отпуск на двоих в подмосковном доме отдыха.Это была ловушка. В прошлом месяце, 16 марта, на следующий день после того, как бывший защитник Мандельштамов Николай Бухарин был приговорен к смертной казни, Ставский написал главе НКВД Николаю Ежову, осуждая Мандельштама. Вытащив его из Москвы, можно было арестовать его, не вызвав реакции [24]. Он был арестован во время отпуска 5 мая (см. Лагерный документ от 12 октября 1938 г., подписанный Мандельштамом) по обвинению в «контрреволюционной деятельности». Четыре месяца спустя, 2 августа 1938 г. [25] Мандельштам был приговорен к пяти годам исправительных лагерей.Он прибыл в пересыльный лагерь «Вторая речка» недалеко от Владивостока на Дальнем Востоке России и сумел передать жене записку с просьбой о теплой одежде; он их так и не получил. Он умер от холода и голода. Его смерть была описана позже в рассказе Варлама Шаламова «Шерри Бренди».
Исполнилось собственное пророчество Мандельштама: «Только в России поэзию уважают, в ней убивают людей. Есть ли где-нибудь еще, где поэзия так распространена как мотив для убийства?» Надежда написала мемуары о своей жизни и времени с мужем в «Надежда против надежды» (1970) [15] и «Брошенная надежда» .[14] Ей также удалось сохранить значительную часть неопубликованных работ Мандельштама.
Этот контент взят из Википедии. GradeSaver — это предоставляя этот контент в качестве любезности, пока мы не сможем предложить профессионально написанное учебное пособие от одного из наших штатных редакторов. Мы делаем не считайте этот контент профессиональным или цитируемым. Пожалуйста, используйте свой осмотрительность, полагаясь на нее.
Осип Мандельштам Стихи> Моя поэтическая сторона
Осип Мандельштам был русским эссеистом и поэтом-евреем, которому не повезло жить в то время, когда интеллектуалы его вида жестоко преследовались советскими властями.Он принадлежал к литературной группе под названием «Гильдия поэтов», которая следовала акмеизму , демонстрируя компактность и ясность в своем поэтическом выражении. Название этого движения происходит от греческого слова acme , и это очень иронично, учитывая ужасные времена, в которые он жил, что перевод этого слова означает «лучший возраст человека».
Родился Осип Эмильевич Мандельштам 15 года января 1891 года в Варшаве, которая в то время входила в состав Российской империи.Его отец был зажиточным торговцем кожаными изделиями, и он получил разрешение переехать с семьей в Санкт-Петербург, где Осип пошел в школу Тенишевского в 1900 году. Он был там в хорошей компании, так как школа побывала у многих выдающихся деятелей культуры, таких как поэт. Владимир Набоков, уже проходящий через его ворота. Осип вскоре начал писать собственные стихи, и в 1907 году он увидел несколько произведений, опубликованных в школьном альманахе.
В следующем году он был в Париже, изучал философию и литературу в Сорбонне, но не смог приступить к учебе.Вскоре он снова переехал, на этот раз в Гейдельбергский университет в Германии, а затем обратно в Санкт-Петербург. Ему пришлось перейти в методизм, чтобы поступить в университет, поскольку евреев не пускали. Тем не менее он ни к чему не обязывался и ушел из университета без диплома.
Мандельштам в ранние годы был описан как популистский поэт, и, присоединившись к другим писателям в Гильдии поэтов в 1911 году, он увлекся символизмом. Его назначили написать манифест этой группы, которую часто называли «акмеистами», а его первый сборник стихов был опубликован в 1913 году и назывался The Stone .Он продолжал писать, несмотря на тяжелые постреволюционные условия, в которых жили многие русские, особенно евреи. Его второй сборник стихов под названием « Tristia » был опубликован в 1922 году, и после этого Мандельштам в течение ряда лет оставался в тени. Он сосредоточился на переводе произведений на русский язык и иногда на журналистике.
Его склонность к нонконформизму не пошла ему на пользу, и в 1933 году он написал стихотворение под названием Сталин Эпиграмма , которое было открытым и сознательным призывом против тоталитаризма сталинского правительства.Это мрачно убедительная иллюстрация атмосферы страха, в которой жили многие обычные люди. Вот стихотворение:
Это стихотворение было прочитано на частных собраниях в Москве и, вероятно, было началом его кончины. В течение шести месяцев он был арестован и отправлен в ссылку с женой Надеждой. Историки предполагают, что он мог бы получить гораздо более суровый приговор, если бы Сталин не проявил к своей работе личный интерес. Ему и Надежде была предоставлена относительная свобода передвижения во время ссылки, и они могли выбирать, где жить.Казалось, он получил временную отсрочку от этого, прежде чем был снова арестован в 1938 году, и на этот раз выхода не было. На этот раз его отправили в ссылку в Сибирь, но он не выжил, по пути умер в транзитном лагере.
Несмотря на сочувственную «Оду Сталину», «Великая чистка» шла полным ходом, и такие писатели и интеллектуалы, как он, преследовались и обвинялись в антисоветских настроениях. Его отправили на восток, но он добрался только до пересыльного лагеря «Вторая река» недалеко от Владивостока.
Осип Мандельштам умер от неуказанной болезни 27 -го декабря 1938 года в возрасте 47 лет.
Поэтов и стихотворений: Осип Мандельштам и «Стихи»
Осип Мандельштам (1891-1938) считается одним из самых значительных русских поэтов 20 века. Сегодня у нас есть большая часть его стихов только потому, что его жена, Надежда Хазина, защищала их единственным способом, которым могла в то время. Она запомнила их.
Мандельштам родился в богатой польско-еврейской семье в Варшаве.Недолгие периоды он учился в Сорбонне, Гейдельбергском университете и Санкт-Петербургском университете, где евреи были исключены, что вынудило его перейти в методизм.
Период перед Первой мировой войной был временем интенсивного социального, культурного и политического брожения в России и временем, когда поэты объединялись в «школы» и группы. Мандельштам был связан с Гильдией поэтов, в которую входила Анна Ахматова. Эти поэты, также известные как акмеисты, подчеркивали форму и экспрессию.Эта группа была частью Серебряного века русской поэзии, периода активной творческой деятельности с 1890-х по 1920-е годы.
Осип Мандельштам
Мандельштам опубликовал свой первый сборник стихов «Камень» в 1913 году. Потом были война, революция, гражданская война, а затем советский период. В 1922 году он опубликовал сборник под названием Tristia , который поставил его в противоречие как с советским государством, так и с просоветскими интеллектуалами и писателями. В 1925 году он опубликовал «Шум времени», очерки о своей жизни.Каким-то образом ему удалось опубликовать в 1928 году еще три тома — новеллу, стихотворения, и группу критических эссе на поэзию. Считается, что ему помогал близкий соратник Сталина, человек по имени Николай Бухарин.
В 1933 году он опубликовал прозу «Путешествие в Армению», ставшую его последней публикацией в жизни. Стихотворение, в котором он описал Сталина как ликующего убийцу, дошло до советского руководства. Он столкнулся с возможностью смерти, но, видимо, Борис Пастернак и другие смогли повлиять на его приговор.Вместо расстрела Мандельштам был приговорен к трем годам ссылки на Уральских горах. Его жене разрешили сопровождать его.
Он был освобожден в 1937 году, когда шла Великая советская чистка. Не разрешалось жить в советской столице, Мандельштамы жили поблизости. Но его покровитель Бухарин был арестован и приговорен к смертной казни. В 1938 году Мандельштам был снова арестован и приговорен к пяти годам лагерей. На этот раз его жена не смогла поехать с ним. Он умер от холода и голода в пересыльном лагере под Владивостоком.
Это стихотворение, одно из 50, включенных в новый перевод «Стихотворений», должно было быть написано (и выучено Надеждой) в конце 1936 или начале 1937 года, когда Мандельштамы жили в ссылке на Урале.
Рождение улыбки
В любое время, когда ребенок начинает улыбаться,
С одной стороны горько, с другой стороны сладко,
Дальние стороны его улыбки, не говоря уже о шутках,
Потеряны из виду в океаническом хаосе.
Ребенок испытывает непреодолимую радость.
Уголками губ играет во славе
И уже прошивается радужный шов
Для того, чтобы узнать, что есть на самом деле.
Из воды земля поднялась на лапы —
Улитка рта смывается из-под —
И один атлантический момент бросается в глаза
Мягко, сопровождаемый похвалой и удивлением.
Стихи Мандельштама обращаются к его друзьям и влияниям, немецкому языку (своего рода дань уважения другу), поэзии, неизвестному солдату и другим темам.Включено стихотворение, посвященное Сталину, написанное в начале 1937 года, возможно, в надежде на освобождение из ссылки и избежание будущего заключения. Если так, то это была тщетная надежда.
В отличном эссе, включенном в сборник, переводчик Илья Бернштейн отмечает, как Мандельштам сочинял свои стихи — голосом, сочиняя их вслух, строчку за строчкой. Сохранились записные книжки поэта, но сначала он «писал» свои стихи устно. Это устное творение было продолжено в том, как стихи были спасены от вероятного разрушения сталинским режимом, поскольку его жена Надежда запомнила и сохранила их в своей голове и памяти, пока они не могли быть безопасно записаны.
Мы читаем эти стихи, зная, чем закончилась жизнь поэта, голодая и замерзая в пересыльном лагере. В последнем письме к жене он просил у нее еды и пальто, которые он так и не получил. Хотя он стал одним из миллионов заключенных и убитых в советское время, Мандельштам продолжает жить в своих стихах.
Связанные :
Анна Ахматова и поэзия стойкости
Марина Цветаева и мои стихи
Чтение Осипа Мандельштама на английском с Ильей Бернштейном
Фото Джузеппе Мило ,, Creative Commons, через Flickr. Сообщение Глинна Янга.
Другие обзоры книг
__________________________
Как читать стихотворение использует такие изображения, как мышь, улей, переключатель (из стихотворения Билли Коллинза), чтобы направить читателей к новым способам понимания стихов. Антология включена.
«Я требую, чтобы все наши поступающие студенты-поэты — в МИД, которым я управляю, — купили и прочитали эту книгу».
— Джанетта Калхун Миш
Купить Как читать стихотворение сейчас!
Глинн Янг живет в Св.Луи, где он недавно ушел в отставку с должности руководителя группы по онлайн-стратегии и коммуникациям в компании из списка Fortune 500. Глинн пишет стихи, рассказы и художественную литературу, и он любит кататься на велосипеде. Он является автором «Поэзии за работой» и «Танцующего священника». Найдите Глинна в Faith, Fiction, Friends. Последние сообщения Глинна Янга (посмотреть все) Связанные❤️✨ Делиться — это забота
Неверие и ужас ночи выборов были захвачены русским поэтом в 1933 году
Строка из русского стихотворения вспыхивала и зарывалась в моей голове, пока я сидел, как и многие из нас , приклеенный ко всем моим экранам, электоральной карте MSNBC на стене, стрелкам Times на экране у меня на коленях и бегущему комментарию Twitter в моей руке: «Мы живем, не чувствуя страны под собой.(Стихотворение Осипа Мандельштама «Эпиграмма Сталина» много раз переводилось с небольшими вариациями; вы можете увидеть некоторые из них здесь. Я выбрал строки из разных переводов, исходя из того, что ближе всего к русскому оригиналу. и о причинах, по которым я возвращался к этому стихотворению всю ночь.) Это казалось лучшим способом описать состояние дезориентации и неверия, которое было характерно для вечера вторника. Слишком большая часть страны — это не то, о чем мы думали или надеялись, были ли «мы» моими друзьями, семьей и мной, основными СМИ, социологами или почти кем-либо, кого я слышал, говоря о выборах в последние недели.
Поэма Мандельштама, написанная в ноябре 1933 года, вероятно, самое известное его произведение. «Наша речь не слышна на десяти шагах», — говорится в следующей строке. Мы не только не знаем, что происходит в нашей стране — мы не можем говорить и быть услышанными; мы глухи друг к другу и немы. Во времена социальной изоляции нас действительно почти не слышно на десяти шагах. Мы также почти не видим друг друга, половина лиц закрыта масками.
«Но там, где хватит встречи для полудоговорки / Кремлевская деревенщина — наша забота», — так Скотт Хортон перевел следующие две строчки.«Они похожи на слизистых червей, его толстые пальцы / Его слова тверды, как мера». Главный зверь неизбежен: он наша общая навязчивая идея и наша общая реальность. Несмотря на то, что он продолжает разрывать нас, он сводит нас вместе в том разговоре, который идет.
Вторая строфа стихотворения в переводе Кларенса Брауна и У. С. Мервина начинается:
Окруженный кучкой боссов с куриной шеей
Он играет с данью полулюдей.
Один свистит, другой мяукает, третий сопит.
Он высовывает палец, и он один взрывается.
Эти образы тоже стали привычными: зрелище подхалимства, непрекращающееся проявление господства.
Дэвид Макдафф перевел следующие строки следующим образом: «Он выковывает свои указы, как подковы — некоторые получают это в пах, некоторые — в лоб. / кто-то в брови, кто-то в глаза ». Эти строки вызывают не только власть по указу, но и власть как нападение, как ежедневное телесное нападение. «Он катит казни на своем языке, как ягоды», — идет перевод Брауна и Мервина, а затем предпоследняя строка стихотворения: «Он хотел бы обнять их, как больших друзей, дома.
Считается, что «Эпиграмма Сталина» привела к аресту Мандельштама в 1934 году. Поэт умер в ГУЛАГе в 1938 году. Его стихотворение было сохранено друзьями, начало распространяться в России в шестидесятых годах прошлого века и в конечном итоге было опубликовано. на Западе в семидесятые годы. Шесть десятилетий спустя узнаваема каждая линия: чувство незнания, где мы живем и с кем делим страну; отупляющее ощущение того, что не слышат и не слышат, изолированности, которая является одновременно предпосылкой и продуктом тоталитаризма; и, прежде всего, ежедневное проявление демонстративного унижения и преднамеренной жестокости.Все это случалось раньше; это было описано.
