ИДЕАЛ – Краткий словарь по философии – Философия. Основные понятия о философии
(греч. idea — вид, образ, понятие) — образец, совершенство в чем-либо, высшая цель, определяющая стремления и поведение отдельного человека, группы, класса.
ИДЕАЛ (греч. idea — вид, образ, понятие) — образец, совершенство в чем-либо, высшая цель, определяющая стремления и поведение отдельного человека, группы, класса. Это может быть представление о совершенном общественном строе (общественно-политический И.), о совершенных моральных качествах личности и отношениях между людьми (нравственный, этический И.), о прекрасном, гармонично развитом человеке (эстетический И.). На всем протяжении своей истории философия формулировала в системагическо-обобщенном виде различные идеалы. Так, античная философия была проникнута пафосом единства этического и эстетического И., в средневековье главным становится нравственный И., выступающий в религиозной форме, эпоха Возрождения обращает преимущественное внимание на эстетический И. В зависимости от того, как И. соотносится с действительностью, насколько полно и правильно отражает тенденции ее развития, он может быть несбыточным, ложным или реальным, осуществимым. Социальная функция И. заключается в том, что он вдохновляет людей на изменение общества и самих себя. Вместе с тем И., воплощаясь в социальных нормах, становится регулятором отношений между людьми. Большую роль в борьбе с устаревшими феодальными порядками сыграли в свое время выдвинутые прогрессивной буржуазией идеалы свободы, равенства и братства. Марксизм, выражая интересы пролетариата, формулирует подлинно гуманистический И. коммунизма. В отличие от И. переустройства общества, выдвинутого утопическим социализмом, это не образ желаемого, вынесенный за пределы существующей действительности, с которым она должна сообразоваться, а сама действительность, рассмотренная с точки зрения перспектив ее развития. Марксизм рассматривает И. как отражение действительности: или тех ее моментов, которые существуют в зародышевом виде, не получили распространения, или того, что должно появиться в будущем, т.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Проблема идеала в философии И.Канта
[65]
Проблема идеала 1 сложна и многогранна. И в первую очередь, естественно, возникает вопрос о том, какое место занимает понятие идеала в теории отражения, как оно может быть интерпретировано с точки зрения этой теории. В самом деле, теория отражения учит, что правильно и истинно лишь такое знание, которое отражает то, что есть в действительности. А в идеале выражается не то, что есть, а то, что должно быть, или то, что человек хочет видеть. Можно ли истолковать желаемое или должное с точки зрения теории отражения? Иными словами, может ли быть «истинным» идеал?
Философия давно усмотрела здесь трудность и давно же пыталась ее разрешить. Материалисты прошлых эпох упирались в эту проблему в ходе своей борьбы против церковно-идеалистических учений, против религиозного идеала и старались решить ее в согласии с теорией отражения, с одной стороны, и с требованиями реальной жизни — с другой. Но вплоть до Маркса и Энгельса идеал понимался философами продуктом саморазвития человеческого самосознания, эволюции его нравственных, эстетических и научных принципов. В головах мыслителей домарксовского периода проблема рассматривалась так.
Церковь всегда старалась внушить людям, что высшая цель и назначение человека на земле — это подготовка к жизни загробной, к вечной жизни в небесном раю. Чтобы этой высшей цели достигнуть, человек должен вести себя соответствующим образом. В качестве средств и путей достижения вечного идеала церковь рекомендовала покорность судьбе и власть имущим, смирение плоти и ее желаний, отказ от «потустороннего» счастья и тому подобных «греховных вожделений». Идеалом человека здесь оказывался монах-аскет. Путь к нему — путь к искупительному страданию, самоуничижению, самобичеванию, избавляющему дух [66] от грязи и мерзости земного существования… И долгие столетия феодального средневековья принимал человек этот идеал за единственно верный и единственно возможный образ высшей сути жизни и мира.
Вдохновенный век Возрождения передал эстафету веку Просвещения, веку рационального обоснования прекрасной мечты о возрождении человека, и тот сформулировал свои четкие тезисы относительно идеала, выдвинул против средневекового спиритуалистического идеала свой, земной идеал.
Нет бога, нет рая! Есть только человек и природа. После смерти для людей вообще ничего нет. Поэтому идеал должен быть найден и осуществлен здесь на земле. И материалисты сформулировали его так: земное полнокровное жизнеизъявление каждого живого человека. Пусть каждый делает то, на что он способен от природы, и наслаждается плодами своих деяний! Природа — единственная законодательница и авторитет, и от ее имени человеку возвещает идеал только наука, самостоятельное мышление, постигающее законы природы, а не откровение, вещающее с амвонов и со страниц священного писания.
Если идеал не праздная мечта и не бессильное пожелание, то он должен выражать и отражать нечто реальное, ощутимое и земное. Что?
«Естественные, то есть природой вложенные, потребности здорового и нормального тела человека», — ответили материалисты. Идеал отражает естественные потребности «природы человека», и потому на его стороне все могучие, силы матери-природы. Изучайте природу человека, и вы обретете истинный идеал человека и общественного строя, этой природе соответствующего! Этим ответом и удовлетворились французские материалисты XVIII века — Гельвеций, Гольбах, Дидро и их единомышленники. Ответ этот казался исчерпывающим для каждого их современника, придавленного тяжестью монархии и церкви. Ведь ради «извращенных», и «неестественных» удовольствий двора и церковно-бюрократической клики у большинства нации отнимались все самые «естественные» права и ценности: и хлеб, и свобода распоряжаться своим телом и жизнью, и даже свобода мысли…
И отлился этот новый идеал в энергичную формулу, в лозунг: «Свобода, равенство, братство!». Пусть каждый человек делает то, что он хочет и может, лишь бы он не приносил ущерба свободе другого человека, своего собрата по роду! Если этого еще нет, то это должно быть!
Оставаясь верными главным принципам научного мышления просветителей упрямые и благородные умы Франции (Анри де Сен-Симон и [67] Шарль Фурье) старались найти и указать человечеству выход из обнаружившегося морального и интеллектуального кризиса.
Вывод, к которому пришли в результате анализа сложившейся ситуации эти два подлинных наследника передовой философии Франции, совпадал с решением англичанина Роберта Оуэна. Если Разум и Справедливость не пустые слова, то единственным спасением человечества от угрожающей ему физической и моральной деградации оказывается, в их понимании социализм Человечество поставлено историей перед неумолимой альтернативой либо полнее господство религиозного невежества нравственного и умственного одичания под гнетом золотого тельца, либо расцвет умственных и физических способностей каждого человека в условиях общественной собственности на средства производства на основе правильного разумного ведения общественных дел Третьего не дано Свобода, Равенство и Братство реальны лишь в сочетании с рационально организованным Трудом всех людей, добровольно объединившихся в дружный коллектив.
Фурье и Сен-Симон самоотверженно пропагандировали свои идеалы, призывая к разуму и чувству «справедливости» современников. Но их идеи не нашли общественного признания, т.к. во многом были утопичны.
Но жизнь идеала просветителей не была закончена. Правда, ему пришлось па некоторое время переселиться с земли Франции в сумрачное небо немецкой философии.
Идеал французов они сразу же приняли близко к сердцу — свобода, равенство, братство, единство нации — что может быть желаннее и лучше. Насчет идеала, то есть конечной цели, немцы были согласны с французами. Но вот революционные средства (помощь пушек, гильотин и комитетов общественного спасения), использованные в Париже немцам не нравились.
Проблема идеала была обстоятельно разработана в немецкой классической философии. Наиболее остро она была поставлена И. Кантом в связи с проблемой «внутренней цели».
Вся беда, рассуждал Кант, получилась оттого, что французские философы неправильно истолковали «природу человека». Они были абсолютно правы, когда стали рассматривать человека как самоцель, а не как «средство» для кого-то или для чего-то существующего вне человека.
Человек, продолжает Кант, «свободен» лишь в том случае, если он действует по цели, положенной им самим, актом свободного же самоопределения. Только тогда он Человек, а не пассивное орудие внешних обстоятельств или воли другого человека. Но что же такое «свобода»? Это действие в согласии с универсальной необходимостью, то есть вопреки давлению ближайших эмпирических обстоятельств. Нет этого — нет и свободы, нет и отличия от животного. Животное заботится только об удовлетворении своих органических потребностей, о своем самосохранении, интересы и «цели» вида осуществляются при этом лишь как непредвиденный и непреднамеренный «побочный продукт», как слепая необходимость. Человек же тем от животного и отличается, что он сознательно (то есть «свободно») осуществляет необходимость совершенствования своего собственного — человеческого — рода. Ради этого он постоянно вынужден подавлять в себе животное, то есть свое корыстно-эгоистическое Я, и даже действовать против интересов этого Я. Так действовали Сократ, Джордано Бруно, которые добровольно предпочли смерть измене своему идеалу, своему лучшему Я. Именно такие люди только и соответствовали гордому имени Человека с большой буквы. Индивид же, пекущийся лишь о своей персоне, не по праву носит и это имя.
А отсюда прямо вытекал идеал Канта нравственное и интеллектуальное самоусовершенствование рода человеческого. В этом плане он переосмыслил и идеал Просвещения. Когда каждый человек на земле (а на первых порах хотя бы в Германии) поймет, что человек человеку — брат, равный ему и такой же свободный в отношении своих поступков и мыслей, тогда идеал Просвещения восторжествует на земле и без помощи пушек, гильотин и комитетов общественного спасения как во Франции. И не раньше.
[69]
Согласно Канту, явления, не имеющие цели, которая могла бы быть представлена образно, не могут иметь и идеала. Единственным существом, действующим по «внутренней цели», является человек как представитель рода. В животном внутренняя целесообразность осуществляется бессознательно и потому не обретает форму идеала, особого образа цели. Согласно Канту, идеал как воображаемое (достигнутое в воображении) совершенство человеческого рода характеризуется полным и абсолютным преодолением всех противоречий между индивидом и обществом, т.е. между индивидами, составляющими «род». Таким образом, осуществление идеала совпадало бы с концом истории. В силу этого идеал, по Канту, принципиально недостижим и представляет собой только «идею» регулятивного порядка. Он указывает скорее направление на цель, чем задает образ самой цели, и потому руководит человеком скорее как чувство верного направления, чем как ясный образ результата. Только в искусстве идеал может и должен быть представлен в виде образа — в форме прекрасного. Идеал науки («чистого разума») задается в виде принципа «запрета противоречия», моральный идеал («практического разума — в форме категорического императива. Ни там, ни здесь наглядно представить себе состояние, соответствующее идеалу, нельзя, ибо оно неосуществимо в течение сколь угодно длительного, но конечного времени. Поэтому идеал и «прекрасное» становятся синонимами, и жизнь идеала допускается только в искусстве. Эти идеи Канта получили развитие в сочинениях Ф. Шиллера, И. Г. Фихте, Ф.В. Шеллинга и немецких романтиков.
Г. Фихте, Ф.В. Шеллинга и немецких романтиков.
Г. Гегель, остро понявший бессилие кантовского представления об идеале, развенчал его как абстракцию, выражающую на деле один из моментов развивающейся действительности «духа» (т.е. истории духовной культуры человечества) и противопоставленную другой такой же абстракции — «эмпирической действительности», якобы принципиально враждебной идеалу и несовместимой с ним. Идеал становится у Гегеля моментом действительности, образом человеческого духа, вечно развивающегося через свои имманентные противоречия, преодолевающего свои собственные порождения, свои «отчужденные» состояния, а не изначально внешнюю и враждебную ему «эмпирическую действительность». Идеал науки (научного мышления) поэтому может и должен быть задан в виде системы логики, а идеал практического разума — в виде образа разумно устроенного государства, а не в виде формальных и принципиально неосуществимых абстрактных императивных требований, [70] обращенных к индивиду. Идеал как таковой поэтому всегда конкретен, и он постепенно реализуется в истории. Любая достигнутая ступень развития предстает с этой точки зрения как частично реализованный идеал, как фаза подчинения эмпирии власти мышления, силе идеи, творческой мощи понятия, — т.е. коллективного разума объединенных вокруг идей людей. В виде идеала всегда оформляется образ конкретной цели деятельности «рода», т.е. человечества на данной ступени его интеллектуального и нравственного развития. В составе идеала действительно представляются разрешенными главные, наиболее острые и окончательно назревшие всеобщие противоречия. «Дух» всегда осуществляет наличные проблемы, а не абстрактно-формальную цель «абсолютного совершенства», представляемого как неподвижное и лишенное жизни (стало быть, и противоречий) состояние.
Поскольку идеал определяется Гегелем в духе традиций немецкой классической философии как наглядно созерцаемый образ цели, дальнейшая разработка проблемы идеала переходит у него в эстетику, в систему определений «прекрасного». Осуществление идеала как «прекрасного» относится Гегелем, однако, к прошлому — к эпохе античного «царства прекрасной индивидуальности». Это связано с тем, что Гегель считает буржуазное (идеализированное им) развитие культуры завершением социальной истории людей. Теоретически увековечивая капиталистическое разделение труда, Гегель считает романтической мечтой, т.е. реакционным идеалом, идею всестороннего и целостного развития индивида. Но без этого идея «прекрасной индивидуальности» становится немыслимой даже чисто теоретически. Поэтому «прекрасное» (а тем самым и идеал как таковой) оказывается у Гегеля скорее образом прошлого человеческой культуры, нежели образом ее будущего.
Осуществление идеала как «прекрасного» относится Гегелем, однако, к прошлому — к эпохе античного «царства прекрасной индивидуальности». Это связано с тем, что Гегель считает буржуазное (идеализированное им) развитие культуры завершением социальной истории людей. Теоретически увековечивая капиталистическое разделение труда, Гегель считает романтической мечтой, т.е. реакционным идеалом, идею всестороннего и целостного развития индивида. Но без этого идея «прекрасной индивидуальности» становится немыслимой даже чисто теоретически. Поэтому «прекрасное» (а тем самым и идеал как таковой) оказывается у Гегеля скорее образом прошлого человеческой культуры, нежели образом ее будущего.
История убедительно показывает, Гегель считал, что не «запрет противоречия» и не «категорический императив» были теми идеалами, в погоне за коими люди построили здание цивилизации и культуры. Как раз наоборот, культура развивалась благодаря внутренним противоречиям, возникающим между научными тезисами и между людьми, через их борьбу. Диалектическое противоречие в самой сути дела, внутри его, а вовсе не маячащий где-то вечно «впереди» и вне деятельности «идеал», как по Канту есть та активная сила, которая рождает прогресс человеческого рода.
Диалектическое противоречие (столкновение двух тезисов — взаимно предполагающих и одновременно взаимно исключающих друг друга) [71] есть, по Гегелю, реальный верховный закон развития мышления, творящего культуру. И повиновение этому закону — высшая «правильность» мышления. Соответственно «правильным» путем развития нравственной сферы является также противоречие и борьба человека с человеком. Другое дело, что формы этой борьбы от века к веку становятся все более гуманными и что борьба вовсе не обязательно должна оборачиваться кровавой поножовщиной…
Итак, идеал, который проглядывал в результатах «Феноменологии духа», выглядел уже по-иному по сравнению с кантовским. Идеал — это не образ того «состояния мира», которое должно получиться лишь в бесконечном прогрессе.
Идеал — это самое движение вперед, рассматриваемое с точки зрения его всеобщих контуров и законов, которые постепенно, от века к веку, прорисовываются сквозь хаотическое переплетение событий и взглядов. Идеал – это вечное обновление духовного мира, «снимающее» каждое достигнутое им состояние.
Идеал не может заключаться в безмятежном, лишенном каких бы то ни было противоречий, абсолютном тождестве или единстве сознания и воли всех бесчисленных индивидов. Такой идеал — смерть духа, а не его живая жизнь. В каждом налично-достигнутом состоянии знания и нравственности мышление обнаруживает противоречие, доводит его до антиномической остроты и разрешает через установление нового, следующего, более высокого состояния духа и его мира. Поэтому любое данное состояние есть этап реализации высшего идеала, универсального идеала человеческого рода. Идеал реален здесь, на земле, в деятельности людей.
Гегель тем самым помог философии порвать с представлением об идеале как об иллюзии, которая вечно манит человека своей красотой, по вечно же его обманывает, оказываясь непримиримым антиподом «существующего» вообще. Идеал, то есть образ высшего совершенства, вполне достижим для человека. Но где и как?
В мышлении, ответил Гегель. В философско-теоретическом понимании «сути дела» и в конце концов — в Логике, в квинтэссенции этого понимания. На высотах диалектической логики человек равен богу — тому «абсолютному мировому духу», который до этого осуществлялся стихийно и мучительно в виде коллективного Разума миллионов людей, творившего историю. Тайной идеала и оказывается Идея, абсолютно-точный портрет, которой рисуется в Логике, в мышлении о мышлении. [72] Идеал и есть идея в ее «внешнем», зримом и осязаемом, воплощении, в ее чувственно-предметном бытии.
Неутомимый труженик-дух творит мировую историю, пользуясь человеком как орудием своего собственного воплощения во внешнем, природном материале. Это творчество в изображении Гегеля очень похоже на работу скульптора, который лепит из глины свой собственный автопортрет. Проделав такую работу, художник убеждается, что затея удалась ему лишь отчасти и что «внешнее изображение» в чем-то на него самого похоже, а в чем-то нет. Сравнивая готовый продукт своей деятельности с самим собой, скульптор видит, что в ходе зодчества он изменился, стал совершеннее, чем был до того, и портрет поэтому нуждается в дальнейшем усовершенствовании, в поправках. И тогда он снова принимается за работу, иногда ограничиваясь частными коррективами, иногда безжалостно ломая созданное, чтобы соорудить из обломков нечто лучшее. Так же и дух-творец (абсолютный, «мировой» дух) делает от эпохи к эпохе свое внешнее изображение все более и более похожим на себя самого, приводит и науку и нравственность ко все большему согласию с требованиями «чистого мышления», с Логикой Разума.
Проделав такую работу, художник убеждается, что затея удалась ему лишь отчасти и что «внешнее изображение» в чем-то на него самого похоже, а в чем-то нет. Сравнивая готовый продукт своей деятельности с самим собой, скульптор видит, что в ходе зодчества он изменился, стал совершеннее, чем был до того, и портрет поэтому нуждается в дальнейшем усовершенствовании, в поправках. И тогда он снова принимается за работу, иногда ограничиваясь частными коррективами, иногда безжалостно ломая созданное, чтобы соорудить из обломков нечто лучшее. Так же и дух-творец (абсолютный, «мировой» дух) делает от эпохи к эпохе свое внешнее изображение все более и более похожим на себя самого, приводит и науку и нравственность ко все большему согласию с требованиями «чистого мышления», с Логикой Разума.
Но — увы! — как бы мыслящий дух ни старался, как бы высоко ни выросло его мастерство, материя остается материей. Поэтому-то автопортрет духа-скульптора, выполненный в телесно-природном материале в виде государства, искусства, системы частных наук, в виде промышленности и т. д., никогда и не может стать абсолютным подобием своего творца. Идеал (то есть чистое диалектическое мышление) при его выражении в природном материале всегда деформируется в соответствии с требованиями этого материала, и продукт творческой деятельности духа всегда оказывается некоторым компромиссом идеала с мертвой материей.
Такой оборот мысли был естественнейшим выводом из диалектического идеализма. Иного результата диалектика дать не могла, не порывая с представлением, будто мировую историю творит чистый Разум, развивающий свои образы.
Человек, пытаясь воплотить идею в чувственно-природный материал, переходит к все более и более податливым и пластичным видам материала, ищет такую «материю», в которой дух воплощается полнее и легче. Сначала — гранит, в конце — воздух, колеблющийся в резонансе с тончайшими движениями «души», «духа»…
[73]
Подвергнув критике идеализм Гегеля, марксизм материалистически переработал диалектические идеи Гегеля относительно идеала, его состава, его роли в жизни общества и возможностей его конкретной реализации. Понимая под идеалом образ цели деятельности объединенных вокруг общей задачи людей, К. Маркс и Ф. Энгельс главное внимание обратили на исследование реальных условий жизни основных классов современного им (буржуазного) общества, на анализ тех реальных всеобщих потребностей, которые побуждают эти классы к деятельности и преломляются в их сознании в форме идеала. Идеал был впервые понят с точки зрения отражения противоречий развивающейся социальной действительности в головах людей, находящихся в тисках этих противоречий. В виде идеала в сознании всегда своеобразно отражается противоречивая социально-историческая ситуация, чреватая. назревшими, но не удовлетворяемыми потребностями более или менее широких масс людей, обществ, классов, групп. В виде идеала эти группы людей и создают для себя образ такой действительности, в рамках которого наличные, гнетущие их противоречия представляются преодоленными, «снятыми», и действительность изображена «очищенной» от этих противоречий, свободной от них. Это не значит, что в виде идеала следует представлять себе грядущее состояние лишенным каких бы то ни было противоречий развития. В идеале идеально разрешаются наличные, конкретно-исторические по существу и по происхождению, противоречия и поэтому идеал выступает как активная, организующая сознание людей сила, объединяющая их вокруг решения вполне определенных, конкретных, исторически назревших задач. Классы, реализующие прогресс всего общества, формируют соответственно прогрессивные идеалы собирающие под свои знамена всех активных людей, ищущих выхода из кризисных ситуаций. Таковыми были, например, идеал Великой французской революции, идеалы Великой Октябрьской социалистической революции.
Понимая под идеалом образ цели деятельности объединенных вокруг общей задачи людей, К. Маркс и Ф. Энгельс главное внимание обратили на исследование реальных условий жизни основных классов современного им (буржуазного) общества, на анализ тех реальных всеобщих потребностей, которые побуждают эти классы к деятельности и преломляются в их сознании в форме идеала. Идеал был впервые понят с точки зрения отражения противоречий развивающейся социальной действительности в головах людей, находящихся в тисках этих противоречий. В виде идеала в сознании всегда своеобразно отражается противоречивая социально-историческая ситуация, чреватая. назревшими, но не удовлетворяемыми потребностями более или менее широких масс людей, обществ, классов, групп. В виде идеала эти группы людей и создают для себя образ такой действительности, в рамках которого наличные, гнетущие их противоречия представляются преодоленными, «снятыми», и действительность изображена «очищенной» от этих противоречий, свободной от них. Это не значит, что в виде идеала следует представлять себе грядущее состояние лишенным каких бы то ни было противоречий развития. В идеале идеально разрешаются наличные, конкретно-исторические по существу и по происхождению, противоречия и поэтому идеал выступает как активная, организующая сознание людей сила, объединяющая их вокруг решения вполне определенных, конкретных, исторически назревших задач. Классы, реализующие прогресс всего общества, формируют соответственно прогрессивные идеалы собирающие под свои знамена всех активных людей, ищущих выхода из кризисных ситуаций. Таковыми были, например, идеал Великой французской революции, идеалы Великой Октябрьской социалистической революции.
По Марксу, человек есть единственный «субъект» исторического процесса, а труд людей (то есть чувственно-предметная деятельность, изменяющая природу сообразно их потребностям) — единственная «субстанция» всех «модусов», всех «частных» образов человеческой культуры. В свете этого понимания так называемая «сущность человека», выступающая для отдельного индивида как идеал, как мера его совершенства или несовершенства, представляет собой продукт совместной, коллективной трудовой деятельности многих поколений, но не продукт бога, Духа или природы. Та сумма производительных сил, капиталов и социальных форм [74] общения, которую каждый индивид и каждое поколение застают как нечто данное, есть реальная основа того, что философы представляли себе в виде «субстанции» и в виде «сущности человека», что они обожествляли и с чем боролись…», — читаем мы в «Немецкой идеологии» [Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т.3. С.37]. А в «Тезисах о Фейербахе» Маркс писал: «…Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений».
Та сумма производительных сил, капиталов и социальных форм [74] общения, которую каждый индивид и каждое поколение застают как нечто данное, есть реальная основа того, что философы представляли себе в виде «субстанции» и в виде «сущности человека», что они обожествляли и с чем боролись…», — читаем мы в «Немецкой идеологии» [Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т.3. С.37]. А в «Тезисах о Фейербахе» Маркс писал: «…Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений».
Таким образом, философское выражение относительно разлада «сущности человека» с «существованием» отдельных людей указывало в общей форме на противоречия в сложившейся системе разделения труда между людьми, внутри «совокупности всех общественных отношений».
Каждый из людей создает своим трудом только крохотный кусочек, фрагмент человеческой культуры и владеет лишь этим кусочком. Все же остальное богатство цивилизации остается для него чем-то «чужим», чем-то вне его находящимся и противостоит ему как «чуждая» (а при известных условиях и враждебная) сила. Насчет подлинной природы этой силы, давление которой он все время ощущает, человек и создает самые причудливые представления, называя ее то «богом», то «абсолютом», то «нравственным миропорядком», то «судьбой».
- [1] Идеал — (франц. ideal, от греч. idea — идея, первообраз), идеальный образ, определяющий способ мышления и деятельности человека или общественного класса. Формирование природы сообразно идеалу представляет собой специфически человеческую форму жизнедеятельности, ибо предполагает специальное создание образа цели деятельности до ее фактического осуществления.
Идеал эстетический — Краткий словарь по эстетике
ИДЕАЛ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ (фр. ideal от греч. idea образец, образ, норма) — исторически конкретное, чувственное представление или понятие о должном как прекрасном, материализуемое в искусстве, в практике общественной жизни и производственной деятельности людей. Эстетический идеал, как правило, органически связан с теми или иными сторонами и чертами исторически изменчивого общественного идеала, противоречивого в разделенном на классы обществе.
Эстетический идеал, как правило, органически связан с теми или иными сторонами и чертами исторически изменчивого общественного идеала, противоречивого в разделенном на классы обществе.
В домарксистской философии эстетический идеал преимущественно имел нормативный характер Обыкновенно он противополагался реальной жизни (прекрасное как обобщающая идея у Платона и т. д.). Даже в тех случаях, когда эстетический идеал подсказывался самой жизнью, он рассматривался неподвижно в качестве некоего «прообраза» (просветители Дидро, Лессинг). Как чувственное проявление идеи прекрасного определял эстетического идеала Гегель. С материалистической — марксистской точки зрения нормативные, зависимые в конечном счете от материальной жизни людей идеальные эстетические представления находятся в постоянном развитии и многообразно отображаются в искусстве.
Они связаны не только с тем, что изображает художник, но и как он это делает, какое отношение выражает к создаваемому им образному ряду произведения. Прекрасно-должное в данном случае иногда выступает в изображении такого общественного устройства, где наиболее полно раскрываются сущностные силы человека («Телемская обитель» у Рабле, «четвертый сон» Веры Павловны в романе «Что делать?» Чернышевского). В антагонистическом обществе, когда эстетический идеал расходится с существующим общественным устройством, развернутым воплощением позитивного идеала обычно служило утопическое изображение «золотого века», которое либо отодвигалось в мифическое прошлое, либо в столь же желаемое мифическое будущее.
Не менее полно идеал материализовался в виде его конкретного носителя — положительного или лирического героя, который иногда даже вопреки логике реальных обстоятельств торжествовал и утверждался как эталон совершенства, образец жизненного поведения. Сюда относится плеяда литературных героев от Прометея Эсхила до «новых людей» и «особенного человека» Чернышевского, статуи — каноны Поликлета, Лисиппа, скульптурные изваяния героев, канонические изображения святых и т.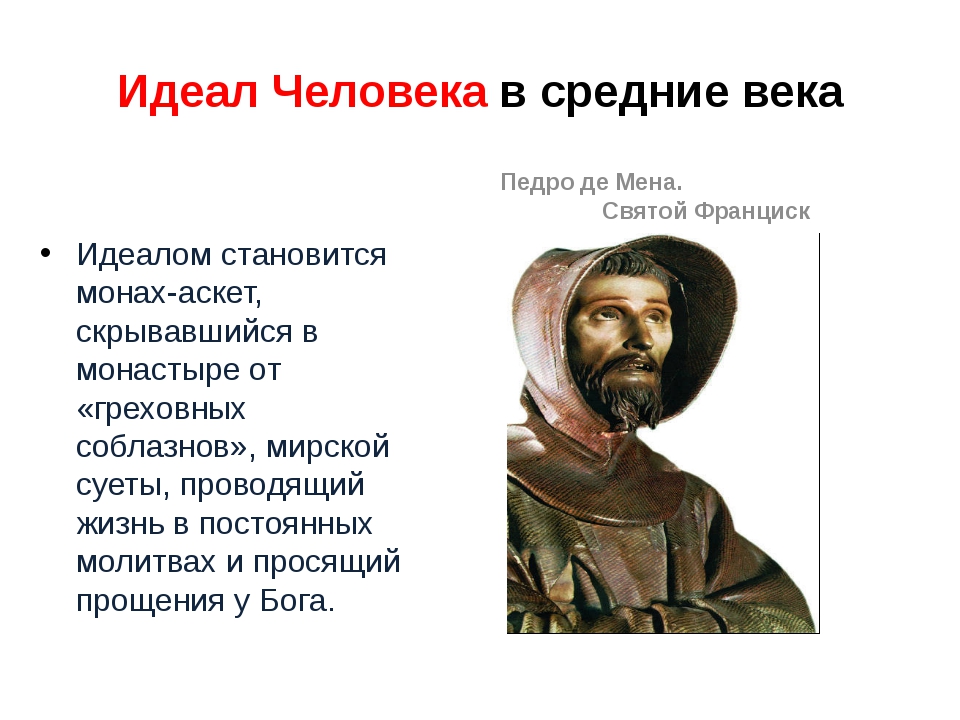 п.
п.
Представления об идеальных сторонах жизни, о самом эстетическом идеале зачастую отображаются в лирических стихах, в пейзажах, натюрмортах, музыкальных пьесах, программах симфоний. В опосредствованном виде позитивный идеальный настрой произведений каждый раз находит своеобразное выражение в методе художественного творчества (романтизм, реализм и т. д.). Этому же выражению в той или иной мере служит и форма художественных произведений. Она может героизировать, наделять мыслимым совершенством реальность жизни (классицизм), поэтизировать по сути прозаическую ее обыденность (романтизм, отдельные проявления символизма в различных видах искусства).
В то же время реалистическое искусство, как правило, вскрывает конкретные противоречия действительности, дает правдивое изображение положительных сил эпохи. Современное реакционное буржуазное искусство демонстрирует утрату позитивных общественных и эстетических идеалов. Этот процесс сказывается в том, что безобразное эстетизируется, т. е. изображается в дегуманизированном искусстве как прекрасное, место утопии занимает пессимистическая антиутопия.
Основополагающее значение идеала в искусстве и самой жизни подтверждает его место в системе ведущих категорий эстетики. По существу, эстетический идеал сливается с представлением о прекрасном, тогда как его отсутствие вызывает представление о безобразном и низменном, комическом и трагическом. В своем высшем значении эстетический идеал отображает возвышенное и героическое.
В условиях социализма эстетический идеал имеет тенденцию к слиянию с общественным идеалом и в первую очередь с нравственным идеалом. Воплощаясь в искусстве, эстетический идеал становится средством познания и преобразования действительности.
формирование и развитие цивилизационных стратегий Российской империи
В современных условиях актуальной задачей является обеспечение возможности для России самостоятельно и свободно определять для себя условия, формы и направления развития с учетом ее исторических, экономических, геополитических, социальных и ментальных особенностей.
Прежде чем непосредственно анализировать проблему социального идеала в России, напомним читателю, что понятие «цивилизация», на наш взгляд, фиксирует определенную стадию исторического развития, связанную с возникновением городов, письменности, государства, социальных классов и т. д.
различия между цивилизациями – это различия характеристик, которые задают способы государственной консолидации общества на основе объединения изначально несхожих культур и государственного упорядочивания повседневной жизни этого общества. Способы же эти представляют различные комбинации базовых государствообразующих элементов – силы, веры (в смысле интерпретации базовых социокультурных универсалий), закона и соответствующих им институтов. Их (то есть элементов и институтов) долговременно жизнеспособные конкретные сочетания и иерархии в обществе или группе обществ, в стране или группе стран мы и считаем возможным называть цивилизациями. Не суть важно при этом, на каких языках говорят народы данного социального объединения, неважно, какие религии они исповедуют. Определяющим в данном случае служит то, что в последнее время принято называть менталитетом, то есть системой взглядов на человека, общество, хозяйство, собственность, власть, на такие соотношения базовых социокультурных универсалий, как «коллектив» и «личность», «человек» и «государство», «производительный труд» и «жизненные цели», «свобода» и «власть» и т. п.
В данном случае термины «православная цивилизация» и «русская (российская) цивилизация», широко используемые современными обществоведами, не совсем корректны. Не думаем, что менталитет православной Византийской империи так уж схож с системой взглядов на мир россиянина Нового и новейшего времени. В виде религиозно-философского осмысления мира и общества православие пришло на Русь в XIII в. как учение почти внутрисемейной секты исихастов византийского царствующего рода Палеологов. До этого времени православие на Руси существовало лишь в виде обряда, призванного объединить разрозненные восточно-славянские племена. Исихазм, развитый в идеях православных патриархов времен Ивана Грозного и провозглашавший эманацию божественной сущности от Бога до государя и далее – до государства и общины, и лег в основу русского понимания мира, в основу русской государственности[1].
Исихазм, развитый в идеях православных патриархов времен Ивана Грозного и провозглашавший эманацию божественной сущности от Бога до государя и далее – до государства и общины, и лег в основу русского понимания мира, в основу русской государственности[1].
Смута начала XVII в. выявила историческую исчерпанность цивилизационного синтеза надзаконной силы и православной веры, на котором базировалась московская государственность Рюриковичей. Дефицит силы, обнаружившийся еще в ходе проигранной Иваном Грозным Ливонской войны, стал очевидным – у государства не хватало ресурсов не только для ведения войн, но и для упорядочивания внутренней жизни. И, как стало ясно уже Борису Годунову, устранить этот дефицит без заимствования европейских знаний и технологий было невозможно.
Тем более бесспорной была необходимость таких заимствований для воцарившихся после Смуты Романовых. Именно им предстояло осуществить коррекцию цивилизационного выбора страны посредством ее вестернизации, которую они осуществляли последовательно, углубляя на всем протяжении своего трехсотлетнего царствования. Поэтому мы и рассматриваем весь период их правления как нечто целостное и одновекторное. Есть достаточно оснований для того, чтобы отделять Петра I от первых Романовых. Но с цивилизационной точки зрения они были не столько последователями Рюриковичей, сколько предтечами Петра.
Наращивание силы с помощью заимствования и освоения чужой культуры грозило, однако, серьезным конфликтом с верой. Такой конфликт был не просто нежелателен – он был недопустим. И потому, что препятствовал обретению новой династией – выборной, а не «природной» – сакральности династии прежней. И потому, что вера во времена Смуты оказалась одним из главных источников народной силы, которая помогла восстановить обвалившуюся государственность. Отсюда – новизна цивилизационной стратегии первых Романовых и ее разнонаправленность.
Чтобы восполнить дефицит силы, они должны были открыть дорогу в страну не только европейским знаниям и технологиям, но и новому для Руси толкованию принципа законности, поставив власть под его защиту в Соборном уложении Алексея Михайловича.
С другой стороны, ради достижения той же цели им приходилось искать опору в вере и повышать статус церкви: возведение ее руководителей в ранг вторых государей, имевшее место при первых двух Романовых, в Московии Рюриковичей было немыслимо. Заимствование культурно чужого при возведении дополнительных бастионов для защиты от него, включая административное насаждение православного благочестия, – такова была эта новая цивилизационная стратегия, главная роль в которой отводилась вере. Именно она призвана была нейтрализовать последствия начавшейся вестернизации, угрожавшей национально-государственной идентичности Руси.
Однако вера, даже будучи соединенной с законом, не могла вернуть восстановленному самодержавию его прежнюю силу и соответственно полноту власти над подданными, потому что сама ее былая полнота обусловливалась и тем, что Русь, освободившись при Рюриковичах от монголов, обрела в глазах элиты и населения религиозно освященный универсальный статус, соответствовавший представлению об истинности московской православной веры в противовес ложности других вероисповеданий. Идея «Третьего Рима» как единственного земного царства, предназначенного к спасению, – это идея универсального, воплотившегося в локальном пространстве Московской Руси. Именно данным обстоятельством объяснялась во многом сила ее князей и царей, власть которых не могла быть поколеблена даже ужасами и опустошительными последствиями опричнины и Ливонской войны. Но уже само ввязывание Ивана Грозного в эту войну, равно как и предшествовавшие ей походы на Казань и Астрахань, свидетельствовало о том, что претензия на религиозную универсальность и избранность требовала подтверждения военными победами над иноверцами, а не-ограниченная власть государя внутри страны – дополнительной легитимации его успехами на внешней арене.
Понятно, что новая династия нуждалась в таких подтверждениях еще больше. И не только потому, что ее сила не шла первоначально ни в какое сравнение с силой Рюриковичей.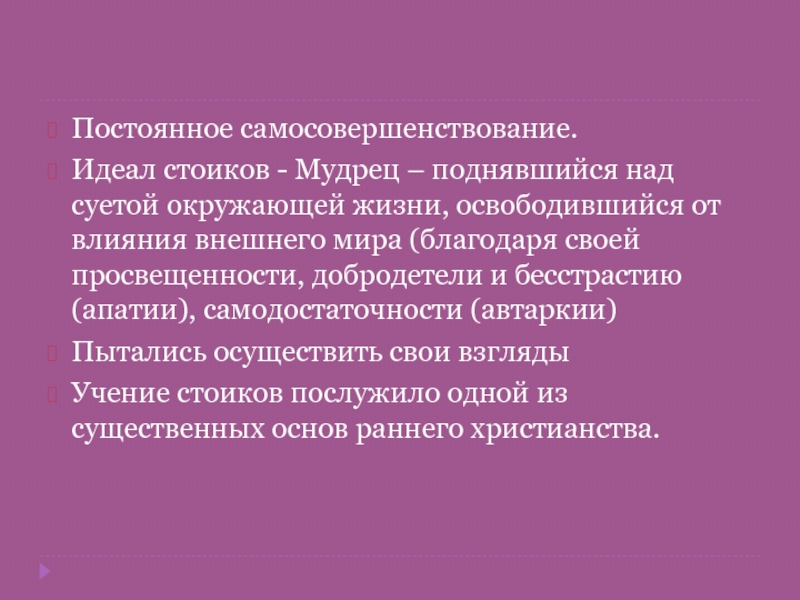 Главная трудность в выстраивании цивилизационной стратегии заключалась именно в том, что Романовым в отличие от Рюриковичей для укрепления материальных устоев «Третьего Рима» приходилось подтачивать его духовные устои инокультурными нововведениями. Последние ставили под вопрос и цивилизационную самодостаточность Руси, и ее богоизбранность, а значит, и ее притязания на универсальный статус.
Главная трудность в выстраивании цивилизационной стратегии заключалась именно в том, что Романовым в отличие от Рюриковичей для укрепления материальных устоев «Третьего Рима» приходилось подтачивать его духовные устои инокультурными нововведениями. Последние ставили под вопрос и цивилизационную самодостаточность Руси, и ее богоизбранность, а значит, и ее притязания на универсальный статус.
Путь, по которому двинулись Романовы, – это путь принципиально иной, чем прежде, универсализации веры посредством расширения локально-московского цивилизационного пространства до общеправославного с центром не в Москве, а в Константинополе. Такая переориентация потребовала приведения богослужения и церковных книг в соответствие с исходным греческим каноном, что было воспринято многими как вероотступничество и привело в конечном счете к религиозному расколу.
Начиная вестернизацию, Москва не ощущала способности собственными силами противостоять духовному влиянию католической и протестантской Европы. Чтобы противостоять, нужны были знания, которых на Руси не было; ее богословская культура находилась в зачаточном состоянии. Особенно заметным это отставание стало после присоединения Украины: в вопросах веры Москва не только не могла претендовать на лидерство по отношению к Киеву, но и вынуждена была пойти к нему в ученичество.
Православной Украине, находившейся в составе Речи Посполитой, ради сохранения своей религиозной идентичности пришлось вступить в жесткую конкуренцию с католицизмом. На ее территории действовал орден иезуитов, строивший школы с бесплатным образованием, устраивавший диспуты, на которых его представители демонстрировали свое превосходство в знаниях, аргументации, полемической изощренности. Украинская православная церковь ответила развитием собственного академического образования и ко времени присоединения к Московской Руси успела сформировать высокообразованную духовную элиту. Приглашение ее представителей в Москву в качестве учителей и сыграло роль культурного моста между Русью и Византией.
Такая опосредованная – через украинскую духовную элиту – связь с греками не могла остановить движение к религиозному и церковному расколу: украинцев, как и греков, в Московии подо-зревали в подверженности католическому влиянию. Но это не заставило отказаться и от выбранного цивилизационного вектора, ориентированного на Византию, – в этом направлении продолжали двигаться и после того, как раскол стал фактом. Соответственно главным звеном цивилизационной стратегии на всем протяжении XVII столетия оставалась вера.
Эта стратегия – в различных формах и с временными отступлениями от нее – будет сопутствовать всему трехсотлетнему правлению династии Романовых. С нее она начинала, ею и закончит свой исторический век, так и не сумев реализовать ее. Отказаться от нее Романовы не смогут, что свидетельствует о цивилизационной несамодостаточности России, дефиците у нее собственного символического капитала. Но и осуществить эту стратегию не смогут тоже – для осуществления не хватит силовых ресурсов. Даже после того, как Петр I, сместив акценты с веры на силу, совершит в данном отношении радикальный прорыв, России суждено будет остаться страной нереализованных цивилизационных проектов.
Петр отказался от византийской или, что то же самое, антитурецкой ориентации своих предшественников, хотя и не сразу. Начал он с азовских походов – историческая и культурная инерция давала о себе знать. Но возможностей в одиночку воевать с Турцией у страны еще не было, а союзников в Европе Петру приобрести не удалось. Вместе с тем длительная поездка за границу убедила царя в бесперспективности цивилизационной стратегии его предшественницы Софьи, суть которой заключалась в европеизации через Украину и Польшу, в заимствовании у первой способов противостояния католическому влиянию, а у второй – ее светской культуры. В условиях религиозного раскола и при ослабленной им церкви такая ориентация не вела ни к восстановлению духовной консолидации, ни к легитимации культурных и технологических заимствований. Говоря иначе, она не способствовала наращиванию государственной силы и военной конкурентоспособности, что было главной целью предшественников Петра, правивших страной после смуты. Это и предопределило осуществленную им радикальную ревизию цивилизационного выбора.
Говоря иначе, она не способствовала наращиванию государственной силы и военной конкурентоспособности, что было главной целью предшественников Петра, правивших страной после смуты. Это и предопределило осуществленную им радикальную ревизию цивилизационного выбора.
Главную ставку Петр сделал на протестантский север Европы. Не в смысле духовного подчинения ему и даже не в смысле поиска места в нем России, а ради форсированного перенесения на русскую почву и военного использования его достижений. Это мотивировалось тем, что протестантский мир стал к тому времени лидером модернизации, а протестантизм не вызывал на Руси такого неприятия и отторжения, как католическое «латинство». Но религиозная мотивация не была в выборе царя определяющей. В петровской России сила отделилась от веры и стала наращиваться помимо нее и даже вопреки ей, что нашло свое институциональное воплощение в ликвидации должности патриарха и превращении церкви в один из государственных департаментов.
Следуя западным образцам, Петр преобразовал религиозное государство в светское, сместив функции упорядочивания в нем от веры к закону. Это соответствовало начавшемуся в Европе движению из первого осевого времени во второе и сопутствовавшим такому движению цивилизационным сдвигам. Именно закон стал в руках реформатора тем инструментом, с помощью которого он осуществил вестернизацию жизненного уклада элиты, принуждая ее к освоению европейских знаний и европейской культуры. Петр пытался придать этому инструменту универсальное значение, декларируя обязательность законопослушания для всех, включая самого себя; при нем даже власть самодержавного царя впервые стала легитимироваться не от имени Бога, а от имени закона. Однако реально она оставалась надзаконной силой, легитимность которой была обеспечена главным образом военными победами Петра. Последние же стали возможны благодаря тотальной милитаризации страны и созданию необходимых для этого институтов: постоянной армии, гвардии, службы тайной полиции. Отсюда, в свою очередь, следует, что Петр, строго говоря, никакого нового цивилизационного качества после себя не оставил: он создал государство, приспособленное для войны, между тем как цивилизационное своеобразие обнаруживает себя лишь в условиях мирной повседневности.
Отсюда, в свою очередь, следует, что Петр, строго говоря, никакого нового цивилизационного качества после себя не оставил: он создал государство, приспособленное для войны, между тем как цивилизационное своеобразие обнаруживает себя лишь в условиях мирной повседневности.
Принцип законности, введенный реформатором в русскую государственную жизнь, не интегрировал Россию в европейское цивилизационное пространство в том числе и потому, что в интерпретации Петра принцип этот не только исключал идею гражданских прав, но и предполагал узаконенное всеобщее бесправие. Преемники Петра довольно быстро осознали, что на таком милитаристском фундаменте долговременно устойчивая государственность существовать не может, и приступили к ее демилитаризации. С цивилизационной точки зрения это означало, что через «прорубленное» реформатором «окно» они двинулись в Европу – не столько ради новых завоеваний, сколько ради освоения и перенесения в Россию базовых оснований ее жизнеустройства. Такое движение в России Романовых продолжалось – с учетом происходивших в самой Европе изменений – в течение всего послепетровского периода. Не без временных откатов, но продолжалось.
Европеизация отечественной государственности осуществлялась в двух основных направлениях.
С одной стороны, универсальность принципа законности из декларативной постепенно – и тоже не без отступлений и исторических зигзагов – превращалась в реальную, распространявшуюся в том числе и на самого самодержца. Сохранившаяся за ним законодательная монополия не отменяла того факта, что в ее границах происходили существенные изменения.
С другой стороны, европеизация российской государственности проявлялась в движении от тотального бесправия к узакониванию прав: сначала в локально-сословном, дворянском, а начиная с 1861 г. – и в общенациональном масштабе. Постепенное придание им статуса всеобщности наряду с универсализацией законности позволяет говорить о том, что послепетровская Россия вслед за Европой осваивала цивилизационные принципы второго осевого времени. Однако частью европейской цивилизации она так и не стала, как не стала и цивилизацией особой и самодостаточной. Культурно расколотая страна, постоянно углубляющая раскол новыми инокультурными заимствованиями, не может обрести собственную цивилизационную идентичность. Она обречена на то, чтобы искать эту идентичность вовне. И Россия продолжала искать ее вплоть до большевистского переворота. Магистральное же направление поиска оставалось тем же, что и во времена Алексея Михайловича. Направление оставалось византийским. Без освобождения от турок Константинополя и установления контроля над ним особый цивилизационный статус России не воспринимался ни достигнутым, ни обеспеченным.
Однако частью европейской цивилизации она так и не стала, как не стала и цивилизацией особой и самодостаточной. Культурно расколотая страна, постоянно углубляющая раскол новыми инокультурными заимствованиями, не может обрести собственную цивилизационную идентичность. Она обречена на то, чтобы искать эту идентичность вовне. И Россия продолжала искать ее вплоть до большевистского переворота. Магистральное же направление поиска оставалось тем же, что и во времена Алексея Михайловича. Направление оставалось византийским. Без освобождения от турок Константинополя и установления контроля над ним особый цивилизационный статус России не воспринимался ни достигнутым, ни обеспеченным.
Резкий поворот Петра в сторону протестантского Запада и успешное освоение его достижений, превратившее страну в сильную и влиятельную военную державу, сами по себе не предопределяли места православной России в католическо-протестантском европейском цивилизационном пространстве, потому что трансформация религиозной государственности в светскую не устраняет религиозную компоненту цивилизационной идентичности. Тем более интересно, что религиозно нейтральные проекты в России все же выдвигались. Интересны же они не тем, что не реализовались и реализоваться не могли, а тем, что появлялись и проводились в жизнь в царствование Екатерины II, отмеченное самым целенаправленным поиском места России внутри европейского цивилизационного пространства.
Первый проект, осуществлявшийся в начале екатерининского царствования и получивший название «северной системы», предполагал обретение Россией места в европейской цивилизации при абстрагировании от своей православной идентичности, но с учетом религиозных различий в Европе. Это было продолжением внешнеполитического курса Петра I: идея «северной системы» заключалась в создании союза с протестантскими странами (Англией и Пруссией с подключением Дании), противостоящего европейскому католическому миру (Франции, Австрии и Испании). Однако к обретению цивилизационной идентичности такая стратегия не вела и не привела: найти своего места в Европе России не удалось.
С ее державной силой европейцы не могли не считаться, в спорах и конфликтах между собой они готовы были искать и искали ее поддержки. Но достаточных культурных предпосылок для выстраивания единой цивилизационной стратегии с Россией не было ни у католических, ни у протестантских государств. При таком положении вещей решающее значение приобретала политическая прагматика, понуждавшая в то время Петербург к сближению не с Лондоном и Берлином, а с Веной: Австрия граничила с Польшей и Турцией – ближайшими соседями России, отношения и конфликты с которыми в значительной степени определяли направление ее внешней политики. Поэтому «северная система» рухнула, не успев сложиться. Цивилизационный проект, продолжавший линию Петра, оказался несостоятельным.
Однако поиск цивилизационной идентичности на этом не только не завершился, но стал еще более энергичным и целеустремленным. Неудачи на севере возвращали российскую политическую элиту на южное направление, к допетровским планам относительно Византии. С той, правда, существенной разницей, что теперь эти планы утратили религиозную окраску: Екатерина пыталась выстроить цивилизационную стратегию светского государства, созданного Петром.
Данная стратегия, вошедшая в историю под именем «греческого проекта», оформилась под влиянием военной победы России над турками, а последовавшее затем присоединение Крыма стало фактическим началом ее реализации. Не вдаваясь в детали этого проекта и идеологические тонкости его обоснования, отметим лишь то, что он не подразумевал уже присоединения Константинополя к России, а тем более – переноса туда ее столицы. Речь шла о том, что императорский престол в освобожденной от османов Греции должен был занять, став родоначальником правящей династии, внук императрицы царевич Константин, которому и имя было дано с учетом его будущей миссии. Тем самым предполагалось не просто обеспечить союз Греции и России при верховенстве последней. Предполагалось, что Россия, будучи наследницей православной Византии, станет и наследницей ее предшественницы, то есть Древней Греции и ее цивилизации. Станет, говоря иначе, преемницей не только Константинополя, но и Афин, – неспроста последние тоже рассматривались как претенденты на роль столицы возрожденной Греции.
При осуществлении «греческого проекта» вопрос о месте России в Европе снимался сам собой: в этом случае она получала возможность прочно обосноваться не только в европейском пространстве, но и в европейском времени. Более того, государство, находившееся в преемственной связи с древними Афинами, оказывалось укорененным в этом времени глубже, чем государства западноевропейские, ибо те считались и считали себя сами преемниками более позднего – по отношению к Афинам – Рима.
Политическая прагматика гораздо лучше соотносилась с «греческим проектом», чем с «северной системой». Если роль преемницы Афин Екатерина отводила России, то преемницей Рима в ее стратегии выступала Австрия, правители которой сохраняли титул императоров Священной Римской империи. Религиозные различия между странами отодвигались при этом на второй план: в эпоху утверждения светских государств истинность веры не воспринималась уже как определяющий критерий, на основании которого можно судить об оправданности их международных амбиций.
Союз, заключенный с Австрией, и ее готовность участвовать в разделе Османской империи не означали, однако, что «греческий проект» имел шансы на осуществление. Его реализация привела бы к резкому изменению баланса сил в Европе, что не могло получить поддержки у других держав, противостоять которым Россия и Австрия были не в состоянии. «Греческий проект» Екатерины – это впечатляющая утопия, после смерти императрицы почти сразу и навсегда забытая и оставившая после себя разве что греческие названия крымских городов, данные им вместо прежних татарских. Но именно его заведомая утопичность, не замеченная чуждой прожектерства Екатериной, позволяет лучше понять, насколько острым и актуальным воспринимался в России после обретения ею державного статуса вопрос цивилизационной идентичности. Поэтому разработка новых цивилизационных стратегий продолжилась и в постекатерининские времена.
Суть этих стратегий при всех их различиях сводилась, однако, к одному и тому же, а именно – к возвращению веры, отодвинутой Петром I на периферию государственной жизни, при сохранении и упрочении петровского синтеза силы и законности. То были ответы на вызовы, шедшие из революционной Европы и понуждавшие к коррекции внутренней и внешней политики и ее идеологических обоснований.
Россия располагала достаточной силой, чтобы претендовать на восстановление в Европе монархической законности, поколебленной французской революцией и последовавшей за ней экспансией Наполеона в соседние (и не только соседние) страны. Унаследованная от Петра I и его преемников державная мощь позволяла, как казалось, оставить в прошлом послепетровские поиски своего места в европейской цивилизации и выступить в роли ее спасителя, обеспечив тем самым доминирование в ней. Единственное, чего для этого не хватало, – духовно-культурной составляющей, без которой любые цивилизационные проекты, предполагающие консолидацию разных стран, заведомо несостоятельны.
Православие на такую консолидирующую роль претендовать не могло – навязать его католическо-протестантской Европе было невозможно. Поэтому при императоре Павле начала оформляться новая цивилизационная стратегия, которая обрела законченный вид при Александре I в учрежденном по его инициативе Священном союзе. Об этом мы уже говорили. Здесь же достаточно повторить, что речь шла о возвращении в государственную идеологию религиозной веры, в которой конфессиональное своеобразие православия отодвигалось на второй план ради утверждения общехристианской цивилизационной общности при главной роли в ней России.
Уязвимость новой стратегии заключалась в том, что она основывалась на превосходстве в силе и потому вовлеченными в ее осуществление Австрией и Пруссией воспринималась не как добровольный стратегический выбор, а как вынужденная временная необходимость. Уязвимость ее заключалась и в том, что она не имела глубоких культурных корней и в самой России. Опираясь на державную идентичность, актуализированную войной с Наполеоном и победой над ним, стратегия эта не соотносилась с идентичностью православной и соответственно с большинством населения страны.
Между тем разгром Наполеона, его изгнание из Франции и восстановление там монархии не подвели исторической черты под революционной эпохой: революции вспыхивали в разных концах Европы снова и снова. Россия, до которой они еще не докатились, стала искать способы их предупреждения. Это привело к очередной коррекции ее цивилизационной стратегии.
Учитывая, что Европу сотрясали массовые движения вырывавшихся из-под правительственного контроля народных низов, новая стратегия была ориентирована именно на народ и его идентичность. Надконфессиональный христианский универсализм Священного союза с ней не сочетался. Не соотносилось с этой идентичностью и возвращение к светской государственности Петра, синтезировавшей силу и закон при маргинализации веры. Ответом на шедшие из Европы вызовы стала частичная реанимация идеологических основ государственности допетровской, то есть религиозно-православной. Формула графа Уварова: «православие, самодержавие, народность», – переодевавшая Петербургскую Россию в идеологическое платье Московской Руси, возрождала государственный статус веры и ее главную роль в обеспечении духовного единения власти и народа. Но одновременно эта формула была и заявкой на новый цивилизационный проект, альтернативный цивилизации европейской, которая в пору обрушившихся на нее революционных потрясений многим в России стала казаться лишенной будущего. Это был проект самобытной российской цивилизации, призванной и способной предотвращать революции.
Неосознававшаяся парадоксальность такой стратегии заключалась в том, что цивилизационное здание предполагалось возвести на фундаменте культуры, цивилизацией не затронутой. Его предполагалось возвести на почве архаичной культуры крестьянского большинства, законсервированного в догосударственном состоянии. «Замораживание» передельно-общинного жизненного уклада блокировало универсализацию принципа законности, а тем самым – укоренение народного большинства в цивилизации первого осевого времени, не говоря уже о втором. Славянофильская апология совести как более высокой, чем закон, инстанции реально представляла собой романтизацию локального и неформализованного обычного права, по которому продолжала жить российская деревня. Если учесть, что в некрестьянских слоях населения со времен Петра I принцип законности постепенно приживался и даже доводился до узаконивания сословных прав, то суть очередного цивилизационного проекта Романовых станет очевидной.
Это был проект сохранения статус-кво, переводивший культурный раскол в раскол цивилизационный. Но расколотая цивилизация не может считаться цивилизацией по определению.
Революцию, ради предотвращения которой был выдвинут и осуществлялся данный проект, с его помощью предотвратить не удалось. Поэтому его пришлось признать несостоятельным. Но и заменить его оказалось нечем. Вынужденная универсализация принципа законности, распространение его на до того неприкосновенное самодержавие, которое после 1905 г. впервые было ограничено юридически, было равнозначно констатации цивилизационной несамодостаточности России Романовых: ограничение самодержавия лишало ее единственного субъекта самобытного цивилизационного проектирования. Об этой несамодостаточности свидетельствовало и столь же вынужденное законодательное расширение гражданских прав, доведенное до права свободного выхода из общины. То было движение в сторону другой, европейской, цивилизации, входившей во второе осевое время. Но в условиях, когда народное большинство прочно не обосновалось еще и в первом, европеизация страны натолкнулась на препятствия, оказавшиеся непреодолимыми.
Когда сегодня говорят об «уникальной российской цивилизации», хочется понять, о чем именно идет речь. Ведь в поисках цивилизационного своеобразия Россия на протяжении своей истории использовала различные комбинации силы, веры и закона, ни одна из которых не стала окончательной и каждая из которых в значительной степени подвергала ревизии, порой радикальной, комбинацию предыдущую.
Можно ли, например, считать, что православно-византийская стратегия Алексея Михайловича и религиозно-нейтральный «греческий проект» Екатерины II лежат в одной цивилизационной плоскости? Что у них общего – кроме того, разумеется, что оба они выдвигались самодержавной властью?
Можно ли, далее, утверждать, что своеобразие российской цивилизации включает в себя ту комбинацию силы и узаконенного всеобщего бесправия, которая была характерна для милитаристской государственности Петра, или то сочетание силы, узаконенных прав и чрезвычайных законов, защищавших государство от общества, которое сложилось после реформ Александра II?
Имеют ли, наконец, какое-то отношение к уникальности российской цивилизации те юридические ограничения самодержавия, которыми было отмечено последнее десятилетие Романовых, и те законы, которые демонтировали сельскую общину? Это подтверж-дение уникальности или отступление от нее (если да, то в каком направлении)?
И последнее: как оценить тот факт, что именно настаивание на цивилизационной особости и исключительности обернулось для России катастрофой 1917 г.?
Отечественная элита продолжала придерживаться самобытной цивилизационной стратегии на протяжении всех пореформенных десятилетий, пытаясь синтезировать ее православную компоненту с панславистской. Верхи российского общества не могли примириться с тем, что русская государственность начиная с Крымской войны обнаружила упадок своей былой силы – не только в отношениях с другими странами, но и внутри собственной страны. Этот дефицит силы элита надеялась, как и во времена Алексея Михайловича, восполнить посредством укрепления веры. Изгнание из нее турок открывало, как казалось, историческую дорогу к объединению православного славянского мира под эгидой России, а тем самым и дорогу к альтернативной по отношению к Европе цивили-зации.
Конечным результатом такой ориентации оказалось, как известно, втягивание России в Первую мировую войну, поражение в которой и вынесет окончательный приговор православно-пансла-вистской цивилизационной стратегии. То была инерционная попытка пролонгации религиозного универсализма первого осевого времени в условиях, когда и сама Россия успела уже далеко продвинуться в освоении принципов второго, подтверждая тем самым основательность притязаний этих принципов на универсальность, альтернативную религиозной. Так что же все-таки имеется в виду, когда говорится об «уникальной российской цивилизации»? Жизненная реальность или невоплощенные проекты?
Впрочем, то, что не удалось Романовым, а потом и унаследовавшему мечту о Константинополе Временному правительству, через три десятилетия после отречения от престола их последнего представителя России все же удастся частично осуществить. Константинополь ей, правда, так и не достанется, но почти весь славянский мир окажется под ее контролем. Это будет сделано в ходе реализации другого цивилизационного проекта, вошедшего в историю под именем коммунистического. Однако его жизнь окажется по историческим меркам совсем недолгой, а вопрос о цивилизационном выборе и для посткоммунистической России остается открытым.
Династии Романовых, принявшей страну после Смуты, предстояло восстановить и укрепить поколебленную государственность, обеспечить внутреннюю стабильность и военно-технологическую конкурентоспособность на внешней арене. Решая эти задачи, Романовым с самого начала приходилось осуществлять преобразования, которые задали вектор развития России на столетия вперед, предопределив как ее последующие достижения, так и трудности, с которыми она столкнется и которые в конечном счете окажутся неодолимыми.
Эту идею Романовы пронесли через все свое трехвековое царствование. Она оформлялась в разные цивилизационные проекты – религиозные и светские, ни один из которых осуществить не удалось. Такая же участь постигла в конечном счете и «неконстантинопольский» проект Священного союза, выдвинутый Александром I и предполагавший формирование общехристианской цивилизационной общности под эгидой России. Но уже сам факт такого перманентного проектирования свидетельствовал о цивилизационной несамодостаточности России. Чтобы обрести цивилизационную идентичность, недостаточно ни громких военных побед, ни огромной и постоянно приращиваемой территории. Для этого нужно иметь фиксированное место не только в мировом пространстве, но и в мировом времени, для чего, в свою очередь, необходим и соответствующий символический капитал.
У России, принявшей веру от греков, побежденных и подчиненных впоследствии иноверцами-турками, такого капитала не было. Его приходилось искать вовне. Иными словами, чтобы обрести свое место в мировом историческом времени, нужно было приобрести ту часть мирового пространства, овладение которой символизировало бы укорененность в мировом времени. Византия была такой частью. Но овладеть ею России не удалось. Ее притязания на Константинополь закончились втягиванием в мировую войну и обвалом государственности.
Вопрос об обретении цивилизационной идентичности вставал перед Россией Романовых тем острее, чем дальше они продвигались – добровольно или вынужденно – по пути европеизации, переходя от заимствования научных знаний и технологий к заимствованию принципов европейского жизнеустройства, потому что эти принципы плохо соотносились с основополагающими принципами самодержавия – главного и единственного политического инструмента, скреплявшего расколотый социум. Пока цивилизационные проекты представляли собой различные комбинации силы и веры, а закон был лишь вспомогательным средством защиты власти от бесправных подданных, находившимся под контролем самодержца, они фундамент государственности не затрагивали. Но в нем образовались трещины, когда при Екатерине II появились законы, отмене не подлежавшие и государевой воле неподвластные. Инородным телом в самодержавной государственности были и защищенные законом гражданские права. Они были инородными уже тогда, когда предоставлялись как сословные привилегии, а тем более становились таковыми по мере распространения на все население и доведения до прав политических.
Послепетровские цивилизационные проекты Романовых призваны были идеологически интегрировать в российскую государственность европейские цивилизационные принципы второго осевого времени, придававшие закону и правам личности универсальное значение. Но универсальность закона и права вступала в неразрешимый конфликт с универсальностью самодержавия. Гибридные политические идеалы, соединявшие самодержавно-авторитарный принцип с либеральным и демократическим, ставили эту универсальность под сомнение.
Их воплощение в жизнь, европеизируя Россию, в европейскую цивилизацию ее не вводило. И не только потому, что подавляющее большинство населения страны к началу XX столетия не обосновалось еще в первом осевом времени, не освоило письменную культуру и руководствовалось в своей повседневной жизни обычаем, а не законом. Европейская цивилизация двигалась от примата государства к приоритету личности, права которой узаконивались как естественные, данные человеку от рождения. Романовы же пытались соединить права личности с верховенством государства в лице самодержавной власти. Поэтому эти права считались не естественными, а дарованными. И поэтому же самодержавие, на исходе своего исторического срока юридически себя ограничив и изъяв слово «неограниченное» из законодательства, сохранило за собой статус самодержавия. Но то были паллиативы, свидетельствовавшие о том, что страна, заимствуя цивилизационные принципы европейского жизнеустройства, пыталась сохранить и свою собственную цивилизационную идентичность, которую, однако, так и не сумела обрести.
После того, как обнаружили свою несостоятельность светские проекты Екатерины II и стала осознаваться стратегическая ненадежность общехристианского Священного союза, у Романовых оставался для цивилизационного проектирования единственный ресурс – православная вера. Поэтому они стремились возродить ее былую государственную роль, переодевая светскую государственность Петра I в старомосковские религиозные одежды. Но вера могла обеспечить России особый цивилизационный статус, то есть укоренить ее в мировом историческом времени, только в случае объединения под ее патронажем всех православных народов и овладения символическим капиталом находившейся под властью османов Византии. Это означало ставку на войну, выиграть которую России было не суждено. Неудачи же в войне привели к крушению последнего цивилизационного проекта Романовых и выявили исчерпанность исторических ресурсов, которыми располагала отечественная самодержавно-монархическая государственность.
[1] Прохоров, Г. М. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. – М., 1978. – С. 3–4.
Нравственный идеал – недостижимое, но необходимое условие индивидуального и общественного бытия
Понятие нравственного идеала
Определение 1
Нравственный идеал – это тип представления людей о совершенной личности, которая воплощает в себе лучшие моральные качества и представляет собой образец для подражания, эталон поведения; цель, на достижение которой человек должен направлять все усилия.
Основой нравственного идеала выступает неудовлетворенность людей собственной жизнью, стремление ее улучшить, достичь счастья через нравственное самосовершенствование или преобразование существующей действительности.
Содержание нравственного идеала может изменяться, в нем отражены потребности и стремления людей, живущих в разные исторические эпохи. Олицетворением нравственного идеала можно считать легендарную личность – Христа, или исторического деятеля и мыслителя – Сократа , литературного персонажа – Овода, либо реально живущего человека – часто это киноактер. При этом образ морально совершенной личности, являющийся законченным образцом, готовой моделью поведения, не может содержать в себе все богатство моральных качеств, черт характера, которые имеют положительное значение для других людей. В связи с этим человек в своей жизни стремится не только к достижению того или иного нравственного идеала, но и руководствовался такими моральными принципами и законами, позволяющими ему свободнее принимать самостоятельные решения относительно конкретных ситуаций и соответствовали собственным убеждениям.
Нравственный идеал находится в тесной связи с общественным идеалом, так как выполнение многих моральных требований, обращенных к личности, например, быть справедливым, невозможно без перемен в самом обществе. Помимо этого, понятие справедливости относится не только к человеку, оно является базисом и общественного идеала как представления о совершенном и наилучшем общественном устройстве.
Понятие «нравственный идеал» в своем историческом развитии выступает как непременная составляющая духовной культуры, которая, в свою очередь, отражена в повседневных событиях, в произведениях искусства, религиозных и научных трудах. Рассматривая это положение необходимо прийти к понятию нравственного идеала.
Идеал – это:
- наиболее общее, универсальное и абсолютное нравственное представление о благом и должном;
- образ совершенства в межличностных отношениях;
- высший безусловный образец нравственной личности.
В философском словаре дано следующее определение:
Определение 2
Нравственный идеал – это представления о нравственном совершенстве, которое чаще всего выражается образом личности, воплощающее моральные качества, которые могут выступать как высший моральный образец.
Рассматривая нравственные системы, особенно важно понимать соотношение в них действительности и идеал. К такой точке зрения показательны два исторически сложившихся подхода – натуралистический и трансцендентальный. В рамках натуралистического подхода выделяют три трактовки термина «идеал»:
- рассмотрение идеала в качестве результата обобщения и абсолютизации того, что является предметом человеческих потребностей;
- идеал – это результат обобщения норм и правил или отвлечение этого содержания от конкретных задач действия, то есть понятие идеала сблизили с понятием поведенческих норм;
- идеал представлен требованием или ценностью, которая вытекает из социальной или индивидуальной действительности, который также раскрывает перед человеком более обширные перспективы, то есть идеал сохраняет образ совершенства. Но в таком случае идеал сводится к ценностной ориентации или поведенческим установкам, и при этом лишен универсальных и абсолютных характеристик.
В рамках трансцендентального подхода идеал рассматривают в качестве существующего вне зависимости от реальности, и дается человеку непосредственно в получаемом им нравственном опыте, что противоречит реальности и фактам. Данный подход характерен русской религиозной философии, что отражено в работах таких мыслителей, как Ильин И.А., Бердяев Н.А., Лосский И.О. и др., создавших собственную религиозную систему, но опирающихся на факты, а потому приводящих идеальные проявления религиозного подвига или общинной жизни.
Нужно отметить, что вопрос происхождения идеала и на сегодняшний день не выяснен до конца. Однако от идеала зависит определения содержания добра и зла, должного, правильного и неправильного, что отражается в культуре.
Влияние современности
При коммунистическом строе нравственные идеалы должны были служить становлению и укреплению существующего строя. Показатели высокой морали в современном обществе – гармонично развитая личность человека. Он отличается стремлением к нравственному совершенству. Общество к своим членам предъявляет некоторые моральные требования. В совокупности все они образуют модель полноценно развитой личности. При постоянном обогащении и пополнении чем-то новым, в них отражается развитие нравственной практики социалистического социума.
Замечание 1
Общество в период социализма выводило на первое место личностную культуру, активную гражданскую позицию, чувство общественного долга, нерасхождение слов с делами, честность.
Современные нравственные идеалы имеют активный и действенный характер, связанный с социальными потребностями. Они преобладают реальные очертания в социалистическом взаимодействии членов общества. Моральные устои современного мира активно работают в области самосовершенствования, нравственного воспитания и саморазвития. Плеханов говорил о том, что человек становится тем выше в нравственном плане, чем активнее он стремится к достижению общественного идеала. Однако даже во времена социализма, высокоморальные показатели не совпадали с реальностью и шли на шаг впереди. Они ставят перед каждым человеком ряд целей, предполагающих постоянное движение, непрерывный процесс развития. Повышение социальной активности индивида, совершенствование социальной политики и морального воспитания – это все, работая согласованно, позволяет разрешать противоречия, которые возникают между действительностью и нравственным идеалом.
Проблема идеала в философии. Искусство и коммунистический идеал
Проблема идеала в философии
Проблема идеала сложна и многогранна. И в первую очередь, естественно, возникает вопрос о том, какое место занимает понятие идеала в теории [106] отражения, как оно может быть интерпретировано с точки зрения этой теории. В самом деле, теория отражения учит, что правильно и истинно лишь такое знание, которое отражает то, что есть в действительности. А в идеале выражается не то, что есть, а что должно быть или то, что человек хочет видеть. Можно ли истолковать желаемое, или должное, с точки зрения теории отражения? Иными словами, может ли быть «истинным» идеал?
Философия давно усмотрела здесь трудность и давно же пыталась ее разрешить. Материалисты прошлых эпох упирались в эту проблему в ходе своей борьбы против церковно-идеалистических учений, против религиозного идеала и старались решить ее в согласии с теорией отражения, с одной стороны, и с требованиями реальной жизни — с другой. Но сделать это удалось лишь Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, и именно потому, что они были не просто материалистами, но материалистами-диалектиками. Посмотрим же, как это произошло.
«Бог сотворил человека по образу и подобию своему», — говорится в известной книге; а человек отплатил ему за это той же черной неблагодарностью, с ядовитой иронией добавил автор другой книги. А если отставить в сторону шутки и сказки, развил ту же мысль третий автор, то надо прямо и ясно сказать, что Человек создал бога точно так же, как создал он книги и статуи, хижины и храмы, хлеб и вино, науку и технику; поэтому запутанный вопрос о том, кто кого и по какому образцу создал, разрешается в простой и ясной истине: Человек создал самого себя, а потом и свой собственный автопортрет, назвав его «богом». Так что под видом «бога» Человек познавал самого себя и поклонялся лишь самому себе, думая, что он познает какое-то другое, нежели он сам, существо, и религия на самом деле всегда была лишь зеркалом, отражавшим Человеку его собственную физиономию.
Но в таком случае, ухватился за это объяснение четвертый мыслитель, автор Библии был, по существу, совершенно прав, только он выразил ту же мысль применительно к иллюзиям своего века: да, Человека действительно создало существо, изображенное на иконе, [107] ибо икона — только портрет Человека, созданный самим Человеком. А если так, то нет ничего плохого в том, что Человек старается подражать во всем нарисованному на портрете персонажу. Ведь художник, рисуя свой собственный портрет, старательно скопировал в нем одни лишь плюсы, одни лишь достоинства живого, грешного человека, и в виде «бога» Человек изображен исключительно с лучшей его стороны. «Бог» лишь псевдоним Идеального Человека, идеально-поэтическая модель Совершенного Человека. Идеал, заданный Человеком самому себе, Высшая Цель человеческого самоусовершенствования… А все дурные, все злые и подлежащие преодолению человеческие черты тот же художник изобразил на другом автопортрете, названном им «Дьявол».
Так что «бог» — вовсе не натуралистическое изображение грешного и реального земного Человека, который представляет собой и «бога» и «дьявола» в одном едином лице, в сплаве. «Бог» — это Человек, каким он должен быть или стать в результате своего собственного самоусовершенствования, а «Дьявол» — тот же Человек, каким он не должен быть, каким он должен перестать быть в результате того же самого процесса самовоспитания, то есть идеальная модель человеческого несовершенства и зла.
Иными словами, «бог» и «дьявол» являются категориями, с помощью которых Человек старается рассортировать и различить в самом себе Добро и Зло — подлинно человеческие совершенства от атавизмов чисто животного происхождения. Поэтому-то, рассматривая образ «бога», человек может судить о том, какие именно реальные черты своей натуры он ценит и превозносит («обожествляет»), а какие — ненавидит и проклинает как «дьявольщину», стараясь преодолеть их в самом себе.
Итак, хотя Человек и создал и «бога» и «дьявола», а не наоборот, не «бог» создал, а «дьявол» испортил Человека; легенда о сотворении и грехопадении Человека — это высокопоэтическое художественное произведение, в форме которого Человек сделал первую попытку осуществить Самопознание, в самом себе различить Добро и Зло, Разум и Неразумие, Человеческое и Античеловеческое. А значит, не надо упразднять религию с ее представлениями о «божественном» и «греховном», а надо только переосмыслить древние сказки (не веруя [108] в них буквально) в морально-человеческих категориях. Надо понять, что, поклоняясь «богу», человек поклоняется Лучшему в самом себе, что религия создала в виде бога Идеальный образец высшего человеческого совершенства и что в христианстве Человек обрел высший человеческий Идеал, всем понятный и для всех приемлемый. А атеисты, старающиеся доказать, что нет ни бога, ни черта, тем самым оказывают Человеку очень плохую услугу, лишая его критериев различения Добра и Зла, Дозволенного и Недозволенного!
Стоп! — ответили атеисты. Хотя все получается довольно логично, да не до конца. Действительно, Человек проецирует на голубой экран небес лишь свои собственные представления о самом себе, о добре и зле, обожествляя (то есть приписывая «богу») одни свои реальные черты и осуждая (то есть объявляя «дьявольскими наваждениями») другие. Человек и в самом деле вынужден был вначале противопоставить самому себе свои собственные деятельные силы и способности, изобразив их как силы и способности некоторого другого, нежели он сам, существа, чтобы рассмотреть их как некий вне себя находящийся «предмет» и критически оценить, чтобы впредь усваивать лишь те способности, которые ведут к добру и благу, и не подражать тем, которые ведут к злу. Именно вынужден был, так как другого зеркала, кроме небесного свода, у него тогда не было, а без зеркала рассмотреть самого себя, очевидно, невозможно.
Но почему и зачем и далее осуществлять «самопознание человека» под видом «познания бога», совершенно неясно. Зачем смотреться в зеркало небес, когда уже созданы гораздо более совершенные и ясные зеркала, отражающие Человеку все детали и подробности его собственного образа? Конечно, религия всего-навсего зеркало, но примитивно-первобытное и потому очень тусклое и к тому же весьма кривое зеркало, поверхность которого, как и «небесный свод», обладает очень коварной кривизной. Оно увеличивает, доводит до космических размеров все то, что в нем отражается, и, как сферическое зеркало, перевертывает глядящегося в него человека вверх ногами… Оно отражает в гипертрофированно-увеличенном виде все то, что перед ним находится, и до некоторой степени похоже на микроскоп, позволяющий разглядеть то, что не видно невооруженному глазу. [109]
Но что же именно кладет Человек на предметное стекло такого своеобразного микроскопа? Что именно видит он в окуляре?
Реальное Добро и Зло в самом себе, в реальном Человеке?
Если бы дело обстояло так, то лучшего зеркала, чем голубой небесный свод, и искать было бы не нужно. Беда в том, что рефрактор религиозных небес отражает не реальное Добро и реальное Зло, а лишь собственные представления Человека о том. что такое добро и что такое зло. А ведь это — увы — далеко не одно и то же. Человек способен, к сожалению, трагически ошибаться на этот счет. И тогда увеличительное стекло религии лишь усугубит масштабы его ошибок.
Малозаметное и скромное семя Зла, принятое за похожий на него зародыш Добра, разрастется в его глазах в целые заросли благоухающих цветов. И наоборот, слабый и невзрачный росток человеческого счастья, принятый по ошибке за росток сорной травы, предстанет огромным колючим чертополохом, источающим яд греховности и погибели. И, что самое трагическое, человек будет видеть райские розы там, где торчат сплошные колючки, и будет бежать запаха настоящих роз, убежденный в том, что чувства его обманывают, что перед ним только дьявольское наваждение, соблазны.
Разве не так случилось с христианством? Разве не молились люди целые тысячелетия Кресту — варварской виселице, на которой распяли Человека, «сына человеческого»? Разве не плакали они от умиления, глядя на изможденный, покрытый предсмертным потом лик «спасителя», распятого на радость фарисеям? Разве не видели они в этой картине образ высочайшего блаженства и божественной чести? Видели и молились. Христианская церковь целые тысячелетия старалась внушить людям, что высшую цель и предназначение человека составляет подготовка к загробной жизни, к вечной жизни по ту сторону могилы. Реально — в могиле. Чтобы поскорее и повернее достигнуть вечной жизни, надо вести себя соответствующим образом и способом. Если задана цель движения, то и пути приходится выбирать соответствующие: умерщвление плоти и ее стремлений, отказ от «посюстороннего» счастья, покорность судьбе и власть имущим, молитва и пост. Самый верный путь к могиле. Тогда «лучшим человеком» оказывался монах-аскет в жалком рубище, подпоясанном веревкой, и опоэтизированное фантазией изображение «лучшего человека» глядело на людей со всех икон скорбными очами распятого на кресте «спасителя». Путь к нему — путь на Голгофу, к искупительному страданию, к самоуничижению, самобичеванию, к избавлению от грязи и мерзости земного существования…
И долгие столетия феодального средневековья Человек принимал христианский Идеал и пути его осуществления за единственно верный и единственно возможный образ высшей сути мира и жизни.
Почему? Да просто потому, что иконный лик «спасителя» был совершенно точным зеркалом, отражавшим Человеку его собственный, измученный и покрытый потом ужаса и страдания лик, лик «спасаемого». Потому что каков реальный Человек — таков и его бог. Очень просто. А раз так, то небеса религии отражают Человеку вовсе не то, каким он «должен быть», а то, каков он на самом деле есть. Со всеми его плюсами и минусами. Но минусы отражаются в таком зеркале не как минусы, а как плюсы. И наоборот. И вовсе не пути выбираются тут в зависимости от избранной цели, а, наоборот, сама цель рисуется в соответствии с путями, которые Человек избрал, — их направление просто прочерчивается в фантазии до конца, до той точки, которой достигает взор.
По иконе можно довольно точно определить, каков реальный Человек и по каким путям он шествует в своей жизни, куда идет. А вот надо идти в этом направлении или не надо, на иконе не прочтешь. Икона запрещает даже задаваться таким вопросом, на то она и икона.
Она послушно отобразит Человеку его собственное лицо, покажет ему, каков он есть на самом деле, но — и здесь ее коварство — заключит отображение в золотой багет почитания и поклонения. Поэтому-то иконы и идеалы религии просто-напросто форма морально-эстетического примирения Человека с самим собой, то есть со своим нынешним, наличным обликом и способом существования, увековечение в сознании, в фантазии, в поэтизирующем воображении «наличного бытия» Человека. Сегодняшнее бытие и сознание Человека превращается в виде иконы в Идола, которому надлежит молиться и поклоняться. И если Икона превращается [111] в глазах верующего в Идеал, в образ лучшего грядущего, то Идеал незаметно для него самого подменяется Идолом.
Таков уж механизм религиозного «самосознания», его суть, а вовсе не результат ошибок и неисправностей. Ибо он устроен с таким расчетом, чтобы Человек глядел на самого себя как на некоторое другое, нежели он сам, Существо, забывая о том, что он видит только себя самого.
Именно в этом как раз и заключается «специфическое отличие» религиозной формы «самосознания» от любой другой: в отсутствии сознания того факта, что в виде образа бога Человек глядится в свой собственный образ. Если «специфика» — отсутствие такого сознания — исчезает, то вместо религии мы имеем перед собой совсем другую форму «самосознания», ближайшим образом — искусство.
Искусство тоже зеркало. Человек и поныне, например в театре, изображая на сцене самого себя, старается, уютно сидя в партере, рассмотреть свое собственное изображение как бы со стороны как предмет осознания и оценки. Осознавая то, что происходит на сцене или экране, он осознает лишь сам себя, и тем яснее и лучше, чем яснее и лучше экран отражает ему его собственное лицо.
Но, в отличие от зеркала религии, зеркало искусства не создает, а, как раз наоборот, развеивает роковую иллюзию. Оно прямо предполагает, что Человек видит в нем самого себя, и только самого себя. Поэтому религия и сердится всегда на подлинное искусство, на зеркало, в которое глядится только тот, кто действительно хочет увидеть и осознать самого себя, а не свои фантазии о себе.
Если же Человек будет смотреть в зеркало, понимая, что перед ним всего-навсего зеркало, то он скажет: никакой не бог, а только мое Я глядит на меня сквозь прозрачное стекло в раме. И если мне не нравится глядящая на меня физиономия, то, значит, Я на самом деле не такой, каким себя до сих пор мнил, не такой, каким я хотел бы себя видеть. Поэтому не обвиняй зеркало в злокозненной склонности к искажениям, а постарайся сделаться таким, каким ты хотел бы себя видеть. Тогда и в зеркале искусства и науки ты увидишь себя таким. Не раньше.
А каким ты хотел бы себя видеть? [112]
Тут-то и загвоздка. Чего-чего, а этого беспристрастно-правдивое зеркало тебе сказать не может. Тут требуется другое зеркало, которое представляло бы желаемое за действительное, отражало бы на своей поверхности не фактическое положение дел, а мечту и рисовало бы не реального Человека, а его Идеал, совершенного, идеального Человека. Человека, каким он должен быть сообразно его собственным представлениям о себе самом.
Но разве не старалась делать это любая религия? Разве не нашел Человек эпохи Возрождения именно в богах Греции высеченные, в мраморе чертежи «совершенных людей»?
И может быть, христианский идеал был лишь временным заблуждением, следствием трагической ошибки, которую можно исправить и впредь не повторять? Может быть, люди в виде распятого Иисуса обожествили в самих себе не то, что следовало бы обожествлять? Может быть, они просто-напросто сконструировали ошибочный идеал, то есть цель морального самоусовершенствования? Может быть, надо нарисовать новую икону, задать себе в образной форме новый Идеал — образец Совершенного Человека — и подражать во всем новому богу?
Тем более что такие боги — красивые, сильные, мудрые, подлинные чертежи человеческого совершенства — уже были созданы некогда могучей человеческой фантазией и воплощены в мраморе античных статуй… Тех самых статуй, которые Человек, начавший молиться распятому «спасителю», принял за изображения вредных чертей и вводящих в греховные соблазны ведьм. Статуй, которые — с обломанными руками и отбитыми носами и даже вовсе обезглавленные — оставались человечески красивыми. Может быть, если Человек станет равняться в своей жизнедеятельности на эти божественные образцы, он опять станет прекрасен, мудр и могуч?
И на рубеже XV–XVI веков возник новый Идеал — идеал возрождения античной красоты, силы и ума Человека. Его готовую «модель» люди увидели в богах Греции — в Зевсе и Прометее, в Афродите и Нике Самофракийской. А значит, и в самом Человеке сместились представления о Добре и Зле: в самом себе Человек стал почитать за красоту то, что он раньше воспринимал как греховное безобразие, за ум — то, что до этого третировал как языческое безумие, и перестал принимать бессилие за силу. И наоборот. [113]
Столкнулись два Идеала — два образа, два чертежа, две «модели» совершенного Человека. По образцу которого из них следует создавать, вернее, пересоздавать, реального, грешного человека?
Но в таком случае спрашивается, чему и кому мешает надпись «Давид» на цоколе статуи Микеланджело, изображающей прекрасного, сильного и хитроумного юношу? Не остались ли здесь от религии только имена и названия? А тогда какая разница? Чем отличается в таком случае — по своей реальной задаче и функции — зеркало такого искусства от иконы? В самом деле, разве не висела целые столетия над алтарем заштатной церквушки «Сикстинская мадонна», прежде чем поменяла свою квартиру на более светлую и удобную? Изменилось ли в ней хоть что-нибудь, когда она переменила службу по религиозному ведомству на работу в музее живописи?
Главное, рассудили мыслители, не имена, не названия, прибитые на багетах икон. Главное — понимание или непонимание того обстоятельства, что на иконах изображен Человек, сам Человек, а вовсе не вне и до него существовавшее существо по имени бог. Главное — понять, что бог только синоним и псевдоним Человека с большой буквы, Идеального Человека, по образу которого следует и впредь формировать людей.
Стало быть, если религию понять правильно, то есть не как способ познания бога, а как способ самопознания Человека, то все становится на свои места. Зачем же тогда воевать искусству и науке против религии? Надо просто разумно поделить обязанности: наука и трезвое искусство будут отражать то, что есть, а религия и ориентированное на ту же задачу искусство — то, что должно быть, то есть задавать Человеку Идеал его собственного самоусовершенствования.
Какая разница, окрестишь ты этот идеал именем, взятым напрокат из Библии, из православных святцев или же из безбожного календаря? Важно одно: чтобы Идеал был обрисован по существу правильно, чтобы он задавал Человеку верное направление на путях нравственного, физического и интеллектуального самоусовершенствования, а не нацеливал его (как в прошлом христианство) на добровольную деградацию, на физическое и умственное вырождение. А уж называть его божественным или нет — совершенно безразлично.
Казалось бы, такое рассуждение могло вполне [114] устроить религию: ей отводилась вполне почетная и почтенная роль в разделении труда. Но содружества все-таки почему-то не получилось. Религия с негодованием отвергла новое объяснение своей роли и отказалась исполнять предложенную ей должность. Почему? Что именно не устраивало ее в приведенном рассуждении и выводах из него? Разве она и до сих пор не исполняла указанной роли и на самом деле, независимо от собственных иллюзий? Или это объяснение не ухватывало в механизмах религиозного самосознания чего-то очень важного и главного, того, без чего вообще нет религии?
Да, не ухватывало. И религия, отказываясь от предложенной ей доброжелателями роли и функции, была права. Она понимала сама себя лучше, чем ее толкователи. Секрет заключался просто в том, что религия никогда не исполняла и не могла исполнять той роли, которую ей приписали доброжелатели. Она исполняла как раз обратную роль, и к исполнению последней и были приспособлены все механизмы ее отражающего устройства.
А именно: вся система религиозных образов вовсе не рисовала Человека таким, каким он «должен быть» или «должен стать» в результате самоусовершенствования. Наоборот, она рисовала его именно таким, каким он был и каким он должен оставаться. Она всегда выдавала «наличное бытие» Человека за Идеал, за предел, за верх всякого возможного совершенства, коего Человек не должен и не может преступать. Изображая Человека, религия и изображала его не как Человека, а как бога, как вне Человека, до Человека и над Человеком стоящее «высшее существо», диктующее Человеку именно тот способ существования, который он до сих пор и практиковал.
С точки зрения религии никаким «самоусовершенствованием» Человек с большой буквы заниматься не может и не должен. Самоусовершенствоваться могут и обязаны только отдельные «человеки». Они обязаны стараться уподобиться тому образу Человека, который тут выдается — под именем бога — за вечный, первозданный и не подлежащий сомнению Идеал, за эталон совершенства. А эталон, согласно самому его понятию, меняться не должен. В этом отношении христианский эталон совершенства подобен той платиновой линейке, хранившейся в Париже, которая называлась «метр». [115]
И религия всегда противилась — как самой ужасной ереси — тезису о том, что бог сконструирован Человеком по своему образу и подобию. Ведь в таком случае Человек, если он сам по себе изменился, если он лучше понял самого себя, точнее, чем прежде, нашел меру своего собственного совершенства, вправе «уточнить» и эталон. Тогда он вправе пересоздать бога, вправе даже его сменить на более подходящего для себя, выбрать бога по своему росту, построить новую модель совершенства.
Поэтому в форме религиозного идеала Человеку преподносится образ его собственного вчерашнего дня. Религия всегда относила «золотой век» к прошлому. Иными словами, механизмы религиозного сознания, по существу, приспособлены к тому, чтобы изображать вчерашний день как образец, а сегодняшний — как «испорченный вчерашний», как результат «отпадения человека от бога».
Поэтому-то к религиозному умонастроению и склонны те люди, которым — в силу тех или иных причин — становится жить день от дня все хуже и хуже, те именно люди, которым «прогресс» не несет ничего, кроме неприятностей. И они правы: для них вчера было лучше, чем сегодня, и они мечтают о том, чтобы сделать завтра похожим на вчера. Их правоту как раз и выражает религия, а религиозный идеал всего лишь идеализированный вчерашний день.
«Идеализированный» — здесь значит представленный со стороны одних лишь плюсов и тщательно очищенный от всех минусов, без коих плюсы существовать — увы! — не могли и не могут. В силу особенностей религиозного Идеала он всегда коварно обманывает людей. Попытка формировать Будущее по образцу идеализированного Прошлого приводит к тому, что вместе с желаемыми плюсами Человек — хочет он того или не хочет — воспроизводит заодно и все неразрывно связанные с ними минусы…
Так происходит даже тогда, когда в качестве Идеала берутся действительно красивые и человечески заманчивые образы прошлого, например античные боги — идеальные чертежи человеческой красоты, силы и мудрости. Люди Возрождения не поняли хорошенько того грустного обстоятельства, что «возродить» античных богов, то есть сформировать образ современника по образу и подобию Зевса и Прометея, Афродиты и Ники, [116] невозможно, не воспроизведя и всех тех условий, на почве которых эти боги могли бы дышать и жить. В частности, без рабовладения, без массы «говорящих орудий», за счет которых жили и создавали свои произведения подлинные творцы статуй Зевса и Прометея, те люди, которые создали античных богов по своему образу и подобию. То есть без тех самых условий, которые, создав богов их же и погубили их же и распяли на кресте новой веры…
И дорого пришлось заплатить людям за познание, выводом которого явилась простая и ясная истина: если ты хочешь идти вперед, стряхни с себя все иллюзии религиозного идеала, каким бы заманчивым и прекрасным он ни был. Не ищи идеала в прошлом, даже в самом прекрасном. Он подведет тем трагичнее, чем он по видимости красивее. Изучай прошлое не только со стороны его плюсов, но и со стороны неразрывно связанных с ними минусов, то есть не идеализируй прошлое, а объективно его исследуй.
А идеал, то есть тот образ, в согласии с которым ты хочешь сформировать будущее, стало быть, в согласии с которым ты должен действовать сегодня, ищи на другом пути. На каком?
Не будем фантазировать. Попробуем рассмотреть тот опыт, который человек уже имеет на этот счет. Рассмотрим историю идеала Возрождения, его эволюцию в сознании народов Европы. Она, кстати, очень поучительна.
Когда над Европой, проспавшей полтора тысячелетия, наполненных средневековыми кошмарами, забрезжила прекрасная заря Возрождения, многое стало выглядеть в глазах людей по-иному. Земные порядки феодального общества, так же как и их отражение в небесах религии, перестали казаться людям чем-то само собой разумеющимся. И антифеодальные настроения раньше всего сказались в критике религии.
В свете ясного утреннего солнца люди совсем иначе восприняли распятый на деревянном сооружении восковой муляж «спасителя», пропахший пылью и ладаном. «Спаситель» теперь нравился им больше уже не на кресте Голгофы, а в нежных и заботливых руках его матери, в образе пухлого и здорового младенца, не подозревающего, какие муки готовит ему грядущее. В виде младенца, из которого так же хорошо может вырасти и Геракл, и Давид, и новый Прометей… [117]
Глаза их снова увидели зарозовевший мрамор Парфенона, вечно юную красоту Афродиты и Аполлона, Геракла и Дискобола, Дианы-охотницы и могучего кузнеца Вулкана. Человек снова стал расправлять крылья своей мечты, чтобы взлететь к восходящему солнцу, чтобы парить над голубыми волнами Средиземного моря, вдыхать свежий ветер, чтобы наслаждаться могуществом своей мысли, своих рук, своей здоровой, не искалеченной постом и молитвой плоти.
Юношески вдохновенный век Возрождения передал эстафету мечты веку Декарта и Спинозы, Руссо и Вольтера, веку математически строгого обоснования прекрасной мечты, — и тот сформулировал четкие тезисы относительно будущего и человеческих идеалов.
Против средневекового спиритуалистического идеала — бесплотного духа — он выдвинул свой, земной и полнокровный идеал: нет бога, нет рая, нет ада! Есть Человек, дитя Природы, и есть Природа. За гробом, после смерти, для Человека вообще ничего нет. Поэтому идеал должен быть обретен здесь, на земле.
Наиболее последовательные мыслители сформулировали его так: земное, полнокровное жизнеизъявление каждого живого человека. Пусть каждый делает то, к чему он способен от природы, и наслаждается плодами своих деяний. Мать-Природа — единственная законодательница и авторитет для Человека, ее любимого сына, и от имени ее Человеку возвещает законы жизни только Наука, самосознательное и никаких других авторитетов не признающее Мышление, постигающее законы Природы, а не Откровение, вещающее с амвонов и со страниц Священного писания.
И если Идеал не праздная мечта, не бессильное пожелание, то он должен выражать что-то реальное, ощутимое и земное. Что? Естественные, то есть присущие каждому человеку от рождения, потребности и желания здоровой, нормальной плоти — «природу человека».
Идеал выражает естественные потребности «природы человека», и потому на его стороне все могучие силы Матери-Природы. Изучайте Природу, изучайте Человека, и вы обретете познание того, чего она хочет, к чему она стремится, то есть нарисуете подлинный Идеал — идеал и Человека и того общественного строя, который ему соответствует.
Таким ответом и удовлетворились наиболее [118] последовательные мыслители — материалисты XVIII века: Ламетри, Гельвеций, Гольбах, Дидро. И ответ показался ясным для каждого их современника, придавленного «неестественной» тяжестью феодального государства и церкви. Именно ради неестественных и извращенных удовольствий монаршего двора и церковно-бюрократической клики у большинства наций отнимались самые естественные права и ценности — и хлеб, и свобода распоряжаться своими руками и своей головой, и свобода говорить то, что думаешь и почитаешь за правильное. Если бы только естественные права не попирались двором, бюрократией и церковью! Какой бы рай учредился на благодатной почве Франции!
И тогда отлился новый идеал в энергичную и всем понятную формулу, в боевой лозунг: «Свобода, Равенство, Братство!» Пусть каждый Человек делает то, что хочет и может, к чему его определила Природа, лишь бы он не приносил несчастий своему собрату по роду человеческому, не ущемлял прав другого делать то же самое! Если этого нет, то оно должно быть!
И свершилось чудо. Загремели над землей Франции могучие раскаты «Марсельезы», сокрушающие удары пушечных залпов, рухнули стены бесчисленных бастилий, разбежалось во все стороны стадо попов и бюрократов, а народ поднял к небу трехцветное знамя Свободы, Равенства и Братства.
Идеал — «должное» — оказался сильнее, чем «существующее», несмотря на то, что «существующее» охранялось всей мощью государства и церкви, бастионами крепостей и канцелярий, штыками солдат и перьями ученых академиков, несмотря на то, что оно было прочно опутано цепями тысяч тысячелетних привычек и традиций, освящалось церковной моралью, искусством и правом, установленными от имени бога.
Но очень скоро обнаружилось, что Идеал осуществляется на земле далеко не так просто и скоро, как думалось его авторам. События стали принимать неожиданный оборот.
Пришлось задуматься над многими коварными вопросами. Почему Идеал Свободного от всех искусственных пут Человека, осознающего себя равноправным среди собратьев по роду, такой ясный и понятный для каждого, никак не удается реализовать среди живых людей до конца? Почему Идеал, такой гуманный и [119] прекрасный, шествует по земле по горам трупов, окутанный пороховым дымом? И почему вчерашние единомышленники и братья по идеалу становятся вдруг смертельными врагами и отправляют друг друга под нож гильотины?
Многие удовлетворялись таким ответом: слишком сильно сопротивление сил старого мира, слишком глубоко испорчены люди тысячелетиями телесного и духовного рабства, слишком сильна власть прошлого над их сознанием. Испорчены и заражены ими даже те, которые казались и самим себе и другим кристально чистыми героями Свободы, Равенства и, Братства, — даже Дантон и Робеспьер, даже Сен-Жюст, «апостол добродетели»!
А события разворачивались чем дальше, тем коварнее и трагичнее.
«Короли, аристократы и тираны, каковы бы они ни были, являются рабами, восставшими против всего человечества — верховного владыки земного шара и против природы — законодательницы вселенной!» — восклицал Робеспьер.
«Голову с плеч кровавому тирану Робеспьеру, врагу и извергу рода человеческого!» — завопили его противники, и голова скатилась в окровавленную корзину.
Трехцветное знамя Идеала вырвала из его рук Директория — и тоже оказалась бессильной его удержать. Тогда его подхватил артиллерийский офицер Бонапарте. Высоко поднял он развевающееся Знамя и повел народ за собой в грохот и дым сражений… А в одно прекрасное утро люди с удивлением увидели, что под плащом революционного офицера прятался старый знакомый — монарх. Увидели, что, пройдя под барабанный бой полмира, они вернулись туда же, откуда вышли в 1789 году, увидели, что снова, как и прежде, окружают двор императора Наполеона Первого хищные чиновники-бюрократы, лживые попы и развратные дамы и что опять приходится отдавать им последний грош, последний кусок хлеба, последнего сына.
Трудящийся народ Франции чувствовал себя обманутым вдвойне. Год от года жирел и становился все прожорливее новый хозяин жизни — спекулянт, банкир, промышленник-буржуа. Этот получил от революций и контрреволюции все, что ему было нужно, — полную свободу действий. И умело использовал ее для того, чтобы перекроить жизнь страны по мерке своего идеала, [120] своего бога — золота чистогана — Наживы за счет Других.
Что же случилось? Неужели прекрасный Идеал Просвещения оказался лишь миражем, сказкой, неосуществимой на земле мечтой? Неужели жизнь, практика, действительность, «существующее» опять оказались сильнее Идеала? По-видимому, так.
И на почве этого разочарования, на почве чувства полного бессилия людей перед ими же самими созданным Миром, снова, как встарь, расцвели ядовитые цветы религии, снова загнусавили попы о несбыточности надежд на земное счастье.
У немногих хватило тогда интеллектуального и морального мужества, чтобы не пасть в раскаянии к подножию Креста, сохранить верность идеалам Просвещения. Осыпаемые презрительными насмешками сытых обывателей, здравомыслящих рабов «существующего», жили и мыслили в эти годы Анри де Сен-Симон и Шарль Фурье. Оставаясь верными главным принципам мышления просветителей, эти упрямые и нетерпеливые люди старались найти и указать человечеству пути к прекрасному будущему.
Вывод, к которому они — наследники передовой философии Франции — пришли в результате анализа сложившейся ситуации, совпадал с решением практически-трезвого англичанина Роберта Оуэна. Если правы Разум и Наука и если Свобода и Равенство не пустые слова, то единственным спасением человечества от угрожающей ему духовной, моральной и физической деградации оказывается Социализм.
Человечество было поставлено историей перед жесткой и неумолимой альтернативой: либо Человек согласится на рабское служение Частной Собственности, этому новому, бездушному богу, и тогда будет обречен на гораздо более страшное одичание, чем средневековое, либо возьмется за ум и организует жизнь на совершенно новых принципах, действительно, а не на словах организуется в дружный человеческий коллектив. Свобода, Равенство и Братство реальны лишь в сочетании с разумно организованным Трудом. Организация Труда, организация Промышленности — вот ключ ко всем проблемам жизни. «Философы XIX века должны соединиться, чтобы всесторонне и полно доказать, что при современном состоянии знаний и цивилизации одни лишь [121] промышленные и научные принципы могут служить основанием общественной организации…» — провозгласил Сен-Симон.
В чем же заключается та «природа человека», в согласии с которой надлежит реорганизовать настоящее и организовать будущее? Здесь в рассуждениях Сен-Симона появляется новый по сравнению с его предшественниками — просветителями мотив: «природа человека» ни в коем случае не есть нечто неизменное, раз и навсегда данное Матушкой-Природой. Она постоянно развивается, точнее, ее суть и заключается в постоянном развитии, изменении того, что даровано человеку природой.
Куда, в каком направлении? К «наибольшему совершенству моральных и физических сил, на какое только способна человеческая организация», — формулирует Сен-Симон. Это не абстрактно-философское рассуждение, а просто факт, который можно вычитать из наблюдений над жизнью как отдельного человека, так и целых народов.
Стало быть, на общество нужно смотреть прежде всего как на систему внешних условий, внутри которых происходит «совершенствование» всех интеллектуальных, нравственных и физических сил — деятельных способностей человеческого индивида. Социальная система тем совершеннее, чем более полно она обеспечивает расцвет всех индивидуально-человеческих сил, развертывание всех заложенных в человеке возможностей, и чем более широкой массе людей она открывает простор для такого подлинно человеческого развития.
Сам человек, живой человеческий индивид, есть единственная мера, которой можно и нужно мерить все остальное. К человеку же нельзя прилагать никакую «внешнюю» по отношению к нему меру, какой бы красивой и точной она ни казалась, ибо она всегда будет заимствована из Прошлого.
«До сих пор люди шествовали по пути цивилизации, обратясь вспять к будущему: их взор был обычно обращен на прошлое, а на будущее они бросали лишь редкие и поверхностные взгляды». Гениальность такого поворота мысли заключалась в том, что акцент теперь делался не на условиях деятельности готового, сложившегося Человека, а на условиях его развития, его становления, его будущего, которое всегда, в каждый данный момент — впереди. Потому-то Идеал и нельзя [122] задать человеку как готовый чертеж, как икону, как «внешнюю меру» и эталон. Наоборот, все иконы и эталоны надо мерить мерой совершенства живого человека, постоянно развертывающего свои возможности.
Эта гениально простая мысль рубила под корень все самые живучие принципы религиозного «идеала», в какие бы одежды он ни рядился, чему нисколько не мешало то обстоятельство, что и Сен-Симон, и Фурье, и Роберт Оуэн не прочь были время от времени пококетничать с такими терминами, как «бог», «религия», «рай», и тому подобными. Так просто религию не обмануть.
Сен-Симон и Фурье самоотверженно пропагандировали свой идеал, апеллируя к «разуму» и к чувству «справедливости» современников. Но их гениальные идеи мало кого увлекли в то время. Ушей народа их голос не достигал, а у «просвещенной» и сытой публики их идеи вызывали лишь раздражение и насмешки. Рев органных труб и медных оркестров, славивших небесных и земных богов, звучал куда громче. Трагедия социалистов-утопистов была типичнейшей трагедией героев, пришедших в мир слишком рано. И не случайно идеалы Сен-Симона и Фурье в головах их учеников и последователей очень скоро приобрели карикатурные формы, стали слишком сильно напоминать идеалы христианства (ученикам так хотелось сделать эти идеалы понятными и доступными народу, воспитанному на Евангелии!), а организации сенсимонистов и фурьеристов — религиозные секты… Принципиально новая идея — идея Социализма, — чтобы быть понятной, предпочла выступать перед людьми в залатанном рубище «нового христианства».
Казалось, захлебнулся еще один благородный почин и идеал Просвещения снова превратился в икону, в идола, распятого на кресте.
Но жизнь идеала Возрождения и Просвещения не была окончена. Правда, ему пришлось на некоторое время переселиться с земли Франции в сумрачное небо немецкой философии чтобы, отдышавшись в горнем воздухе спекулятивно-умозрительных высот, вновь вернуться на землю уже в ином облике.
Пронаблюдав воочию земные злоключения прекрасного идеала, люди так и не смогли верно понять земные корни этих трагических злоключений. А не поняв, они снова стали искать их за облаками. Урок оказался недостаточно поучительным, и понадобились новые [123] злоключения и новые усилия мысли, чтобы земные корни земных злоключений оказались наконец осмыслены.
Пока французы делали свое дело, немцы внимательно наблюдали за ними и философствовали. Идеал французов они сразу же и безоговорочно приняли близко к сердцу: Свобода, Равенство, Братство — что может быть желаннее и лучше? Цель была прекрасна и заманчива. Но вот средства… Средства, использованные в Париже, немцам не нравились, и подражать французам они не отваживались. Гильотина, пушечные залпы по живым людям, братоубийства, кровавая резня — это было для них совсем не заманчиво.
В университете старого Кенигсберга, жившего своей упорядоченной и добродетельной жизнью, над сложившейся ситуацией упорно размышлял один из самых трезвых умов тогдашней Европы — философ Иммануил Кант. Его также восхищал французский идеал — мечта о дружном сообществе умных, доброжелательных и справедливых по отношению друг к другу людей, уважающих человеческое достоинство в каждом из своих ближних, о царстве свободы, равенства и братства.
Однако Кант хорошо видел, что прекрасный идеал в реальной жизни каждого отдельного человека и целых народов сталкивается с объединенными силами эгоизма, своекорыстия, тщеславия, предрассудков, глупости и жадности, узколичных и узкокорпоративных интересов, влечений и страстей, традиций и привычек, то есть со всей косной силой эмпирической реальности, «существующего». А в тогдашней Германии, представлявшей собой огромную провинцию Европы, точнее, кучу затхлых провинций, лишенных единой столицы, единых законов, единых идей и умонастроений, соотношение сил «идеала» и «существующего» складывалось далеко не в пользу идеала. Идеал свободы, равенства и братства тут не имел пока никакой надежды победить в открытой схватке.
И его сторонникам оставалось лишь размышлять, думать, сопоставлять, анализировать и делать все, чтобы поскорее выросли силы, способные одолеть «существующее».
Так и получилось, что, приняв все общие предпосылки французского Просвещения, немцы попытались теоретически, на бумаге столкнуть их с силами «существующего», то есть повторить в теории все то, что французы пытались реализовать на улицах с оружием в [124] руках, чтобы посмотреть, что получится, какие западни и ловушки готовит Идеалу коварное «существующее». Они мечтали сделать Идеал умнее и предусмотрительнее, чем он оказался во Франции. «Такой порядок я нахожу вполне разумным», — говорил позднее Генрих Гейне. Головы, которые философия употребила на мышление, могут быть скошены потом революцией, продолжал он. Но философия никак не могла бы употребить для своих целей головы, которые были срублены предшествовавшей ей революцией.
Прежде всего Кант позаботился о том, чтобы уточнить состав самого Идеала, точнее и конкретнее обрисовать ту сокровенную «природу человека», выражением интересов которой он является.
Философы французского Просвещения были абсолютно правы, когда они стали рассматривать Человека как «высшую цель», как «самоцель», и отбросили взгляд на него как на «средство» осуществления каких бы то ни было «внешних» и «посторонних» целей, какими бы высокими и благородными они ни казались. Человека не следует рассматривать как игрушку, как орудие, как марионетку в руках кого-то, вне его находящегося, — будь то папа или король, владелец власти или имущества, золота или знаний. В том числе и «внешнего», восседающего на небесном троне бога-отца. Кант был достаточно просвещен и прозорлив, чтобы видеть, с какого реального прообраза на земле срисовывают образ капризного и своенравного библейского бога.
Но просветители-материалисты, продолжал свой анализ Кант, рассудили так же плохо, когда на место непререкаемого авторитета бога-отца поставили такой же непререкаемый авторитет матери-природы — «внешнего» по отношению к человеку мира. Того самого «внешнего» мира, к которому, как его частичка, принадлежит и тело самого человека, подвластное голоду и холоду, бессильное перед своими собственными желаниями и страданиями и потому в принципе эгоистичное и своекорыстное. Так что если выводить идеал из естественноприродных потребностей человеческого тела, то человек опять-таки окажется лишь рабом, лишь послушной игрушкой «внешних обстоятельств», силы их давления, лишь пылинкой в вихрях слепых стихий… Ни о какой «свободе» человека в таком случае не может быть и речи. Человек окажется лишь «говорящим орудием» своих органических потребностей и влечений, лишь [125] точкой приложения сил слепой необходимости, что ничуть не лучше и ничуть не достойнее, чем быть рабом бога. Разница в таком случае была бы только в названии, в имени «внешнего господина». Какая разница, назовут его богом или же природой?
И в том и в другом случае человек оказывается рабом внешних по отношению к нему сил, а непосредственно — рабом и орудием («средством») другого человека, того человека, который присваивает себе право выступать от имени и по поручению этих сил и выступает как «посредник» между богом или природой и человеком.
Так что идеал, то есть представление о высшей цели и назначении человека на земле, невозможно вывести из изучения природы, ее слепых причинно-следственных цепей. Ибо тогда самым правильным было бы просто послушно подчиняться давлению «внешних обстоятельств» и органических потребностей своего тела, вплетенного, как звено, в цепи и сети обстоятельств. Физик, математик, анатом и физиолог в лучшем случае могут описать в своих терминах человеку, каков он есть, но не могут показать ему, каким он должен быть и какому образу он должен стараться уподобиться… Именно поэтому нелепо на место авторитета папы римского водружать авторитет Ньютона, Ламетри или Гольбаха. О том, каким человек «должен стать», в отличие от того, каков он есть, самый лучший естествоиспытатель может сказать так же мало верного, как и любой провинциальный попик. Из математики, из физики, из физиологии или химии невозможно вывести никакого представления о цели существования человека в мире, о назначении человека.
Человек, продолжает Кант, свободен, если он действует и живет в согласии с целью, которую он сам перед собой поставил, избрал ее в акте «свободного самоопределения», а не с целью, которую ему кто-то навязал извне. Только тогда он — Человек, а не пассивное орудие другого человека или давления «внешних» обстоятельств. Что же такое тогда свобода? Действие в согласии с целью, то есть вопреки давлению внешних обстоятельств, к числу которых принадлежат и «эгоистические» потребности индивидуальной плоти, частички природы.
Иначе человек ровно ничем не отличается от любого животного. Животное, повинуясь органическим [126] потребностям своего тела, заботится только об их удовлетворении, о самосохранении, о самом себе и детенышах. Ни о каких «общих интересах вида» оно не заботится. «Интересы вида» осуществляются здесь как совершенно непредусмотренный и непредвиденный побочный продукт, как «слепая необходимость», как усредненный результат борьбы всех против всех за свое индивидуальное существование, за свою эгоистическую цель.
Человек же только тем и возвышается над животным миром, что он преследует «интересы вида» («рода человеческого») вполне сознательно, делая своей целью свой собственный «род», интересы Человека с большой буквы, а не интересы своей персоны — фрица, джона, жана или адам адамыча.
Стало быть, свобода совпадает с правильным сознанием цели рода или с представлением о цели рода как о самоцели. В каждом отдельном человеке сознание этой цели появляется вообще с самим фактом сознания, с осознанием того факта, что каждый другой человек — тоже Человек.
Поэтому каждый отдельный человек только тогда и только там и выступает как Человек, когда и где он сознательно, то есть свободно, совершенствует свой собственный род. Ради такой цели он вынужден постоянно, на каждом шагу, подавлять в себе «эгоистические», животнообразные мотивы, частные потребности своего Я, и даже действовать прямо против интересов собственного «эмпирического Я». Так действовали, например, Сократ, Джордано Бруно и другие похожие на них герои, которые добровольно избрали смерть, уничтожение своего индивидуального Я как единственный путь и способ сохранить и утвердить в сознании всех других людей свое «лучшее Я», те истины, которые они добыли не для себя лично, а для Человечества…
Борьба за отжившие идеалы – Огонек № 34 (5629) от 31.08.2020
Артемий Магун, директор Центра практической философии «Стасис» Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор политологии (Мичиганский университет) и доктор философии (Страсбургский университет), главный редактор журнала Stasis. В американском издательстве Rowman & Littlefield International вышла книга под его редакцией «The Future of the State. Philosophy and Politics» («Будущее государства. Философия и политика»).
Антиправительственные демонстрации, которые мы наблюдаем сейчас в Белоруссии, а ранее наблюдали во многих и многих других точках,— это не эксцесс, а данность современной политики. Строго говоря, современная демократия — это и есть демократия демонстраций. Термин придуман не мной, его еще в 1970-х годах очень удачно использовал израильский политический теоретик Амитаи Этциони; просто сейчас пришло время подумать, что он значит.
В ХХ веке демократию воспринимали как нечто, действующее через репрезентативные институты — парламенты: то есть считалось, что единый народ как-то транслирует свою волю через депутатов и политиков. Разумеется, такого в полноте своей никогда не было, но заявка на идеал мыслилась именно такой. Это было еще время, когда массы недавно получили право голоса и имели большой энтузиазм относительно своих возможностей, груз неудач отсутствовал. Но с 1970-х годов ситуация в демократических странах начинает серьезно меняться.
Что значит сегодня, что государство демократично? Раньше это значило одно: в государстве сидят специально выбранные (и переизбираемые) люди, которым народ поручил реализовывать свою волю. Именно такая формула до сих пор отражена в большинстве Конституций. Я хочу ее проблематизировать и доказать, что даже как идеал она больше не имеет никакого отношения к действительности.
Сегодня демократия на практике связана с тем, что есть некий народ — «демос», который может подавать голос вне существующих институтов (спонтанно) и при этом избегать репрессий. Наверное, самый простой пример демократии демонстраций можно обнаружить во Франции. Политическая культура этой страны такова, что там каждый месяц происходят небольшие демонстрации, а каждые год или два — большие, но при этом государство остается, существует и длит себя, по крайней мере, с 1958 года, когда произошла последняя конституционная реформа (или 1968–1969 годов, когда режим пережил попытку революции). Если на улицы выходят «желтые жилеты», президент Макрон встречается с их представителями (главная проблема была в том, что долго не могли этих представителей найти, но потом получилось). Утверждается, что в стране идет гражданский диалог, и так далее.
Я не говорю, что с самими демонстрациями не борются. Я лично присутствовал недавно во Франции, когда толпу протестующих забрасывали гранатами со слезоточивым газом: французские полицейские очень жесткие. Местами пожестче российского ОМОНа. Но парадокс в том, что, подавляя демонстрации, западные либеральные демократии открыто не борются с их зачинщиками, даже напротив — стремятся побыстрее найти последних, чтобы вступить в диалог и ввести ситуацию в легитимное поле. Российская же ситуация зеркальна.
Парадоксальное государство
Нам довольно сложно понять, что современный мир парадоксален и имеет мало общего с классическими учебниками по политологии.
Демократическое государство сегодня — это то государство, которое находится в постоянной конфронтации со своим народом. Раньше бы сказали, что уличные протесты, демонстрации — это признак сбоя в системе, сегодня все понятнее, что это и есть признак благополучия.
Когда западные страны кивают в сторону России, говоря, что в ней мало демократии, на самом деле они имеют в голове идеал демократии демонстраций.
Иначе довольно сложно доказать, что в России мало демократии. Выборы проводятся, есть Конституция, которая формально выполняется. Какие могут быть претензии? Россия и та же Белоруссия воспринимаются как «плохие ученики» Запада, потому что мало учитывают улицу, что лишний раз свидетельствует: мы все (весь мир) живем в условиях господства такого государственного режима, где реальное участие народа осуществляется через уличное присутствие, а не парламентскую репрезентацию (буквально — «переприсутствие»).
Строго говоря, большинству западных стран переход к демократии демонстраций дался легко: уровень консенсуса и толерантности в обществе позволял не доводить дело до открытого конфликта. Бельгийско-британская исследовательница Шанталь Муфф породила даже теорию агонизма (от слова «агон» — состязание в Древней Греции), согласно которой есть «антагонистические демократии» (вроде России в 90-е годы) и «агонистические демократии» (вроде Франции) и есть консенсусные квазидемократии, где по всем важным вопросам форсируется единодушие (например, экология и т.д.). Причем первые обречены, третьи несвободны, а вторые — идеальны и жизнеспособны. Сейчас ситуация меняется в США, и это очень интересно: консенсус исчезает, сможет ли либерально-демократическая система выжить в условиях нарастающего партийного антагонизма, наложившегося на нарастающую демократию демонстраций?
Но что важно понять про Россию и что многие западные исследователи в упор не хотят понимать: цена демократии демонстраций для нас потенциально очень высока. Потому что в обществе долгое время существовали серьезные конфликты: люди стреляли друг в друга, люди сидели в тюрьмах. Наши элиты боятся цветных революций, причем с основанием — они здесь не сумасшедшие. Мы можем спорить об этических последствиях их страхов, но в эмпирическом смысле все логично. Двигаться в сторону разговора с улицей, не имея дорожной карты по созданию «агонизма», способа установить консенсус, сложно.
К сожалению, у критических, антигосударственных движений во всем мире нет программы, нет ответа на вопрос, что делать в ситуации новой сложности. Как ни парадоксально, лево-либеральные движения сегодня имеют скорее охранительный характер, они требуют вернуть назад ту социал-демократию, которая была до 1970 года. Цитируя вновь популярного Маркса, скажу, что они восстанавливают «порядки, дух которых уже отлетел». Правительство, выражающее единую волю народа,— это фикция. Парадокс в том, что оно возможно только в том случае, если авторитарно подавлять и запрещать деятельность всех «популистов», что, в свою очередь, возможно только при наличии диктатуры. Мы снова приходим к парадоксу. На самом деле отсутствие образа будущего, анархистская повестка очень многих протестующих — отсюда. Они упираются в стену, потому что новые идеалы еще не сформулированы. Демократия демонстраций еще не осмыслена в качестве идеала, а главное — непонятно, как именно можно ее устанавливать или требовать в странах, где антагонизм слишком высок (потому что часто требовать ее равноценно требованию самоубийства государства).
Я не берусь оспаривать самый популярный сегодня лозунг у протестующих: дайте честные выборы. Конечно, вранье — это плохо, украденные голоса — очень плохо. Но есть тактика, а есть стратегия. Лозунг «честные выборы» очень завязан на народ: если ты считаешь, что выборы что-то изменят, ты делаешь ставку на граждан. Тут, во-первых, надо работать с народом, откуда уверенность, что большинство — на твоей стороне. Во-вторых, ты действительно думаешь, что волеизъявление раз в четыре — шесть лет для них — это достаточный уровень участия в политике? Прогресс во всех остальных социальных взаимодействиях (скорость переписки, онлайн-общения, заказов и проч.) ошеломляет, а для участия в политике будто бы достаточно уровня начала ХХ века… Снова парадокс! Задумывался ли кто-то, что сама конфигурация бюллетеней для голосования, где есть короткий вопрос и квадратик для проставления галочек, была придумана в расчете на малограмотных людей? При этом возможность честно раз в пять лет проставить такую галочку представляется сегодня якобы идеалом демократического участия. Разумеется, это не имеет никакого отношения к тому реальному запросу на демократизацию, который есть у народа.
В поисках идеала
Обложка книги «Будущее государства. Философия и политика» Артемия Магуна
Фото: Rowman & Littlefield International
Я бы сказал, что мы сегодня живем в отсутствие идеала государства, адекватного вызову времени. Наивные люди апеллируют к идеалам прошлого века, циничные полагают, что можно прожить вовсе без них. И первое, и второе весьма опасно. Да простят меня постмодернисты, но я скажу: идеалы очень важны, поскольку они легитимируют то, что происходит, одновременно являясь основаниями для его критики. И, наконец, люди худо-бедно стремятся к идеалу.
У России здесь очень интересная история. Принято считать, что государство у нас всегда было очень сильным, но оборотная сторона этого факта — практически полное отсутствие идеала государства в общественной мысли. Особенно примечательна здесь советская эпоха с ее тоталитаризмом. Я берусь утверждать, что сталинские репрессии — это прямое следствие отсутствия правильного идеала. Большевики видели парадоксальность и диалектичность государства, но делали из этого однозначный вывод: государство надо отменить, оно должно умереть. Строго говоря, Сталин получил власть там, где, по идее, не должен был ее иметь, он не мог чувствовать своей легитимности ни в качестве чиновника, ни в качестве руководителя бюрократии. Советский вождь живет в условиях перманентной необходимости отменять государство (не случайно репрессии означали еще и самоубийство бюрократии), соответственно, не имея ни почвы под ногами, ни оснований для собственной власти. В философском смысле именно это анархическое представление о власти ставило крест на всем советском проекте.
И это, конечно, повод задуматься о наших представлениях сегодня. Потому что цинизм, или наивный либерализм, или анархизм, господствующие не только в России, но и в мире, не очень-то дают понять, каким может быть государство и зачем оно вообще существует на свете (наследуя в этом смысле большевикам). Мы знаем, что среди лозунгов американских протестных движений обычный рефрен: «Отмените полицию». О`кей: отменяем полицию, а заодно и правительство, забираем у них деньги, вооружаемся и самоуправляемся — это, конечно, традиционная американская тема. Но даже для США сегодня она звучит как полное безумие. Идея о том, что демократические институты прорастают исключительно снизу, не выдерживает исторической критики. Спонтанные самоорганизованные группы возникают в ходе революционных событий, но в рутинной ситуации исчезают: люди не способны без некоего мобилизующего фактора участвовать в коллективном осуществлении власти. Все координационные советы, возникшие снизу и не образующие иерархий,— как роса поутру. Чтобы низовое участие состоялось, требуется постоянное усилие власти. Относительный успех цветных революций связан с тем, что они как раз обеспечивают единение низа и верха (пусть верха внеположного по отношению к государству, где идут протесты). В этом смысле критика демонстраций за то, что их кто-то направляет,— это просто критика того, что они хотят выжить и состояться.
Какой здесь вывод? Для государства старый как мир: если что-то нельзя запретить, то это надо возглавить. А вот для протестующих новый: государство, с которым борешься и которое ненавидишь, является необходимым условием твоего протеста и целью политики (если ты не хочешь, конечно, променять его на другое государство, но это не избавляет от проблемы — просто переводит стрелки). Демократия демонстраций требует не ослабления, а усиления роли государства, но в идеальной перспективе: это государство должно, с одной стороны, спокойно относиться к спонтанным волеизъявлениям народа, а с другой — еще и участвовать в создании низовых демократических структур. Это государство, что очень важно, должно даже допускать нарушение закона народом (потому что при спонтанном действии нарушения неизбежны) и, оставляя за собой право на насилие, максимально откладывать его применение во времени.
Варианты участия
Мой пафос заключается в том, что если нам не нравится текущая ситуация (в России, США или Европе), то, наверное, нужно объяснять, чего мы хотим, а не прибегать к охранительной риторике: верните, как раньше. Потому что ничего такого уж политически хорошего раньше не было, а что было, не работает в современном обществе.
Конечно, можно довольно долго тянуть статус-кво, основанный на пассивности масс. Но его ограничения очевидны: апатия населения сказывается на экономическом росте, творческих достижениях и даже военной силе. Не говоря уже о том, что в таком государстве, свободном от демократии демонстраций, рано или поздно случаются не демонстрации, а деструктивные бунты. Вторые от первых отличаются тем, что между «верхом» и «низом» уже нет и не может быть никакого контакта.
Чтобы уметь общаться со спонтанно участвующими в политике людьми, нужно для начала создавать какие-то полигоны, локальные сферы взаимопроникновения народа и власти.
Для России, с ее запросом на социальную справедливость и перераспределение благ, ценной тут могла бы быть социал-демократическая мысль. Скажем, привлечение людей (самых простых, случайно отобранных людей) к партиципаторному бюджетированию, то есть к совместной разработке кусочка муниципального бюджета. Такие эксперименты уже идут даже в России, но в очень малом масштабе. Другая понятная идея — создание неких комитетов самоуправления в фирмах, корпорациях. Речь не идет о полном разрушении капитализма, но все же о каких-то формах участия рядовых сотрудников в принятии решений, в повышении роли работников. Такие небольшие, контролируемые полигоны способны «откупорить» публичную сферу. Возможны объединения отдельных комитетов на уровне региона, города. Они вовсе не обязательно будут такими уж оппозиционными (если у тебя народ в целом не слишком оппозиционный). Для подобных экспериментов у России не самый плохой момент: мы еще не Белоруссия — это раз, и мы уже не наши 90-е годы — это два. Относительное затишье и аккуратный запрос на политическое участие (неаккуратный только у интеллигенции, у народа пока аккуратный) еще оставляют пространство для маневра. Это, конечно, оппортунистическая логика. В идеале же мы говорим об интеграции системы советов в конституционную власть: о том, что советы делегируют своих представителей ступенчато в советы более высокого уровня и в конце формируется общенациональный учредительный совет.
Власть сама пытается опереться на низовые движения и формирует их. Например, «Общероссийский народный фронт» и подобные провластные движения — это попытки российской власти играть в демократию более реалистического типа, чем представленная, скажем, в Думе. Но мы все понимаем авторитарную предзаданность подобных движений: в ОНФ берут только своих (это как бы расширенный вариант партии, а не учредительное собрание), его влияние на принятие решений — номинальное, и реальные сферы ответственности стремятся к нулю. Инструмент, который мог бы теоретически работать, в наших условиях неизбежно становится имитационным.
Демократическое государство в новых условиях отличается тем, что должно периодически, вне избирательного процесса, обращаться к той силе, которая его учреждает, контактировать с ней напрямую. Велик соблазн превратить все это в фейк и имитацию, но подобное лицемерие неприятно и уязвимо. Войти же в демократию демонстраций сразу, без навыка ею управлять — значит, быть еще более уязвимым, создавать режим крайне непрочный: массы быстро свергнут того самого лидера, который на них опирается (пример — Горбачев в 1991 году). Но остается вариант постепенного создания очагов, а затем институтов, спонтанной демократии внутри страны, с которыми будет налажен контакт, и тут есть над чем потрудиться как раз абстрактному сильному лидеру и новым конституционалистам.
Записала Ольга Филина
идеализма | Доктрины, аргументы, типы и критика
Идеализм , в философии — любая точка зрения, которая подчеркивает центральную роль идеального или духовного в интерпретации опыта. Он может утверждать, что мир или реальность существует по существу как дух или сознание, что абстракции и законы более фундаментальны в реальности, чем чувственные вещи, или, по крайней мере, что все, что существует, известно в измерениях, которые в основном ментальны, — через идеи и как идеи.
Таким образом, двумя основными формами идеализма являются метафизический идеализм, утверждающий идеальность реальности, и эпистемологический идеализм, который утверждает, что в процессе познания разум может охватить только психическое или что его объекты обусловлены их воспринимаемостью.Таким образом, в своей метафизике идеализм прямо противоположен материализму — представлению о том, что основная субстанция мира — это материя и что она известна прежде всего через материальные формы и процессы и как их. В своей эпистемологии он противоположен реализму, согласно которому в человеческом познании объекты воспринимаются и видятся такими, какие они есть на самом деле — в их существовании вне и независимо от разума.
Как философия, часто выражающаяся в смелых и обширных синтезах, идеализм также противопоставляется различным ограничительным формам мышления: скептицизму, за редкими исключениями, как в работе британского гегельянца Ф.Х. Брэдли; к логическому позитивизму, который подчеркивает наблюдаемые факты и отношения и, следовательно, отвергает спекулятивные «претензии» любой метафизики; а иногда и атеизм, поскольку идеалист иногда экстраполирует понятие разума, чтобы охватить бесконечный Разум. Сущностную ориентацию идеализма можно почувствовать через некоторые из его типичных положений: «Истина есть целое или Абсолют»; «Быть - значит быть воспринятым»; «Реальность более верно раскрывает свою изначальную природу в своих высших качествах (ментальных), чем в низших (материальных)»; «Эго одновременно субъект и объект.”
Ф. Х. БрэдлиФ. Х. Брэдли, фрагмент портрета Р. Г. Брэдли. Eves, 1924; в коллекции Мертон-колледжа, Оксфорд.
Предоставлено начальником и научными сотрудниками Мертон-колледжа, Оксфорд; фотография, Thomas-PhotosИдеализм — Отрасль / Доктрина
Введение | История идеализма | Субъективный идеализм | Трансцендентальный идеализм | Объективный идеализм | Абсолютный идеализм | Другие типы идеализмаИдеализм — это метафизическая и эпистемологическая доктрина, согласно которой идей или мыслей составляют фундаментальную реальность.По сути, это любая философия, которая утверждает, что единственное, что на самом деле познаваем, — это сознание (или содержание сознания), тогда как мы никогда не можем быть уверены, что имеет значение или что-то еще во внешнем мире на самом деле существует . Таким образом, только реальных вещей — это ментальных сущностей , а не физических вещей (которые существуют только в том смысле, что они воспринимаются ).
Идеализм — это форма монизма (в отличие от дуализма или плюрализма) и находится в прямом контрасте с другими монистскими верованиями, такими как физикализм и материализм (которые считают, что единственное, что может быть действительно доказано, это физическая материя ).Это также контрастирует с реализмом (который утверждает, что вещи имеют абсолютное существование, предшествующих и независимых, наших знаний или восприятий).
Широкое определение идеализма может включать в себя множество религиозных точек зрения , хотя идеалистическая точка зрения требует не обязательно включает Бога, сверхъестественных существ или существование после смерти. Это основной принцип ранней школы Йогачара и Буддизма , которая превратилась в основную школу Махаяны .Около индуистских деноминаций идеалистичны по своему мировоззрению, хотя некоторые предпочитают форму дуализма, как, например, христианство .
В общем языке , «идеализм» также используется для описания высоких идеалов человека (принципов или ценностей, которые активно преследуются как цель ), иногда с коннотацией, что эти идеалы неосуществимы или непрактичны . Слово «идеальный» также обычно используется как прилагательное для обозначения качеств совершенство , желательности и превосходства , что совершенно чуждо эпистемологическому использованию слова «идеализм», которое относится к внутреннему Ментальные представления .
Идеализм — это ярлык, который охватывает философских позиций с совершенно разными тенденциями и значениями, включая субъективный идеализм, объективный идеализм, трансцендентальный идеализм и абсолютный идеализм, а также еще несколько второстепенных вариантов или связанных концепций (см. Раздел на Другие типы идеализма ( ниже). Другие ярлыки, которые по сути эквивалентны идеализму, включают Mentalism и Immaterialism .
Платон — один из первых философов, которые обсуждали то, что можно было бы назвать идеализмом, хотя его Платонический идеализм , как ни странно, обычно называют платоническим реализмом. Это потому, что, хотя его доктрина описывала Формы, или универсалии (которые, безусловно, являются нематериальными «идеалами» в широком смысле), Платон утверждал, что эти формы имели свое собственное независимое существование , что не является идеалистической позицией. , но реалистичный. Однако утверждалось, что Платон считал, что «полная реальность» (в отличие от простого существования) достигается только посредством мысли , и поэтому он может быть описан как несубъективный , «трансцендентальный» идеалист, что-то вроде Канта.
Неоплатоник Плотин вплотную подошел к раннему изложению идеализма в утверждениях в его «Эннеадс» , что «единственное пространство или место в мире — это душа » и что « время Нельзя предполагать, что существует вне души «. Однако его доктрина была не полностью реализована , и он не пытался обнаружить, как мы можем вывести за пределы наших идей, чтобы узнать внешних объектов .
Рен Декарт был одним из первых, кто заявил, что все, что мы действительно знаем, , , это то, что находится в нашем собственном сознании , и что весь внешний мир — это просто идея или картина в нашем сознании . Следовательно, он утверждал, что можно сомневаться в реальности внешнего мира как состоящего из реальных объектов, и я думаю, следовательно, — единственное утверждение, что не может быть сомнительным . Таким образом, Декарта можно считать эпистемологическим идеалистом начала гг.
Ученик Декарта, Николя Мальбранш, усовершенствовал эту теорию, заявив, что мы знаем только внутренне, идей в нашем сознании; все внешнее является результатом действий Бога, и вся деятельность только кажется, что происходит во внешнем мире. Такой идеализм привел к пантеизму Спинозы.
Готфрид Лейбниц выразил форму идеализма, известную как панпсихизм . Он считал, что истинные атомы Вселенной — это монад и , (индивидуальные, невзаимодействующие «субстанциальные формы бытия», обладающие восприятием).Для Лейбница внешний мир — это идеал , поскольку это духовный феномен , движение которого является результатом динамической силы , зависящей от этих простых и нематериальных монад . Бог , «центральная монада», создал предустановленную гармонию между внутренним миром в умах бдительных монад и внешним миром реальных объектов, так что результирующий мир по существу является идея восприятия монад .
Епископ Джордж Беркли иногда известен как «Отец идеализма» , и он сформулировал одну из чистейших форм идеализма в начале 18 века . Он утверждал, что наше знание должно быть основано на наших восприятиях и что на самом деле не существует «реального» познаваемого объекта , стоящего за восприятием (фактически, что «реальным» было само восприятие ). Он объяснил, почему у каждого из нас, по-видимому, есть одного и того же вида восприятий объекта, введя Бога как непосредственную причину всех наших восприятий.Версия идеализма Беркли обычно упоминается как субъективный идеализм или догматический идеализм (см. Раздел ниже).
Артур Кольер (1680-1732), почти современник и соотечественник Беркли, опубликовал несколько очень похожих заявлений примерно в то же время (или даже ранее ), хотя эти два, очевидно, не были знакомы с с , или под влиянием работы друг друга.
Иммануил Кант, , самый ранний и наиболее влиятельный член школы немецкого идеализма , также начал с позиции британского эмпиризма Беркли (все, что мы можем знать, это мысленных впечатлений или феноменов , которые внешний мир творит в нашем сознании).Но он утверждал, что разум формирует мира, как мы его воспринимаем, принимая из пространства-времени. Согласно Канту, разум — это не чистый лист (или tabula rasa ), как полагал Джон Локк, а, скорее, он снабжен категориями для , упорядочивающими наших чувственных впечатлений , даже если мы фактически не можем приблизиться к noumena («вещи-в-себе»), которые испускают или порождают феноменов («вещи-как-они-кажутся-нам»), которые мы воспринимаем.Идеализм Канта известен как трансцендентальный идеализм (см. Раздел ниже).
Иоганн Готлиб Фихте опроверг кантовскую концепцию ноумен , утверждая, что признание внешнего любого вида было бы тем же самым, что признание реальной материальной вещи . Вместо этого Фихте утверждал, что сознание составляет свое собственное основание и не имеет никакого заземления в так называемом «реальном мире» (на самом деле, оно не основано на на чем-либо, вне самого ).Он был первым, кто постулировал теорию познания, в которой абсолютно ничего, , не считалось бы существующим , кроме самого мышления .
Фридрих Шеллинг также опирался на работы Беркли и Канта и вместе с Гегелем разработал Объективный идеализм и концепцию «Абсолют» , которую Гегель позже развил как Абсолютный идеализм.
GWF Гегель был еще одним из известных немецких идеалистов, и он утверждал, что любая доктрина (такая как материализм, например), которая утверждает, что конечных качеств (или просто естественные объекты) полностью реальны , ошибочна, потому что конечные качества зависят от на другие конечные качества для их определения.Гегель назвал свою философию абсолютным идеализмом (см. Раздел ниже) в отличие от субъективного идеализма Беркли и трансцендентального идеализма Канта и Фихте, оба из которых он критиковал. Хотя он серьезно относился к некоторым идеям Канта, Гегель основывал свою доктрину больше на вере Платона в то, что самоопределение посредством применения причины достигает более высокого вида реальности , чем физических объектов .
Другой немецкий идеалист, Артур Шопенгауэр, опирался на кантовское деление вселенной на феноменальный и нуменальный , предполагая, что нуменальная реальность — это единственное число , тогда как феноменальный опыт включает множественность , и эффективно утверждал, что все ( однако маловероятно) в конечном итоге является волевым актом .
Во второй половине XIX века, Британский идеализм во главе с FH Bradley (1846-1924), TH Green (1836-1882) и Бернардом Босанке (1848-1923) продолжали отстаивать Идеализм перед лицом сильной оппозиции доминирующих физикалистских доктрин.
Субъективный идеализм (или солипсизм, или субъективизм, или догматический идеализм или имматериализм ) — это доктрина, согласно которой разум и идеи — единственные вещи, которые могут быть определенно известны как существующие или имеющие какую-то реальность. , и это знание чего-либо за пределами ума неоправданно .Таким образом, объекты существуют благодаря нашему восприятию из них, как идеи, находящиеся в нашем сознании и в сознании Божественного Существа или Бога.
Его главным сторонником был ирландский философ 18 века епископ Джордж Беркли, который развил его на основе основ эмпиризма, которые он разделял с другими британскими философами, такими как Джон Локк и Дэвид Хьюм. Эмпиризм подчеркивает роль опыта и чувственного восприятия в формировании идей, игнорируя при этом понятие врожденных идей .
Беркли полагал, что существование было связано с опытом , и что объекты существуют только как восприятие , а не как материя , отдельная от восприятия. Он утверждал, что «Esse est aut percipi aut percipere» или «Быть - значит воспринимать или воспринимать» . Таким образом, внешний мир имеет только относительных и временных реальностей. Он утверждал, что если он или другой человек видел, например, стол, то эта таблица существовала как ; однако, если никто не видел таблицу, то только мог бы продолжать существовать , если бы он был в уме Бога .Беркли далее утверждал, что именно Бог заставляет нас испытывать физические объекты, непосредственно желая нам, , испытывать материю (таким образом избегая лишнего, ненужного шага создания , которые имеют значение).
Трансцендентальный идеализм (или Критический идеализм ) — это точка зрения, согласно которой наше восприятие вещей связано с тем, как они кажутся нам (репрезентациями), а не с теми вещами, которые сами по себе .Трансцендентальный идеализм, вообще говоря, не отрицает , что объективный мир, внешний для нас существует , но утверждает, что существует сверхчувственная реальность за пределами категорий человеческого разума , которую он назвал ноуменом , примерно переводится как «вещь в себе» . Однако мы, , не можем знать ничего об этих «вещах в себе», за исключением того, что они не могут иметь независимого существования вне наших мыслей, хотя они должны существовать для обоснования представлений.
Доктрина была впервые представлена Иммануилом Кантом (в его «Критика чистого разума» ), а также была поддержана Иоганном Готлибом Фихте и Фридрихом Шеллингом, а затем воскресла в 20 веке Эдмундом Гуссерлем.
Этот тип идеализма считается «трансцендентным», потому, что мы в некотором отношении принуждены к нему , считая, что наше знание имеет необходимых ограничений , и что мы никогда не сможем познать вещи такими, какие они есть на самом деле , полностью независимо от нас.Название, однако, можно считать противоречащим интуиции и сбивающим с толку, и сам Кант предпочел ярлык Critical Idealism .
Объективный идеализм — это представление о том, что мир «снаружи» на самом деле Разум общается с нашим человеческим разумом . Он постулирует, что существует только один воспринимающий , и что этот воспринимающий является одним с тем, что воспринимается . Он принимает реализм здравого смысла (точка зрения, что независимые материальные объекты существуют ), но отвергает натурализм (точка зрения, что разум и духовные ценности возникли из материальных вещей).
Платон считается одним из первых представителей объективного идеализма (хотя можно утверждать, что мировоззрение Платона было на самом деле дуалистическим, а не истинно идеалистическим). Окончательная формулировка доктрины была дана немецким идеалистом Фридрихом Шеллингом, а затем адаптирована Г. В. Ф. Гегелем в его теории абсолютного идеализма. Более недавних защитников включали К. С. Пирса и Джозайю Ройса (1855-1916).
Объективный идеализм Шеллинга соглашается с Беркли в том, что не существует такой вещи как материя в материалистическом смысле, и что дух является сущностью, а — всей реальностью .Однако он утверждал, что существует совершенная параллель между миром природы и структурой нашего осознания ее. Хотя это не может быть правдой для индивидуального эго, это может быть верно для абсолютного сознания . Он также возражал против идеи, что Бог отделен от мира , утверждая, что реальность — это единый, абсолютный, всеобъемлющий разум , который он (и Гегель) именовал «Абсолютным Духом» (или просто «Абсолют» ).
Согласно объективному идеализму, Абсолют — это все реальности: ни одно время, пространство, отношение или событие никогда не существует и не происходит вне его. Поскольку Абсолют также содержит всех возможностей сам по себе, он не статичен, а постоянно меняет и прогрессирует . Человеческие существа, планеты и даже галактики — это не отдельных существ , а часть чего-то большего, подобно отношению клеток или органов ко всему телу в целом.
Общее возражение против идеализма состоит в том, что неправдоподобно и противоречит здравому смыслу думать, что может быть аналитическое сведение физического к ментальному. Гегелевская система объективного идеализма также подверглась критике за то, что просто подставило Абсолют вместо Бога, что в конечном итоге ничего не делает яснее .
Абсолютный идеализм — это точка зрения, первоначально сформулированная GWF Гегелем, что для того, чтобы человеческий разум мог вообще знать мир, в некотором смысле должна существовать идентичность, мысли и существование; в противном случае у нас никогда не было бы никаких средств доступа к миру, и у нас не было бы уверенности ни в каком из наших знаний.Подобно Платону за много веков до него, Гегель утверждал, что упражнение разума позволяет рассуждающему достичь своего рода реальности (а именно самоопределения , или «реальности как самого себя»), что всего лишь физических объектов , подобных скалам. никогда не достичь.
Гегель исходил из позиции Канта о том, что разум не может знать «вещи в себе», и утверждал, что реальным становится «Geist» (разум, дух или душа), который он рассматривает как развитие через историю , каждый период имеет «Zeitgeist», (дух времени).Он также считал, что индивидуальное сознание или ум каждого человека является частью Абсолютного Разума (даже если человек этого не осознает), и утверждал, что если бы мы поняли, что мы были частью большего сознания , мы не были бы так озабочены нашей индивидуальной свободой , и мы согласились бы действовать рационально таким образом, чтобы не следовать нашему индивидуальному капризу, тем самым достигая самореализации .
Для Гегеля взаимодействие противоположностей (или диалектика ) порождает все концепций , которые мы используем для понимания мира. Это происходит как в индивидуальном сознании , так и в истории . Таким образом, абсолютное основание как является, по сути, динамичным, все более сложным историческим процессом по необходимости, который разворачивается сам по себе, в конечном итоге порождая все разнообразие в мире и концепции , с которыми мы мыслим и разобраться в мире.
Доктрина Гегеля позже была поддержана Ф. Х. Брэдли (1846-1924) и движением британских идеалистов , а также Джозайей Ройсом (1855-1916) в США.
Сторонники аналитической философии, которая была доминирующей формой англо-американской философии на протяжении большей части 20-го века, критиковали работу Гегеля как безнадежно неясную . Прагматики, такие как Уильям Джеймс и Ф. С. Шиллер , атаковали Абсолютный идеализм за то, что он слишком отключен от нашей практической жизни .Г. Э. Мур использовал здравого смысла и логический анализ против радикально противоречивых выводов Абсолютного идеализма (например, что время нереально, изменение нереально, разделенность нереальна, несовершенство нереально и т. Д.).
Экзистенциалисты также критиковали Гегеля за то, что он в конечном итоге выбрал эссенциалистское целое, а не особенность существования. Шопенгауэр возражал, что Абсолют — это всего лишь неличностный заменитель концепции Бога.Другая извечная проблема метафизики Гегеля — это вопрос о том, как дух экстернализирует себя и как концепции, которые он порождает, могут сказать что-либо истинное о природе; в противном случае его система превращается в запутанную игру , , включающую пустые концепции.
Помимо основных типов идеализма, упомянутых выше, существует других типов идеализма идеализма:
- Эпистемологический идеализм утверждает, что умов осознают или воспринимают только свои собственные идеи (представления или ментальные образы), а не внешние объекты , и поэтому мы не можем напрямую знать вещи сами по себе , или вещи , как они есть на самом деле .Все, о чем мы можем когда-либо знать, — это мир феноменального человеческого опыта , и нет никаких оснований подозревать, что реальность на самом деле отражает наших восприятий и мыслей. Это очень похоже на доктрину феноменализма.
- Актуальный идеализм — это форма идеализма, разработанная итальянским философом Джованни Джентиле (1875–1944), которая противопоставила трансцендентальный идеализм Канта и абсолютный идеализм Гегеля.Его система считала мысль всеобъемлющей и утверждала, что никто не может на самом деле оставить своей сферы мышления или превзойти своей собственной мысли. Его идеи были ключевыми в том, чтобы помочь фашистской партии консолидировать власть в Италии, и дали фашизму большую часть его философской базы .
- Буддийский идеализм (также известный как «только сознание» или «только ум» ) — это концепция буддийской мысли, согласно которой все существование не что иное, как сознание , и поэтому нет ничего, что лежит снаружи разума .Это основной принцип ранней школы буддизма Йогачара , которая превратилась в основную школу Махаяны .
- Панпсихизм утверждает, что все части материи связаны с разумом или, альтернативно, что вся вселенная является организмом , обладающим разумом . Следовательно, согласно панпсихизму, все объектов опыта также являются субъектами (т.е. растения и минералы имеют субъективных переживаний , хотя и сильно отличаются от сознания человека).Готфрид Лейбниц придерживался такой точки зрения идеализма.
- Практический идеализм — это политическая философия , которая считает его этическим императивом для реализации идеалов добродетели или добра (следовательно, не имеет отношения к идеализму в других его смыслах). Его самым ранним зарегистрированным использованием был Махатма Ганди (1869-1948), хотя сейчас он часто используется во внешней политике и международных отношениях, где он претендует на прагматический компромисс между политическим реализмом (который подчеркивает продвижение государственной политики. узкие и аморальные своекорыстия ) и политический идеализм (который направлен на использование влияния и власти государства для продвижения высших либеральных идеалов , таких как мира , справедливости и сотрудничества между странами).
Идеальная и неидеальная теория в политической философии
Резюме
Различие между идеальной и неидеальной теорией является важной методологической проблемой в современной политической теории. Речь идет о том, в какой степени политическое теоретизирование является практическим делом и, следовательно, в какой степени реальные факты должны быть учтены при политическом теоретизировании или иначе приняты во внимание.
Различие между идеальной теорией и неидеальной теорией впервые было введено Джоном Ролзом в его классической книге A Theory of Justice .Идеальная теория Ролза — это описание общества, к которому мы должны стремиться с учетом определенных фактов о человеческой природе и возможных социальных институтах, и включает два основных допущения. Во-первых, это предполагает полное соответствие соответствующих агентов требованиям правосудия. Во-вторых, предполагается, что исторические и природные условия общества достаточно благоприятны. Эти два предположения по отдельности необходимы и вместе достаточны для его идеальной теории. Для Ролза неидеальная теория в первую очередь обращается к вопросу о том, как идеал может быть достигнут на практических, допустимых шагах в реальном, частично справедливом обществе, в котором мы живем.
Изложение идеальной и неидеальной теории, выдвинутое Ролзом, подвергалось критике с разных сторон. Амартья Сен принимает различие Ролза между идеальной и неидеальной теорией, но утверждает, что неидеальная теория в стиле Ролза слишком идеальна. Учитывая множество серьезных несправедливостей, с которыми мы сталкиваемся, нам не нужно знать, как выглядит идеальная (или «трансцендентная») справедливость; мы не должны сосредотачиваться на том, как перейти к этому идеалу. Вместо этого для продвижения справедливости требуется сравнительное суждение, которое ранжирует возможные стратегии с точки зрения их большей или меньшей справедливости, чем статус-кво.Г. А. Коэн, напротив, утверждает, что идеальная теория в стиле Ролза — это не идеальная теория как таковая, а принципы регулирования общества. Наши представления о нормативных принципах должны, в конечном счете, быть нечувствительными к вопросам эмпирических фактов; Подлинная идеальная теория — это форма моральной эпистемологии (упражнение по выявлению нормативных истин).
Аргумент Платона в пользу правления философских королей
Каков аргумент Платона в пользу вывода о том, что философы должны править? Убедительно?
Абстракция
Цель этого эссе — проверить, насколько обоснован и убедителен аргумент Платона о том, что философы должны быть правителями республики.В книге The Republic Платон утверждает, что короли должны стать философами или что философы должны стать королями или философами, поскольку они обладают особым уровнем знаний, который необходим для успешного управления Республикой. В эссе утверждается, что аргумент Платона в пользу правления философских царей не является ни убедительным, ни реалистичным в теории, но что следы характеристик его идеальной формы правления действительно проявляются в современном государстве. Чтобы изложить этот аргумент, в эссе, во-первых, рассмотрим аргумент Платона в пользу королей-философов, а также его ограничения, а во-вторых, и, наконец, рассмотрим, какие характеристики правления королей-философов действительны и реалистичны с точки зрения современного государства.
Введение
В работе Платона « Республика » систематически подвергается сомнению бытие, поскольку «Республика » сама по себе является попыткой ответить на проблему человеческого поведения: справедливость. Для решения проблемы справедливости Платон рассматривает идеальный полис, коллективную единицу самоуправления и взаимосвязь между структурой республики и достижением справедливости. Платон утверждает, что короли-философы должны быть правителями, поскольку все философы стремятся открыть идеальный полис.«Каллиполис», или прекрасный город, — это справедливый город, где политическое правление зависит от знаний, которыми обладают короли-философы, а не от власти. Хотя теоретически было бы идеально, если бы республика и современное государство управлялись знаниями, а не властью, власть имеет решающее значение в структуре политической деятельности. Это один из недостатков аргументации Платона, который будет обсуждаться в эссе. Возникает вопрос о том, кто должен править, и в конце эссе будет сказано, что, с точки зрения аргументации Платона, философы-короли не должны быть правителями, поскольку Платон рекламирует недемократическую политическую систему во главе с доброжелательным диктатором.В то же время неизбежно выделить некоторые черты современного государства, соответствующие чертам идеального полиса.
Аргумент Платона
Определение демократии является ключевым в понимании аргумента Платона в пользу правления философов. В настоящее время большинство современных государств являются демократическими в том смысле, что люди имеют право голоса в управлении государством. Со времен Платона ведутся споры о том, что такое демократия: идея ли это правления большинства или то, что стало известно как «мэдисонский взгляд», согласно которому демократия предполагает защиту меньшинств.Для Платона все сводится к тому, что буквально означает демократия. Демократия — это «правление демоса», где «демос» можно понимать как «народ» и как «толпу… непригодных» (Wolff; 2006, 67). Как утверждает Вольф: «Принятие политических решений требует рассудительности и навыков. Платон настаивает, что это следует оставить на усмотрение экспертов ». (Вольф; 2006, 67). Чтобы еще больше подчеркнуть это, Платон использует «аналогию с кораблем», опираясь на аллегорию корабля. В произведении Платона «Республика » Сократ приводит пример корабля, которым руководят люди, не знающие мореплавания, которые
«не понимаю, что настоящий капитан должен обращать внимание на времена года, небо, звезды, ветер и все, что имеет отношение к его ремеслу, если он действительно хочет быть правителем корабля.И они не верят, что существует какое-либо ремесло, которое позволило бы ему определить, как он должен управлять кораблем, хотят ли его другие или нет, или любую возможность овладеть этим предполагаемым ремеслом или практиковать его одновременно с ремесло мореплавания. Не думаете ли вы, что истинный капитан будет называться настоящим звездочетом, болтуном и бездельником теми, кто плывет на кораблях, управляемых таким образом? » (Платон; 2007, 204)
Этой аллегорией Платон не только подчеркивает идею о том, что специализация является ключом к управлению Республикой, но также и о том, что философы были недооценены в Афинах 420 г. до н.э. и, следовательно, бесполезны, потому что мир не будет использовать их и их знания.Он также подчеркивает опасность свободы и равенства, а также неестественность демократии.
Идея специализации Платона также связана со справедливостью, которую он считает структурной, поскольку политическая справедливость является результатом структурированного города, где индивидуальная справедливость является результатом структурированной души и где каждый член полиса имеет « конкретное ремесло, к которому у него есть природные способности »(Рив; 2009, 69). «Управление… — это навык» (Wolff; 2006, 68), который требует специальной подготовки, доступной немногим.В то же время философы должны обладать качествами, позволяющими им править; например, они должны уметь распознавать разницу между другом и врагом, добром и злом. Прежде всего философы должны «любить мудрость» [1] (Nichols; 1984, 254), поскольку власть мудрых ведет к господству справедливости, а философия становится суверенной. Справедливость — это добродетель, как и знание, требующее понимания. Понимание относится к добру, и поэтому знание и добро едины. Цари-философы обладают добродетелью, поскольку обладают знанием, и поэтому, согласно Платону, их правление оправдано.
Критика аргумента Платона
Аргумент Платона очень согласуется с тем, что он определяет как демократию, правление непригодных. Его аргумент может быть верным в том смысле, что он объясняет, что эти философы обладают «способностью постигать вечное и неизменное» (Платон; 2007, 204), в то время как обычные люди слепы, поскольку у них «нет истинного знания реальности и нет ясный эталон совершенства в их сознании, к которому они могут обратиться »(Платон; 2007, 204-205). Тем не менее этот аргумент не является убедительным или реалистичным в современной политике и современном государстве по ряду причин.
Во-первых, и, возможно, самое главное, все современные государства подчеркивают, что сегодня демократия определяется как «управление« людьми, людьми и для народа »» (Wolff; 2006, 62). Таким образом, все государства не только стали сторонниками представительной модели демократии, согласно которой избиратели определяют, кто будет представлять их на правительственном уровне, но и заняли плюралистическое отношение к политике. Фактически, теоретически государство больше не является инструментом в руках элиты или философов Платона, а является публичной и нейтральной ареной, где группы интересов собираются вместе, чтобы спорить и обсуждать политику, которая «в основном экономический »(Драйзек и Данливи; 2009, 41).В идеале эти заинтересованные группы должны обладать необходимыми знаниями для осуществления политических изменений, но очень сложно определить и количественно оценить знания, необходимые для осуществления таких изменений. Как утверждает Вольф, «никто не может быть абсолютно уверен ни в чем. Все утверждения о знании… подвержены ошибкам »(Wolff; 2006, 70). Кроме того, быть философом и знать о логике, этике, метафизике и политической философии не обязательно делает вас экспертом по интересам людей. Теоретически правители стремятся представлять и поддерживать людей.Платона, очевидно, не интересует репрезентативная форма правления, но в настоящее время необходимо, хотя и сложно, обеспечить, чтобы все управляемые были представлены, по крайней мере, в определенной степени, своими правителями.
Платон также утверждает, что конкретное образование, доступное немногим, позволит этим немногим стать философами, но опять же это создаст правящий класс, который не является представителем управляемых. В то же время трудно найти правительство, на 100% представляющее его население.Возьмем, к примеру, членов Палаты общин, многие из которых посещали элитные школы, такие как Итон и Оксфорд: они не являются представителями населения, но управляют Соединенным Королевством. Тем не менее аргумент Платона вышел за рамки времени, поскольку Палата лордов, а также Сенат в двухпалатных системах являются ареной экспертов, которые проверяют и изменяют законы, принимаемые членами парламента. Возможно, настоящие эксперты — это те, кто осведомлен об интересах людей, и голосование укажет на эти интересы, поскольку, как утверждал Милль, «заблуждение здесь состоит в том, чтобы думать о людях как о однородной массе с одним интересом … мы не такие, как это »(Вольф; 2006, 64).
Наконец, главный недостаток аргумента Платона, делающий его крайне неубедительным, заключается в том, что он описывает и аргументирует в пользу того, что Вольтер определил как «доброжелательную диктатуру», когда просвещенный деспот не нуждается в консультации с людьми. , тем не менее, будет руководить в их интересах »(Wolff; 2006, 62). С точки зрения современного государства, где люди постоянно требуют большего голоса в управлении правительством, и с негативным отношением к тоталитаризму из-за событий 20 -го -го века, аргумент Платона становится все более неприменимым.Как утверждал Карл Поппер, неправильно отдавать политическую власть в руки элиты. Тем не менее, также нереально утверждать, что сегодня элиты не существует, поскольку, например, всегда есть несколько основных политических партий, которые по очереди управляют правительствами.
Заключение
Платон утверждает, что «не будет конца бедам государств… самому человечеству, пока философы не станут королями в мире… и политическая власть и философия, таким образом, не попадут в одни руки» (Платон; 2007, 192).Возможно, аргумент Платона в пользу группы знающих людей, способных принести счастье и справедливость в республику, идеален, но крайне нереалистичен. Как утверждал Аристотель, человек — политическое животное, и для всех нас, а не только для элиты стариков, неизбежно проявлять интерес и иметь право голоса в политике, поскольку это сила, которая неизбежно влияет на всех нас. Аргумент Платона призывает нас не только быть незаинтересованными в политическом процессе, но и оставить свои права и мнения в руках доброжелательного диктатора.По этой причине его аргумент не только неубедителен, но и нереалистичен.
Библиография
Драйзек, Джон, Данливи, Патрик, Теории демократического государства , первое издание (Бейзингсток; Пэлгрейв Макмиллан, 2009)
Николс, Мэри П., «Две альтернативы республики: короли-философы и Сократ», Политическая теория , том. 12, вып. 2, май 1984 г., страницы 252-274
Платон (автор), Ли, Десмонд (переводчик), Лейн, Мелисса (Введение), Республика , второе издание с новым вступлением (Лондон; Penguin Classics, 2007)
Рив, К.D.C, Платон , в Баучер, Дэвид и Келли, Пол, Политические мыслители: от Сократа до настоящего времени , второе издание (Oxford; Oxford University Press, 2009)
Reeve, C.D.C, P hilosopher-Kings: The Argument of Plato’s «Republic» , First Edition (Кембридж, Массачусетс; Hackett Publishing Co. Inc., 2006 )
Вольф, Джонатан, Введение в политическую философию , второе издание (Оксфорд; Oxford University Press, США, 2006)
[1] Философия от классического греческого «философия» буквально означает «любовь к мудрости».
–
Автор: Джулия Матасса
Написано: Йоркский университет
Написано для: Д-р Тим Стэнтон
Дата написания: декабрь 2012 г.
Дополнительная литература по электронным международным отношениям
Оценка идеального состояния Платона
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ: ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА
1.1 Жизнь Платона, от политики к философии.
1.2 Тройная задача политической философии
1.3 В поисках справедливости в Республике
1.4 Лучший политический приказ
ГЛАВА ВТОРАЯ: О КОНЦЕПЦИИ ПРАВОСУДИЯ
2.1 Природа правосудия
2.2 Правосудие как добродетель
2.3 Платон о правосудии
2.4 Традиционалистская концепция правосудия
ГЛАВА ТРЕТЬЯ: ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАТОНА
3.1 Лучший политический порядок
3.2 Правительство философских правителей
3.3 Платон о человеке и лидерстве
3.4 Руководство и право на командование
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: ОЦЕНКА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4.1 Лидерство в свете современного общества
4.2 Демократия и лидерство.
4.3 Критика идеального состояния Платона
4.4 Вывод
Библиография
ВВЕДЕНИЕ
Эта работа представляет собой попытку оценить идеальное состояние Платона.В нем утверждается, что существует необходимость перестроить идеальное государство Платона, чтобы оно соответствовало современным реалиям, не отрицая его цели — преобразованного общества, вызванного преобразующим лидерством.
Платон утверждал, что человечество не сможет избавиться от зла до тех пор, пока те, кто на самом деле философы, не приобретут политическую власть или пока через какое-то божественное устроение те, кто правят и имеют политическую власть в городах, не станут настоящими философами. Платон пришел к выводу, что все существующие правительства были плохими и почти не подлежат искуплению, поэтому он теоретизировал идеальное государство.Идеальное государство, согласно Платону, состоит из трех классов. Экономическая структура государства поддерживается купеческим сословием. Потребности в безопасности удовлетворяются военным классом, а политическое лидерство обеспечивается королями-философами.
В попытке переоценить идеальное состояние Платона, эта работа вновь подчеркнула важность трансформирующего лидерства как необходимого инструмента для общественного блага и трансформации. Он настоятельно призывает к принятию соответствующих областей концепции идеального государства Платона, основанной на преобладающих потребностях и реалиях современного общества.
ГЛАВА ПЕРВАЯ: ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА
1.1 ЖИЗНЬ ПЛАТОНА, ОТ ПОЛИТИКИ К ФИЛОСФИИ.
Платон родился в Афинах в 427 г. до н. Э. До его двадцати пяти лет Афины были вовлечены в длительный и разрушительный военный конфликт со Спартой, известный как Пелопоннесская война. Хотя он лелеял надежду занять значительное место в своем политическом сообществе, ему постоянно мешали. Платон не мог идентифицировать себя ни с одной из противоборствующих политических партий или сменой коррумпированных режимов, каждая из которых привела Афины к дальнейшему упадку.
Сын богатых и влиятельных афинских родителей, Платон начал свою философскую карьеру как ученик Сократа . Когда учитель умер, Платон отправился в Египет и Италию, учился у учеников Пифагора и несколько лет консультировал правящую семью Сиракуз. В конце концов он вернулся в Афины и основал свою собственную философскую школу — Академию. Платон пытался передать наследие сократовского стиля мышления и направлять прогресс студентов через математическое обучение к достижению абстрактной философской истины. [1]
Философы-досократы в основном интересовались космологией и онтологией; Обеспокоенность Сократа была противоположной. В 399 г., когда демократический суд большинством из пятисот одного присяжного проголосовал за казнь Сократа по несправедливому обвинению в нечестии, Платон пришел к выводу, что все существующие правительства были плохими и почти не подлежали искуплению. Таким образом, он утверждает, что
Человеческая раса не получит отсрочки от зла до тех пор, пока те, кто действительно являются философами, не приобретут политическую власть или пока через какое-то божественное устроение те, кто правят и имеют политическую власть в городах, не станут настоящими философами [2]
Возможно, из-за этого мнения он удалился в свою Академию и на Сицилию для реализации своих идей.Говоря об академии Платона, Тейлор постулировал так:
Основание Академии является поворотным моментом в жизни Платона и в некотором смысле самым памятным событием в истории европейской науки. Это было кульминацией его усилий. Это было постоянное учреждение, занимавшееся наукой путем оригинальных исследований. [3]
Платон посетил Сиракузы сначала в 387 г. до н. Э., Затем в 367 г. до н. Э., С общей целью смягчить сицилийских тиранов с помощью философского образования и установить образец политического правления.Но это приключение с практической политикой закончилось неудачей, и Платон вернулся в Афины.
Его Академия, служившая базой для последующих поколений философов-платонов до своего окончательного закрытия в 529 г. до н. Э., Стала самым известным учебным заведением эллинистического мира. Здесь изучались математика, риторика, астрономия, диалектика и другие предметы, которые считались необходимыми для образования философов и государственных деятелей. Некоторые из учеников Платона позже стали лидерами, наставниками и советниками по конституционным вопросам в греческих городах-государствах.Его самым известным учеником был Аристотель. Платон умер в c. 347 г. до н. Э.
1.2 ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Идеальное государство, по Платону, состоит из трех классов. Экономическая структура государства поддерживается купеческим сословием. Потребности в безопасности удовлетворяются военным классом, а политическое лидерство обеспечивается королями-философами. Класс конкретного человека определяется образовательным процессом, который начинается с рождения и продолжается до тех пор, пока этот человек не достигнет максимального уровня образования, совместимого с интересами и способностями.Те, кто завершает весь образовательный процесс, становятся королями-философами. Это те, чей ум настолько развит, что они способны постигать Формы и, следовательно, принимать самые мудрые решения. Действительно, идеальная образовательная система Платона в первую очередь построена так, чтобы производить королей-философов. Платон связывает традиционные греческие добродетели с классовой структурой идеального государства. Умеренность — уникальное достоинство класса ремесленников; храбрость — добродетель, присущая военному классу; и мудрость характеризует правителей.Справедливость, четвертая добродетель, характеризует общество в целом. Справедливое состояние — это такое состояние, в котором каждый класс хорошо выполняет свою функцию, не нарушая действия других классов. Платон делит человеческую душу на три части: рациональную часть, волю и аппетиты. Справедливый человек — это тот, у кого рациональный элемент, поддерживаемый волей, контролирует аппетиты. Здесь существует очевидная аналогия с тройной классовой структурой государства, в которой просвещенные короли-философы при поддержке солдат управляют остальной частью общества.
1.3 ПОИСК ПРАВОСУДИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
Согласно Платону, идеальное государство обладало четырьмя главными добродетелями: мудростью, храбростью, дисциплиной и справедливостью. Справедливость — одна из самых фундаментальных этических и политических концепций. Это сложное и неоднозначное понятие. Это может относиться к индивидуальной добродетели, общественному порядку, а также к индивидуальным правам в отличие от требований общего социального порядка [4] .
В Книге I Республики Сократ и его собеседники обсуждают значение справедливости.Предлагаются четыре определения, показывающих, как на самом деле используется слово «справедливость». Цефал предлагает первое определение. Справедливость — это «говорить правду и расплачиваться за то, что взяли взаймы» [5] Тем не менее, это определение, основанное на традиционных моральных обычаях, связывает справедливость с честностью и добротой; то есть платить долги, говорить правду, любить свою страну, иметь хорошие манеры, проявлять должное уважение к богам и т. д. оказывается недостаточным. Он не может противостоять вызову нового времени и силе критического мышления.Сократ опровергает это, приводя контрпример. Если мы молчаливо соглашаемся с тем, что справедливость связана с добром, то возвращение оружия, которое было позаимствовано у кого-то, кто, хотя когда-то был в здравом уме, превратился в сумасшедшего, не кажется справедливым, но сопряжен с опасностью причинения вреда для обеих сторон.
Сын Цефала Полемарх, который продолжает дискуссию после того, как его отец ушел, чтобы принести жертву, высказал свое мнение, что поэт Симонид был прав, говоря, что это было справедливо для каждого из них. [6] Он объясняет это утверждение, определяя справедливость как хорошее отношение к друзьям и плохое обращение с врагами.Под давлением возражений Сократа о том, что кто-то может ошибаться в оценке других и, таким образом, причинять вред хорошим людям, Полемарх изменяет свое определение, утверждая, что справедливость заключается в том, чтобы хорошо относиться к хорошему другу и причинять вред врагу, который плох. Однако, когда Сократ в конце концов возразил, что нельзя просто причинить кому-либо вред, потому что справедливость не может порождать несправедливость, Полемарх полностью запутался. Он согласился с Сократом в том, что справедливость, в которой обе стороны молчаливо соглашаются, относится к добру, не может причинить никакого вреда, который может быть причинен только несправедливостью.Как и его отец, он отказался от диалога. Внимательный читатель заметит, что Сократ не отвергает определение справедливости, содержащееся в высказывании Симонида, которого называют мудрым человеком, а именно, что справедливость оказывает каждому то, что ему приличествует, а только его объяснение, данное Полемархом. Это определение, тем не менее, неясно.
Первая часть Книги I Республики заканчивается отрицательно, стороны соглашаются, что ни одно из представленных определений не выдерживает проверки и что исходный вопрос « Что такое справедливость, ?» ответить труднее, чем казалось вначале.Этот негативный результат можно рассматривать как лингвистическую и философскую терапию. Во-первых, хотя возражения Сократа против данных определений можно оспорить, в их нынешнем виде показано, что популярные мнения о справедливости содержат несоответствия. Они несовместимы с другими мнениями, которые считаются правдой. Известные определения, основанные на повседневном использовании слова «справедливость», возможно, помогают нам частично понять, что означает справедливость, но не дают полного представления о том, что такое справедливость.
Эти определения должны быть дополнены определением, которое поможет внести ясность и установить значение справедливости.Однако, чтобы предложить такое адекватное определение, нужно знать, что такое справедливость на самом деле. То, как люди определяют данное слово, во многом определяется их убеждениями в отношении того, что упоминается этим словом. Определение, которое является просто произвольным, либо слишком узким, либо слишком широким, основанным на ложном представлении о справедливости, не дает возможности общения. Платонические диалоги — это выражение окончательного общения, которое может иметь место между людьми; и истинное общение может иметь место только в том случае, если люди могут разделять значения слов, которые они используют.Коммуникация, основанная на ложных убеждениях, таких как утверждения идеологии, все еще возможна, но кажется ограниченной, разделяя людей на фракции и, как учит нас история, может в конечном итоге привести только к путанице. Определение справедливости как «хорошо относиться к друзьям и плохо к врагам» для Платона не только неадекватно, потому что оно слишком узкое, но и неверно, потому что оно основано на ошибочном представлении о том, что такое справедливость, а именно на вере, основанной на фракционности, который Сократ связывает не с мудрыми, а с тиранами [7] .Следовательно, в Republic , как и в других платонических диалогах, существует взаимосвязь между концептуальным анализом и критической оценкой верований. Цели этих разговоров не только лингвистические, чтобы прийти к адекватному вербальному определению, но и существенные, чтобы прийти к правильному убеждению. Вопрос «что такое справедливость» касается не только лингвистического использования слова «справедливость», но прежде всего того, к чему это слово относится. В центре внимания второй части Книги I Republic больше не разъяснение понятий, а оценка верований.
В платонических диалогах, вместо того, чтобы говорить им, что они думают, Сократ часто заставляет своих собеседников говорить ему, что они думают. Следующий этап обсуждения значения справедливости берет на себя софист Фрасимах, который яростно и нетерпеливо врывается в диалог.
В пятом и четвертом веках до нашей эры софисты были оплачиваемыми учителями риторики и других практических навыков, в основном неафинянами, которые предлагали курсы обучения и утверждали, что обладают наилучшей квалификацией для подготовки молодых людей к успеху в общественной жизни.Платон описывает софистов как странствующих индивидуумов, известных своими риторическими способностями, которые отвергают религиозные верования и традиционную мораль, и противопоставляет их Сократу, который как учитель отказывался принимать плату и вместо того, чтобы учить навыки, посвятил себя бескорыстному исследованию. в то, что верно и справедливо. В презрительной манере Фрасимах просит Сократа перестать говорить ерунду и изучить факты. Как умный человек в делах, он дает ответ на вопрос «что такое справедливость», выводя справедливость из конфигурации власти города и соотнося ее с интересами доминирующей социальной или политической группы.«Справедливость — это не что иное, как интересы сильнейшего» [8] . Теперь, в отличие от того, что говорят некоторые комментаторы, утверждение, которое Фрасимах предлагает в качестве ответа на вопрос Сократа о справедливости, не является определением. Внимательный читатель заметит, что Фрасимах отождествляет справедливость либо с поддержанием, либо с соблюдением закона. Его заявление является выражением его убежденности в том, что в этом несовершенном мире правящий элемент в городе, или, как мы бы сказали сегодня, доминирующая политическая или социальная группа, устанавливает законы и управляет в своих интересах [9]. .
Демократы издают законы в поддержку демократии; аристократы издают законы, поддерживающие правительство знатных людей; имущие принимают законы, защищающие их статус и поддерживающие развитие их бизнеса; и так далее. Эта вера подразумевает, во-первых, что справедливость — это не универсальная моральная ценность, а понятие, относящееся к целесообразности доминирующего статус-кво / группы; во-вторых, справедливость отвечает исключительным интересам доминирующей группы; в-третьих, справедливость используется как средство подавления и, таким образом, вредно для бессильных; в-четвертых, нет ни общего блага, ни гармонии интересов между теми, кто находится у власти, и теми, кто ее не имеет.Все, что есть, — это господство сильных и привилегированных над бессильными. Моральный язык справедливости используется просто инструментально, чтобы скрыть интересы доминирующей группы и сделать эти интересы универсальными. Могущественные «заявляют, что они сделали, — им выгодно быть справедливым» [10] . Высокомерие, с которым Фрасимах делает свои заявления, предполагает, что он твердо убежден в том, что придерживаться иного взгляда, чем его собственного, значило бы вводить себя в заблуждение относительно мира как такового.
После представления своего заявления Фрасимах намеревается уйти, как если бы он считал сказанное им настолько убедительным, что дальнейшие дебаты о справедливости невозможны (Там же, с. 26). В Республике он олицетворяет силу догмы. В самом деле, он бросает Сократу серьезный вызов. Тем не менее, независимо от того, звучит ли то, что он сказал, привлекательно для кого-либо, Сократа не убеждает утверждение его убеждений. Убеждения формируют нашу жизнь как людей, наций, эпох и цивилизаций.Должны ли мы действительно верить, что справедливость [подчинение законам] на самом деле является благом для другого, преимуществом более сильного и правителя, вредна для того, кто подчиняется, в то время как несправедливость [неподчинение законам] идет на пользу самому? Споры между Сократом и его собеседниками больше не касаются значения слова «справедливость». Требуется вся остальная часть республики, чтобы представить аргумент в защиту справедливости как универсальной ценности и основы наилучшего политического строя.
1.4 ЛУЧШИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ
Политическая философия Платона представляет собой смесь строгого социального нигилизма и политического утверждения.Нигилизм проистекает из его желания очистить политическое государство от всех влияний, которые он считал разрушительными для политического единства. Миссия Политического сообщества — это средство, посредством которого все природные силы и достоинства личности претворяются в жизнь [11] .
Хотя значительная часть республики посвящена описанию идеального государства, управляемого философами, и его последующего упадка, главная тема диалога — справедливость. Совершенно очевидно, что Платон не представляет свое фантастическое политическое нововведение, которое Сократ описывает как город в речи, модель на небесах, с целью практического воплощения [12] .Представление об идеальном государстве используется скорее для иллюстрации главного тезиса диалога о том, что справедливость, традиционно понимаемая как добродетель и связанная с добром, является основой хорошего политического порядка и как таковая отвечает интересам всех. Платон утверждает, что справедливость, если ее правильно понимать, не приносит исключительной выгоды какой-либо из группировок в городе, но касается общего блага всего политического сообщества и приносит пользу каждому. Он дает городу чувство единства и, таким образом, является основным условием его здоровья.«Несправедливость вызывает гражданскую войну, ненависть и боевые действия, а справедливость приносит дружбу и чувство общей цели» [13] .
Чтобы лучше понять, что такое справедливость и политический порядок для Платона, полезно сравнить его политическую философию с дофилософскими взглядами Солона, о котором говорится в нескольких диалогах. Биографические сведения о Платоне довольно скудны. Тот факт, что он был связан через свою мать с этим известным афинским законодателем, государственным деятелем и поэтом, считавшимся одним из «семи мудрецов», можно рассматривать как просто случайный случай.С другой стороны, принимая во внимание, что во времена Платона образование передавалось бы детям неформально дома, представляется весьма вероятным, что Платон не только был хорошо знаком с делами и идеями Солона, но и что они оказали на него сильное влияние.
Суть конституционной реформы, проведенной Солоном в 593 г. до н. Э., За сто пятьдесят лет до рождения Платона, когда он стал афинским лидером, заключалась в восстановлении праведного порядка, евномии. В начале шестого века Афины были обеспокоены большим напряжением между двумя сторонами: бедными и богатыми, и оказались на грани ожесточенной гражданской войны.С одной стороны, из-за экономического кризиса многие бедные афиняне безнадежно влезли в долги, а поскольку их ссуды часто обеспечивались их собственными лицами, тысячи из них были помещены в крепостное право. С другой стороны, соблазненные легкой прибылью от ссуд, богатые твердо встали на защиту частной собственности и своих древних привилегий. Партизанская борьба, которая казалась неизбежной, сделала Афины еще более слабыми в экономическом отношении и беззащитными перед внешними врагами.
Назначенный посредником в этом конфликте, Солон ввел в действие законы, запрещающие ссуды под залог человека.Он снизил процентную ставку, приказал списать все долги и дал свободу крепостным. Он действовал так умеренно и беспристрастно, что стал непопулярным у обеих сторон. Реформа обидела богатых. Бедняки, не в силах сдерживать избыток, требовали полного перераспределения земельной собственности и раздела ее на равные доли. Тем не менее, несмотря на эту критику с обеих сторон, Солону удалось добиться социального мира. Далее, введя в действие новые конституционные законы, он установил «мощный щит против обеих сторон и не позволил ни одной из них одержать несправедливую победу» (Аристотель, Афинская конституция).Он ввел систему сдержек и противовесов, которая не благоприятствовала бы какой-либо стороне, но учитывала законные интересы всех социальных групп. На своем месте он легко мог бы стать тираном над городом, но он не искал власти для себя. Завершив реформу, он покинул Афины, чтобы посмотреть, выдержит ли она испытание временем, и вернулся в свою страну только десять лет спустя. Хотя в 561 г. до н. Э. Власть захватил Писистрат и стал первым в череде афинских тиранов, а в 461 г. до н. Э.После того как демократический лидер Эфиальт отменил ограничения народного суверенитета, реформа Солона дала древним грекам модель политического руководства и порядка, основанного на беспристрастности и справедливости.
Справедливость для Солона — это не арифметическое равенство: предоставление равных долей всем одинаково независимо от заслуг, которое представляет демократическую концепцию распределительной справедливости, но справедливость или справедливость, основанную на различии: предоставление долей пропорционально заслугам тех, кто их получает .Те же идеи политического порядка, лидерства и справедливости можно найти в диалогах Платона.
Для Платона, как и для Солона, отправной точкой для исследования наилучшего политического строя является факт социального разнообразия и конфликта интересов, которые влекут за собой опасность гражданской войны. Политическое сообщество состоит из разных частей или социальных классов, таких как благородные, богатые и бедные, каждый из которых представляет разные ценности, интересы и претензии на власть. Это вызывает споры о том, кто должен управлять сообществом и какая политическая система является лучшей.И в Республике, и в Законах Платон утверждает не только, что фракционность и гражданская война — величайшие опасности для города, даже более опасные, чем война с внешними врагами, но также и мир, достигнутый победой одной части и разрушением ее. нельзя отдавать предпочтение соперникам социальному миру, достигнутому благодаря дружбе и сотрудничеству всех частей города [14] .
Мир для Платона, в отличие от марксистов и других радикальных мыслителей, — это не понятие статус-кво, связанное с интересами привилегированной группы, а ценность, которую обычно желает большинство людей.Он выступает не за войну и победу одного класса, а за мир в социальном разнообразии. Лучшее — это ни война, ни фракция — это то, от чего мы должны молиться, чтобы избавиться от них, кроме мира и взаимной доброй воли. Опираясь на дофилософские взгляды Солона и его концепцию уравновешивания конфликтующих интересов, как в Республике , так и в Законе , Платон предлагает два разных решения одной и той же проблемы социального мира, основанные на равновесии и гармоничном союзе различных социальных классов. .Если в республике главной функцией политического руководства философов-правителей является прекращение междоусобиц, то в Законах эта посредническая функция передается законам. Лучшим политическим порядком для Платона является тот, который способствует социальному миру в среде сотрудничества и дружбы между различными социальными группами, каждая из которых извлекает выгоду из общего блага и каждая вносит свой вклад в общее благо. Лучшая форма правления, которую он продвигает в республике , — это философская аристократия или монархия, но то, что он предлагает в своем последнем диалоге Законов, — это традиционное государство: смешанная или составная конституция, которая примиряет различные партийные интересы и включает аристократические, олигархические и демократические элементы.
ГЛАВА ВТОРАЯ: О ПОНЯТИИ ПРАВОСУДИЯ
2.1 ПРИРОДА ПРАВОСУДИЯ
Слово «Справедливость» может использоваться для обозначения справедливого поведения или качества быть правым и справедливым. Это чувство справедливости, которое используется, когда мы призываем к справедливому отношению ко всем людям. Справедливость может означать справедливое обращение, как подразумевается в выражении «воздать должное». Другими словами, справедливость является синонимом справедливого обращения. [15]
Отметим, что термин «справедливость» стара как человек.Умы масс, угнетенных, обездоленных и рабов жаждут справедливости. Справедливость — это юридический, этический и онтологический термин. Это обычная и живая концепция, а вопрос справедливости — извечный.
Предприятие по анализу и разъяснению концепции представляется нам очень сложным из-за скопления различных представлений о ней. Аристотель, древнегреческий философ, видел двусмысленность и совокупность значений, связанных с понятием Справедливость, как он утверждает,
«Теперь кажется, что слова справедливость и несправедливость двусмысленны; но поскольку различные смыслы, охватываемые одним и тем же именем, очень близки друг к другу, двусмысленность остается незамеченной и не является сравнительно очевидной, поскольку там, где они далеки друг от друга. [16]
Действительно сложно прийти к универсальному пониманию концепции справедливости. По словам Джона Хосперса, справедливость может означать равное обращение или обращение по заслугам. [17] Это также можно рассматривать как не поддающееся анализу понятие, как и Г. Концепция «добра» Мура. По мнению Г.Э. Мур, термин «хороший» имеет смысл, но не поддается определению; он относится к независимо существующему качеству, но в отличие от естественных качеств чувственного мира, и, наконец, некоторые утверждения, содержащие термин «хорошее», являются истинными самоочевидными, даже если они могут быть неизвестны никому.Нас интересует, можно ли определить понятие справедливости таким образом, то есть как понятие «добро». В любом случае, «разговор о справедливости» — это разговор о справедливости по отношению к людям, правам и обязанностям. Другими словами, это социальная проблема или вопрос. В каждом обществе люди имеют противоречивые требования и интересы. Именно в попытке урегулировать и примирить эти противоречащие друг другу требования и интересы возникает вопрос о справедливости.
Отметим, что некоторые основные формулировки справедливости основаны на формальном равенстве.Значительный анализ справедливости также основан на значительных социальных идеалах, таких как заслуги, работа, нужды, звание, законные права и другие. Точно так же греческое слово «справедливый» означает «соблюдающий обычаи или долга, праведный; Справедливая; честный; юридически правильно, законно; что связано с человеком или от него, пустыни; права; что нужно делать. По словам Эдварда Аллена Кента, «правосудие, по-видимому, влечет за собой конфликт конкурирующих требований и нередко столкновение сильных общественных интересов с правом личности, которое время от времени обеспечивается в механизме рассудка». [18]
История философии, охватывающая этику, политику и юриспруденцию, также показывает, что ни один конкретный анализ справедливости кажется недостаточным без оговорок и исключений. Вековой интерес философа к концепции справедливости и сопутствующим формулировкам этой концепции не означает, что мы, люди, не обладаем индивидуальным интуитивным априорным знанием того, что такое справедливость. Однако интерес философов можно объяснить их желанием исследовать и искать универсально последовательный критерий или стандарт справедливости.Например, теория справедливости и вальтеризма Джона Ролза представляет собой реконструкцию либерализма, который полностью доверяет человеку, в то время как демократический социализм — это реконструкция марксизма, который не доверяет человеку, но рассматривает его как вид, который необходимо приручить и контролировать. Именно желание установить критерии или стандарты справедливости привело к недавним формулировкам того, что называется процессуальной справедливостью.
Они «состоят в использовании правильных методов для разработки правил поведения, установления фактов по конкретному делу или разработки полного диспозитивного решения» [19] В последнее время судебная процедура претерпела значительные реформы с точки зрения формулировка «надлежащей правовой процедуры» в США и других демократиях.Требование надлежащей правовой процедуры состоит в том, что «никого нельзя обвинять в нарушении правила поведения, если он не мог удостовериться в существовании и значении правила до совершения оспариваемого действия». В любом случае надлежащая правовая процедура требует применения формулы справедливости. Мы считаем уместным здесь рассмотреть некоторые основные взгляды на анализ концепции справедливости.
Основная цель этой главы — исследовать концепцию справедливости, представленную различными мыслителями в разные эпохи.Для хорошего понимания того, что означает справедливость, будет предпринята попытка надлежащего анализа и понимания того, что она означает, с точки зрения различных школ и философских эпох, таких как классический, средневековый, современный и современный периоды. Хотя эта работа не может дать исчерпывающий анализ концепции справедливости, она, по крайней мере, проанализирует некоторые положения о концепции, с которой концепция Платона будет критически исследована и сопоставлена.
2.2 ПРАВОСУДИЕ КАК ДОБРОДЕТЕЛЬ
Величайшее достижение Платона можно увидеть, во-первых, в том, что он, выступая против софистов, предложил упадочным Афинам, утратившим веру в свою старую религию, традиции и обычаи, средство, с помощью которого можно было восстановить цивилизацию и здоровье города: наведение порядка есть и в полисе, и в душе.
Наилучший, рациональный и праведный политический порядок ведет к гармоничному единству общества и позволяет всем частям города стремиться к счастью, но не за счет других. Согласно Платону, характеристики хорошего политического общества, о котором большинство людей может сказать «оно мое» [20] , описываются в Республике четырьмя добродетелями: справедливостью, мудростью, умеренностью и храбростью. Справедливость — это равенство или беспристрастность, которые дают каждой социальной группе должное и гарантируют, что каждая выполняет свою работу.Три других добродетели описывают качества разных социальных групп. Мудрость, которую можно понимать как знание целого, включая как знание себя, так и политическое благоразумие, является качеством лидерства.
[…]
[1] Файн, Гейл (ред.): Платон I: Метафизика и эпистемология и Платон II: Этика, политика, религия и душа . Оксфорд: Oxford University Press, 1999
[2] Платон: Республика.Хармондсворт, Пегинс. 1955, 282 с.
[3] Subratu M и Sushilo R: История политической мысли, Платон — Маркс. Prentice-Hall of India Private Limited. Нью-Дели. 2006. с. 342
[4] Берки Р.Н. История политической мысли: краткое введение. Лондон: Вмятина. 1977. с.156
.[5] Платон, Op.Cit, стр.7
[6] Там же, p8
[7] Там же, стр.14
[8] Там же, стр.7
[9] Там же, стр.19
[10] Там же, стр.18
[11] Нисбет, Р. Социальные философы. Нью-Йорк: ThomasY Crowell Co., 1973, p25
[12] Платон: соч. p394
[13] Там же, p35
[14] Там же, стр.176
[15] Хорнби А.С.: Оксфордский словарь современного английского языка для продвинутых учащихся. Оксфорд: Издательство университета. 1985. 461 с.
[16] Бетти, Р: Этика Аристотеля, Лондон: Pengun Books.1948 с.172.
[17] Хоспер, Дж .: Введение в философский анализ. Лондон: Routledge and Kegan Paul Ltd. 1981. p.613
[18] Эдвард А.К .: Закон и философия. Чтения по философии права, Нью-Йорк: Meredith Corporation. 1970. С. 45
.[19] Стэнли И. Б.: Справедливость в энциклопедии философии, том 3 и 4 Нью-Йорк: Macmillan Publishing Co.
[20] Там же, стр.176
Немецкий идеализм | Интернет-энциклопедия философии
Немецкий идеализм — это направление в немецкой философии, начавшееся в 1780-х годах и продолжавшееся до 1840-х годов.Самые известные представители этого движения — Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель. Хотя между этими цифрами есть важные различия, все они разделяют приверженность идеализму. Трансцендентальный идеализм Канта был скромным философским учением о различии между явлениями и вещами в себе, которое утверждало, что объекты человеческого познания — это явления, а не вещи сами по себе. Фихте, Шеллинг и Гегель радикализировали этот взгляд, превратив трансцендентальный идеализм Канта в абсолютный идеализм, который утверждает, что вещи сами по себе являются противоречивыми терминами, потому что вещь должна быть объектом нашего сознания, если она вообще должна быть объектом.
Немецкий идеализм отличается систематическим подходом ко всем основным разделам философии, включая логику, метафизику и эпистемологию, моральную и политическую философию и эстетику. Все представители немецкого идеализма думали, что эти части философии найдут место в общей системе философии. Кант считал, что эта система может быть получена из небольшого набора взаимозависимых принципов. Фихте, Шеллинг и Гегель снова были более радикальными. Вдохновленные Карлом Леонхардом Рейнхольдом, они попытались вывести все различные части философии из единого первого принципа.Этот первый принцип стал известен как абсолют, потому, что абсолютное или безусловное должно предшествовать всем принципам, обусловленным различием между одним принципом и другим.
Хотя немецкий идеализм тесно связан с развитием интеллектуальной истории Германии в восемнадцатом и девятнадцатом веках, такими как классицизм и романтизм, он также тесно связан с более крупными событиями в истории современной философии. Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель стремились преодолеть разделение между рационализмом и эмпиризмом, возникшее в период раннего Нового времени.То, как они охарактеризовали эти тенденции, оказало длительное влияние на историографию современной философии. Хотя сам немецкий идеализм в последние двести лет подвергался периодам забвения, возобновление интереса к вкладам немецкого идеализма сделало его важным ресурсом для современной философии.
Содержание
- Историческая справка
- Логика
- Метафизика и эпистемология
- Моральная и политическая философия
- Эстетика
- Прием и влияние
- Ссылки и дополнительная литература
- Кант
- Немецкие издания произведений Канта
- Кембриджское издание произведений Иммануила Канта в переводе
- Другие переводы произведений Канта на английский язык
- Фихте
- Немецкие издания произведений Фихте
- Английский перевод произведений Фихте
- Гегель
- Немецкие издания произведений Гегеля
- Английский перевод произведений Гегеля
- Cambridge Hegel Translations
- Другие переводы произведений Гегеля на английский язык
- Шеллинг
- Немецкие издания произведений Шеллинга
- Английский перевод произведений Шеллинга
- Издания и переводы других первоисточников
- Якоби
- Рейнхольд
- Hölderlin
- Kierkegaard, Søren
- Маркс
- Шопенгауэр
- Другие работы о немецком идеализме
- Кант
1.Историческая справка
Немецкий идеализм восходит к «критическому» или «трансцендентальному» идеализму Иммануила Канта (1724–1804). Идеализм Канта впервые проявился во время полемики о пантеизме в 1785-1786 годах. Когда возник спор, Кант уже опубликовал первое (A) издание «Критики чистого разума» (1781) и «Пролегомены к любой будущей метафизике» (1783). У обеих работ были свои поклонники, но они получили антипатичные и в целом непонятные отзывы, в которых «трансцендентальный» идеализм Канта смешивался с «догматическим» идеализмом Беркли (Allison and Heath 2002, 160–166).Таким образом, Кант считал, что пространство и время «не актуальны» и что понимание «создает» объекты нашего познания (Sassen 2000, 53-54).
Кант настаивал на том, что это прочтение искажает его позицию. В то время как догматический идеалист отрицает реальность пространства и времени, Кант рассматривает пространство и время как формы интуиции. Формы интуиции для Канта являются субъективными условиями возможности всего нашего чувственного восприятия. Кант считает, что мы вообще можем воспринимать что угодно только потому, что пространство и время являются a priori формами, определяющими содержание наших ощущений.Согласно Канту, «критический» или «трансцендентальный» идеализм служит просто для выявления тех a priori условий, таких как пространство и время, которые делают возможным переживание. Это, конечно, не означает, что пространство и время нереальны или что понимание само производит объекты нашего познания.
Кант надеялся заручиться поддержкой известных немецких философов, таких как Моисей Мендельсон (1729-1786), Йохан Николай Тетенс (1738-1807) и Кристиан Гарве (1742-1798), чтобы опровергнуть «догматическое» идеалистическое толкование своей философии. и выиграть более благоприятное слушание для его работы.К сожалению, подтверждения, на которые надеялся Кант, так и не пришли. Мендельсон, в частности, был озабочен проблемами своего здоровья и спором, возникшим между ним и Фридрихом Генрихом Якоби (1743-1819) по поводу предполагаемого спинозизма его друга Готтольда Эфраима Лессинга (1729-1781). Этот спор стал известен как полемика о пантеизме из-за известной двусмысленности Спинозы между Богом и природой.
Во время полемики Якоби заявил, что любая попытка продемонстрировать философские истины фатально ошибочна.Якоби указал на Спинозу как на главного представителя тенденции к демонстративному разуму в философии, но он также проводил параллели между спинозизмом и трансцендентальным идеализмом Канта на протяжении всего периода On the Doctrine of Spinoza (1785). В 1787 году, в том же году Кант опубликовал второе (B) издание Критики чистого разума , Якоби опубликовал Дэвида Юма о вере или реализме и идеализме , который включал приложение О трансцендентальном идеализме .Якоби пришел к выводу, что трансцендентальный идеализм, как и спинозизм, подчиняет непосредственную уверенность или веру, через которую мы познаем мир, демонстративному разуму, превращая реальность в иллюзию. Позже Якоби назвал это «нигилизмом».
Взгляды Канта отстаивал Карл Леонхард Рейнхольд (1757-1823) во время споров о пантеизме. Рейнхольд считал, что философия Канта может опровергнуть скептицизм и нигилизм и обеспечить защиту морали и религии, которых нельзя было найти в рационализме философии Лейбница-Вольфа.Публикация книги Рейнхольда Письма о кантианской философии , сначала в Der Teutsche Merkur в 1786-1787 годах, а затем снова в расширенной версии в 1790-1792 годах, помогла сделать философию Канта одной из самых влиятельных и самых противоречивых философий. периода. Якоби оставался бельмом на глазу кантианцев и молодых немецких идеалистов, но он не смог удержать интерес к философии в целом или идеализму в частности.
В 1787 году Рейнхольд поступил в университет в Йене, где он преподавал философию Канта и начал развивать свои собственные идеи.Хотя мысль Рейнхольда по-прежнему находилась под влиянием Канта, он также пришел к выводу, что Кант не смог обеспечить философии прочным основанием. Согласно Рейнхольду, Кант был философским гением, но у него не было «системного гения», который позволил бы ему правильно упорядочить свои открытия. Reinhold’s Elementarphilosophie ( Elementarphilosophie / Philosophy of Elements ), изложенная в его Essay Towards a New Theory of the Facility (1789), Contribution to Correction to Correction of the предшествующие недоразумения философов (1790) ) и На основании философского знания (1791) был призван устранить этот недостаток и показать, что философия Канта может быть выведена из единого основополагающего принципа.Рейнхольд назвал этот принцип «принципом сознания» и утверждает, что «в сознании репрезентация отличается субъектом от субъекта и объекта и относится к обоим». С помощью этого принципа, как считал Рейнхольд, он мог бы объяснить то, что является фундаментальным для всего познания, а именно: 1) познание, по сути, является сознательным представлением объекта субъектом и 2) представления относятся как к субъекту, так и к объекту познания.
Когда Рейнхольд уехал из Йены на новую должность в Киле в 1794 году, его кресло было передано Иоганну Готлибу Фихте (1762-1814), который быстро радикализировал идеализм Канта и попытки Рейнхольда систематизировать философию.В ответ на скептический вызов « Elementarphilosophie » Райнхольда, анонимно поднятый Готтлобом Эрнстом Шульце (1761-1833) в его работе Aenesidemus (1792), Фихте утверждал, что принцип репрезентации не является фактом, как утверждал Рейнхольд. ( Tatsache ) сознания, а скорее акт ( Tathandlung ), посредством которого сознание производит различие между субъектом и объектом, постулируя различие между I и not-I (Breazeale, 1988, 64).Это понимание стало основой Wissenschaftslehre Фихте ( Доктрина науки / Доктрина научного знания ), которая была впервые опубликована в 1794 году. Вскоре за ней последовали Основы естественного права (1797) и Система этики. (1798). В последующие годы Фихте представил ряд существенно различных версий Wissenschaftslehre на лекциях в Берлине.
Когда в результате разногласий по поводу его религиозных взглядов Фихте покинул Йену в 1799 году, Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг (1775-1854) стал самым важным идеалистом в Йене.Шеллинг прибыл в Йену в 1798 году, когда ему было всего 23 года, но он уже был горячим сторонником философии Фихте, которую он защищал в ранних работах, таких как О Я как принципе философии (1795). Шеллинг также установил тесные отношения с йенскими романтиками, которые, несмотря на большой интерес к Канту, Рейнхольду и Фихте, сохраняли более скептическое отношение к философии, чем немецкие идеалисты. Хотя Шеллинг не разделял оговорок романтиков по поводу идеализма, близость между Шеллингом и романтиками очевидна в трудах Шеллинга по философии природы и философии искусства, которые он представил в своих Идеях для философии природы (1797). ), Система трансцендентального идеализма (1800) и Философия искусства (1802-1803).
Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) был одноклассником Шеллинга в Тюбингене с 1790–1793 годов. Вместе с поэтом Фридрихом Гельдерлином (1770-1843) они вместе работали над Самая старая программа для системы немецкого идеализма (1796). После Шеллинга в Йену в 1801 году Гегель опубликовал свой первый независимый вклад в немецкий идеализм, Разница между философской системой Фихте и Шеллинга, (1801), в котором он отличает «субъективный» идеализм Фихте от «объективного» или «абсолютного» Шеллинга. »Идеализм.Работа Гегеля зафиксировала растущий разрыв между Фихте и Шеллингом. Этот раскол расширился после ссоры Гегеля с Шеллингом в 1807 году, когда Гегель опубликовал свою монументальную книгу Феноменология духа (1807). Хотя Гегель за свою жизнь опубликовал еще три книги: Наука логики (1812-1816), Энциклопедия философских наук (1817-1830) и Элементы философии права (1821), он остается самый читаемый и влиятельный из немецких идеалистов.
2. Логика
Немецкие идеалисты приобрели репутацию малоизвестных из-за длины и сложности многих их работ. Как следствие, их часто считают мракобесами и иррационалистами. Однако немецкие идеалисты не были ни мракобесами, ни иррационалистами. Их вклад в логику — это серьезные попытки сформулировать современную логику, согласующуюся с идеализмом их метафизики и эпистемологии.
Кант был первым из немецких идеалистов, внесшим важный вклад в логику.В предисловии ко второму (B) изданию «Критики чистого разума » Кант утверждает, что логика не имеет ничего общего с метафизикой, психологией или антропологией, потому что логика — это «наука, которая исчерпывающе представляет и строго доказывает ничего, кроме формальные правила всякого мышления »(Guyer and Wood 1998, 106-107 / Bviii-Bix). Кант начал называть эту чисто формальную логику «общей» логикой, которая должна быть противопоставлена «Трансцендентальной логике», которую он развивает во второй части «Трансцендентальной доктрины элементов» в Критике чистого разума .Трансцендентальная логика отличается от общей логики, потому что, подобно принципам a priori чувственности, которые Кант представляет в «Трансцендентальной эстетике» Критики чистого разума , трансцендентальная логика является частью метафизики. Трансцендентальная логика также отличается от общей логики тем, что не абстрагируется от содержания познания. Трансцендентальная логика содержит законы чистого мышления, относящиеся к познанию объектов. Это не означает, что трансцендентальная логика имеет дело с эмпирическими объектами как таковыми, а скорее с a priori условиями возможности познания объектов.Знаменитая кантовская «Трансцендентальная дедукция чистых концепций понимания» предназначена для демонстрации того, что концепции, которые трансцендентальная логика представляет как a priori условий возможности познания объектов, на самом деле делают познание объектов возможным. и являются необходимыми условиями для любого и всякого познания объектов.
В статье The Foundation of Philosophical Knowledge Рейнхольд возражает, что трансцендентальная логика Канта предполагала общую логику, поскольку трансцендентальная логика является «частной» логикой, из которой общая логика или «собственно логика без фамилий» не может быть выведена.Рейнхольд настаивал на том, что законы общей логики должны быть выведены из принципа сознания, чтобы философия стала систематической и научной, но возможность этого вывода была оспорена Шульце в Aenesidemus . Критика Шульце « Elementarphilosophie » Рейнхольда сосредоточена на том приоритете, который Рейнхольд придает принципу сознания. Поскольку принцип сознания должен согласовываться с основными логическими принципами, такими как принцип непротиворечивости и принцип исключенного третьего, Шульце пришел к выводу, что его нельзя рассматривать как первый принцип.Казалось, что законы общей логики предшествовали принципу сознания, так что даже элементарная философия предполагала общую логику.
Фихте принимал многие аспекты критики Рейнхольда Шульце, но, как и Рейнхольд, считал крайне важным продемонстрировать, что законы логики могут быть выведены из «настоящей философии» или «метафизики». В его Personal Meditations on the Elementarphilosophie (1792-1793), его эссе «О концепции Wissenschaftslehre » (1794), а затем снова в Wissenschaftslehre 1794, Фихте утверждал, что различие между I и not-I определяют сознание таким образом, чтобы сделать возможным логический анализ.Согласно Фихте, логический анализ всегда проводится рефлексивно, поскольку предполагает, что сознание уже каким-то образом определено. Итак, в то время как Кант утверждает, что трансцендентальная логика предполагает общую логику, Рейнхольд пытается вывести законы общей логики из принципа сознания, а Шульце показывает, что Рейнхольд предполагает те же принципы, Фихте настойчиво утверждает, что логика предполагает определение мысли «как некий объект». факт сознания », который сам зависит от акта, посредством которого изначально определяется сознание.
Вклад Гегеля в логику был гораздо более влиятельным, чем вклад Рейнхольда или Фихте. Его «Наука логики » (также известная как «Великая логика») и «Логика», составляющая первую часть Энциклопедии философских наук (также известную как «Малая логика»), не являются вкладом в более ранние дебаты о приоритете общей логики. Они также не признают, что то, что Кант называл «общей» логикой, а Рейнхольд называл «собственно логикой без фамилий», является чисто формальной логикой.Поскольку Гегель был убежден, что истина одновременно формальна и материальна, а не та или иная, он стремился установить диалектическое единство формального и материального в своих логических работах. Значение слова «диалектический», конечно, много обсуждается, как и конкретный механизм, посредством которого диалектика порождает и разрешает противоречия, которые перемещают мысль из одной формы сознания в другую. Однако для Гегеля этот процесс объясняет генезис категорий и понятий, посредством которых определяется все познание.Логика раскрывает единство этого процесса.
Вклад немецкого идеализма в логику был в значительной степени отвергнут после подъема эмпиризма и позитивизма в девятнадцатом веке, а также революций в логике, произошедших в начале двадцатого века. Однако сегодня наблюдается возобновление интереса к этой части идеалистической традиции, о чем свидетельствует внимание, которое уделяется лекциям Канта по логике, а также новым изданиям и переводам сочинений Гегеля и лекций по логике.
3. Метафизика и эпистемология
Немецкий идеализм — это форма идеализма. Однако идеализм, которого придерживаются немецкие идеалисты, отличается от других видов идеализма, с которыми современные философы могут быть более знакомы. В то время как прежние идеалисты утверждали, что реальность в конечном итоге интеллектуальна, а не материальна (Платон) или что существование объектов зависит от разума (Беркли), немецкие идеалисты отвергают различия, которые предполагают эти взгляды. Помимо различия между материальным и формальным и различия между реальным и идеальным, Фихте, Шеллинг и Гегель также отвергают различие между бытием и мышлением, что еще больше усложняет взгляды немецких идеалистов на метафизику и эпистемологию.
Идеализм Канта, пожалуй, самая умеренная форма идеализма, связанная с немецким идеализмом. Кант считает, что объекты человеческого познания трансцендентно идеальны и эмпирически реальны. Они трансцендентно идеальны, потому что условия познания объектов человеческими существами следует искать в познавательных способностях людей. Это не означает, что существование этих объектов зависит от разума, потому что Кант считает, что мы можем знать объекты только в той степени, в которой они являются объектами для нас и, следовательно, такими, какими они кажутся нам.Идеализм в отношении видимости не влечет за собой зависимость объектов от разума, потому что он не связывает себя никакими утверждениями о природе вещей в себе. Кант отрицает, что у нас есть какое-либо знание о вещах в себе, потому что мы не способны выносить суждения о природе вещей в себе, основываясь на нашем знании вещей в том виде, в каком они появляются.
Несмотря на наше незнание вещей самих по себе, Кант думал, что мы можем иметь объективно достоверное познание эмпирически реальных объектов.Кант признал, что на нас влияют вещи, находящиеся вне нас самих, и что эта привязанность вызывает ощущения. Эти ощущения являются для Канта «материей» чувственной интуиции. Наряду с чистыми «формами» интуиции, пространства и времени ощущения составляют «материю» суждения. Чистые концепции рассудка — это «формы» суждения, которые Кант демонстрирует как условия возможности объективно достоверного познания в «Выводе чистых концепций рассудка» в Критике чистого разума .Таким образом, синтез материи и формы в суждении производит объективно достоверное познание эмпирически реальных объектов
Сказать, что идеализм Фихте, Шеллинга и Гегеля более радикален, чем идеализм Канта, значит преуменьшить разницу между Кантом и философами, которых он вдохновил. Кант предложил «скромный» идеализм, который пытался доказать, что наше знание видимостей объективно достоверно. Однако Фихте поддерживает саму идею вещи в себе, вещь, которая не является для нас объектом и которая существует независимо от нашего сознания, является терминологическим противоречием.Фихте утверждает, что не может быть ничего в себе, потому что вещь есть только тогда, когда она является чем-то для нас. Даже вещь сама по себе на самом деле является продуктом нашей собственной сознательной мысли, а это означает, что вещь сама по себе есть не что иное, как постулирование нашего собственного сознания. Таким образом, это не вещь в себе, а просто еще один объект для нас. Исходя из этой цепочки рассуждений, Фихте заключает, что «все, что происходит в нашем уме, может быть полностью объяснено и постигнуто на основе самого разума» (Breazeale 1988, 69).Это гораздо более радикальная форма идеализма, чем утверждал Кант. Ибо Фихте считает, что сознание — это круг, в котором I позиционирует себя и определяет, что принадлежит I , а что принадлежит не-Я. Эта цикличность необходима и неизбежна, утверждает Фихте, но философия — это рефлексивная деятельность, в которой постигаются спонтанная постулирующая активность I и определения I и не-I .
Шеллинг защищал идеализм Фихте в О Я как принципе философии , где он утверждал, что I является безусловным условием как бытия, так и мышления. Поскольку существование I предшествует всякому мышлению (я должен существовать, чтобы думать) и потому что мышление определяет все бытие (вещь — это не что иное, как объект мысли), утверждал Шеллинг, абсолютное I, не Рейнхольд. принцип сознания должен быть основополагающим принципом всей философии.Однако в последующих работах, таких как «Система трансцендентального идеализма » , Шеллинг придерживался другого курса, утверждая, что сущностное и изначальное единство бытия и мышления можно понять с двух разных сторон, начиная с природы или духа. Это могло быть выведено из абсолютного I , как это сделал Фихте, но оно могло также возникнуть из бессознательных, но динамичных сил природы. Показав, как эти два разных подхода дополняют друг друга, Шеллинг думал, что показал, как можно преодолеть различие между бытием и мышлением, природой и духом.
Фихте не был доволен нововведениями идеализма Шеллинга, потому что первоначально он думал о Шеллинге как об ученике и защитнике своей собственной позиции. Первоначально Фихте не отреагировал на работы Шеллинга, но в ходе обмена мнениями, начавшегося в 1800 году, он начал утверждать, что Шеллинг смешал реальное и идеальное, сделав I, идеальным, зависящим от природы, реальным. Фихте считал, что это нарушает принципы трансцендентального идеализма и его собственный Wissenschaftslehre , что заставляет его подозревать, что Шеллинг уже не тот ученик, которым его считал.Вступив в защиту Шеллинга, когда спор обострился, Гегель утверждал, что идеализм Фихте был «субъективным» идеализмом, а идеализм Шеллинга — «объективным» идеализмом. Это означает, что Фихте считает I абсолютным и отрицает идентичность I и not-I. Он отдает предпочтение субъекту за счет тождества субъекта и объекта. Шеллинг, однако, пытается установить тождество субъекта и объекта, устанавливая объективность субъекта, а также субъективность объекта, природы.Идеализм, который защищают Шеллинг и Гегель, признает тождество субъекта и объекта как «абсолютный», безусловный первый принцип философии. По этой причине ее часто называют философией идентичности.
Ясно, что к тому времени, когда он опубликовал «Феноменология духа » , Гегель уже не был заинтересован в защите системы Шеллинга. В книге «Феноменология » Гегель, как известно, называет понимание Шеллинга идентичности субъекта и объекта «ночью, когда все коровы черные», имея в виду, что концепция Шеллинга идентичности субъекта и объекта стирает многочисленные и разнообразные различия, которые определяют различные различия. формы сознания.Эти различия имеют решающее значение для Гегеля, который пришел к убеждению, что абсолют может быть реализован только путем прохождения через различные формы сознания, которые постигаются в самосознании абсолютного знания или духа ( Geist ).
Современные ученые, такие как Роберт Пиппин и Роберт Стерн, спорят, следует ли рассматривать позицию Гегеля как метафизическую или просто эпистемологическую форму идеализма, поскольку не совсем ясно, считал ли Гегель различия, составляющие различные формы сознания, просто условиями необходимы для понимания объектов (Пиппин) или выражают ли они фундаментальные обязательства относительно того, каковы вещи (Стерн).Однако почти наверняка верно, что идеализм Гегеля является одновременно эпистемологическим и метафизическим. Подобно Фихте и Шеллингу, Гегель стремился преодолеть пределы, которые трансцендентальный идеализм Канта наложил на философию, чтобы завершить начатую им идеалистическую революцию. Немецкие идеалисты согласились, что это может быть сделано только путем прослеживания всех различных частей философии к единому принципу, будь то принцип «Я» (у Фихте и раннего Шеллинга) или абсолют (у Гегеля).
4. Моральная и политическая философия
Моральная и политическая философия немецких идеалистов, пожалуй, самая влиятельная часть их наследия, но также одна из самых противоречивых. Многие ценят то внимание, которое Кант уделяет свободе и автономии как в морали, так и в политике; тем не менее они отвергают моральную и политическую философию Канта из-за ее формализма. Моральная и политическая философия Фихте была изучена в деталях лишь недавно, но его популярные и полемические сочинения привели некоторых к мнению, что он является крайним националистом и, возможно, предшественником фашизма.По некоторым данным, Гегель является апологетом тоталитарного «абсолютного государства». Ниже дается более объективная оценка их взглядов и их достоинств.
Кантианская моральная философия была важной частью моральной теории с девятнадцатого века. Сегодня это обычно ассоциируется с деонтологическими теориями морали, которые подчеркивают долг и обязательство, а также с конструктивизмом, который касается процедур, посредством которых конструируются моральные нормы. Сторонники обоих подходов часто ссылаются на категорический императив и различные формулировки этого императива, которые можно найти в работах Канта Основы метафизики морали (1785) и Критике практического разума (1788).Они часто принимают категорический императив или одну из его формулировок как общее определение права или блага.
Категорический императив служил Канту несколько иной цели. В «Основах » Кант использует категорический императив для определения формы доброй воли. Кант считал, что моральная философия в первую очередь занимается определением воли. Категорический императив показывает, что для того, чтобы быть добрым, воля должна определяться в соответствии с правилом, которое является одновременно универсальным и необходимым.Любое нарушение этого правила приведет к противоречию и, следовательно, к моральной невозможности. Категорический императив дает Канту действенную процедуру, а — универсальное и необходимое определение того, что является морально обязательным.
Тем не менее, Кант считал, что для того, чтобы определять волю, люди должны быть свободными. Однако, поскольку свобода не может быть доказана в теоретической философии, Кант говорит, что разум заставляет нас признать концепцию свободы как «факт» чистого практического разума.Кант считает, что свобода необходима для любой практической философии, потому что моральная ценность и заслуги людей зависят от того, как они определяют свою собственную волю. Без свободы они не смогли бы определять свою волю к добру, и мы не могли бы возложить на них ответственность за их действия. Таким образом, свобода и автономия абсолютно необходимы для понимания Кантом моральной философии. Политическое значение автономии становится очевидным в некоторых поздних эссе Канта, где он поддерживает республиканскую политику свободы, равенства и верховенства закона.
Моральная философия Канта глубоко повлияла на Фихте, особенно Критика практического разума . «Я живу в новом мире с тех пор, как прочитал« Критику практического разума », — сообщает Фихте, — положения, которые, как я думал, никогда не могли быть опровергнуты, были для меня опровергнуты. Мне были доказаны вещи, которые, как я думал, никогда не могут быть доказаны, например, концепция абсолютной свободы, концепция долга и т. Д., И я чувствую себя тем более счастливым от этого »(Breazeale 1988, 357).Его страсть к моральной философии Канта можно увидеть в обзоре Aenesidemus , где Фихте отстаивает «примат» практического разума над теоретическим разумом, который он считает основой «морального богословия» Канта.
Несмотря на свое восхищение моральной философией Канта, Фихте считал, что может выйти за рамки кантовского формализма. В своем эссе «О концепции Wissenschaftslehre » Фихте описывает вторую, практическую часть своего плана для Wissenschaftslehre , в котором «новые и тщательно проработанные теории приятного, прекрасного, возвышенного, свободного подчинения природы своему делу. его собственные законы, Бог, так называемый здравый смысл или естественное чувство истины », но он также содержит« новые теории естественного закона и морали, принципы которых как материальные, так и формальные »(Breazeale 1988, 135).Другими словами, в отличие от Канта, Фихте не просто определял форму доброй воли, но и способы применения моральных и политических принципов в действии.
Интерес Фихте к материальным принципам моральной и политической философии можно увидеть в его Основах естественного права и Системе этики . В обеих работах Фихте подчеркивает применимость моральных и политических принципов к действию. Но он также подчеркивает социальный контекст, в котором применяются эти принципы.В то время как «я» постулирует себя так же, как и «не-я», Фихте считает, что «я» должно позиционировать себя как личность среди других индивидов, если оно хочет постулировать себя «как рациональное существо с самосознанием». Присутствие других сдерживает свободу Я, потому что принципы морали и естественного права требуют, чтобы индивидуальная свобода не могла вмешиваться в свободу других людей. Таким образом, свобода Я и отношения между людьми и членами сообщества регулируются принципами морали и права, которые могут применяться ко всем их действиям и взаимодействиям.
Гегеля также беспокоил формализм моральной философии Канта, но Гегель подходил к проблеме несколько иначе, чем Фихте. В «Феноменологии духа » Гегель описывает распад «этической жизни» ( Sittlichkeit ) сообщества. Гегель понимает этическую жизнь как изначальное единство общественной жизни. Хотя он считает, что единство этической жизни предшествует любому пониманию сообщества как свободного объединения индивидов, Гегель также считает, что единство этической жизни обречено на распад.По мере того как члены сообщества осознают себя как личности, из-за конфликтов, возникающих между семьей и городом, между религиозным и гражданским правом, этическая жизнь становится все более и более фрагментированной, а узы, связывающие сообщество, становятся все менее и менее непосредственными. Этот процесс проиллюстрирован в «Феноменологии » знаменитым — хотя и в форме эллипса — пересказом Софокла «Антигона ».
Гегель дает иной взгляд на этическую жизнь в книге «Основы философии права». В этой работе он противопоставляет этическую жизнь морали и абстрактному праву. Абстрактное право — это имя, которое Гегель дает идее, что индивиды являются единственными носителями права. Проблема с этой точкой зрения состоит в том, что она абстрагируется от социального и политического контекста, в котором люди осуществляют свои права и реализуют свою свободу. Мораль отличается от абстрактного права, потому что мораль признает добро как нечто универсальное, а не частное. Мораль признает «общее благо» сообщества как нечто, что выходит за рамки личности; тем не менее, он определяет благо через чисто формальную систему обязательств, которая, в конце концов, не менее абстрактна, чем абстрактное право.Этическая жизнь представлена не как изначальное единство привычек и обычаев сообщества, а, скорее, как динамическая система, в которой люди, семьи, гражданское общество и государство объединяются для содействия реализации человеческой свободы.
Традиционные описания социальной и политической философии Гегеля рассматривают его описание этической жизни как извинение перед прусским государством. Это понятно, учитывая роль государства в заключительном разделе Philosophy of Right «Всемирная история.Здесь Гегель говорит, что «самосознание находит в органическом развитии актуальность своего реального знания и воли» в германском государстве (Wood 1991, 379–380). Однако рассматривать государство как кульминацию мировой истории и окончательную реализацию свободы человека означает упускать из виду несколько важных факторов, в том числе личную приверженность Гегеля политической реформе и личной свободе. Эти обязательства отражены в защите свободы Гегелем в книге «Философия права », а также в той роли, которую, по его мнению, семья и особенно гражданское общество играют в этической жизни.
5. Эстетика
Интерес немецких идеалистов к эстетике отличает их от других современных философов-систематиков (Декарт, Лейбниц, Вольф), для которых эстетика была в лучшем случае второстепенной задачей. И хотя среди немецких идеалистов существовали значительные разногласия по поводу взаимоотношений между искусством, эстетикой и философией, условия их разногласий продолжают обсуждаться в философии и искусстве.
На протяжении большей части своей карьеры Кант рассматривал эстетику как эмпирическую критику вкуса.В лекциях и заметках 1770-х годов, некоторые из которых позже были включены в «Логику Канта» (1800), Кант отрицает, что эстетика может быть наукой. Кант изменил свое мнение в 1787 году, когда он сказал Рейнхольду, что он открыл a priori принципа способности чувствовать удовольствие и неудовольствие. Кант изложил эти принципы в первой части книги Критика силы суждения (1790), где он характеризует эстетическое суждение как «рефлексивное» суждение, основанное на «осознании чисто формальной целесообразности в игре суждения. когнитивные способности субъекта в отношении оживления его когнитивных способностей »(Guyer and Matthews 2000, 106-107).Согласно Канту, именно свободная, но гармоничная игра наших познавательных способностей в эстетическом суждении является источником чувства удовольствия, которое мы связываем с красотой.
Рейнхольд и Фихте мало что говорили об искусстве и красоте, несмотря на обещание Фихте затронуть эту тему во второй, практической части своего Wissenschaftslehre. Эстетика, однако, имела решающее значение для Шеллинга, Гегеля и Гельдерлина. В «Старейшей программе системы немецкого идеализма » они пишут, что красота — это «идея, которая объединяет все» и «высший акт разума» (Bernstein 2003, 186).Таким образом, они настаивают на том, что «философия духа» также должна быть «эстетической» философией, объединяющей чувственное и интеллектуальное, а также реальное и идеальное.
Именно Шеллинг, а не Гегель или Гельдерлин, больше всех сделал для формулирования этой «эстетической» философии в годы после своего переезда в Йену. В «Системе трансцендентального идеализма » и «Философия искусства» Шеллинг утверждает, что абсолют раскрывается и воплощается в произведениях искусства.Искусство для Шеллинга «единственный истинный и вечный орган и документ философии» (Heath 1978, 231). Искусство имеет «первостепенное» значение для философа, потому что оно открывает «святая святых, где горит в вечном и изначальном единстве, как в едином пламени, то, что разрывается на части в природе и истории, и то, что в природе» жизнь и действие, равно как и мысли, должны навсегда разойтись »(Heath 1978, 231).
Позднее Гегель оспорит характеристику произведения искусства Шеллингом и его отношение к философии в своих лекциях по изящным искусствам. Согласно Гегелю, искусство — это не откровение и воплощение философии, а отчужденная форма самосознания. Наибольшее выражение духа можно найти не в произведении искусства, как предполагал Шеллинг, а в «идее». Красота, которую Гегель называет «чувственным проявлением идеи», не является адекватным выражением абсолюта именно потому, что это чувственная видимость. Тем не менее Гегель признает, что отчужденный и чувственный вид идеи может играть важную роль в диалектическом процессе, посредством которого мы осознаем абсолютное в философии.Он выделяет три вида искусства: символическое искусство, классическое искусство и романтическое искусство, соответствующие трем различным стадиям развития нашего сознания абсолюта, которые по-разному выражают различные аспекты идеи.
Гегель утверждает, что вид искусства, который соответствует первой стадии в развитии нашего понимания духа, символическому искусству, не может адекватно представить идею, но указывает на идею как на что-то вне себя. Это «потустороннее» невозможно уловить изображениями, пластическими формами или словами, и поэтому оно остается абстрактным для символического искусства.Однако искусство, соответствующее второму этапу развития нашего понимания духа, классическое искусство, стремится примирить абстрактное и конкретное в отдельном произведении. Он стремится представить совершенное, разумное выражение идеи и по этой причине представляет «идеал» красоты для Гегеля. Однако проблема остается, поскольку идея, выражаемая классическим искусством, сама по себе не является разумной. Разумное представление идеи остается внешним по отношению к самой идее.Романтическое искусство привлекает внимание к этому факту, подчеркивая чувственность и индивидуальность произведения. Однако, в отличие от символического искусства, романтическое искусство предполагает, что идея может быть обнаружена в произведении искусства и через него. По сути, произведение искусства пытается раскрыть истину самой идеи. Тем не менее, когда идея схвачена конкретно, сама по себе, а не через произведение искусства, мы достигаем философского понимания абсолюта, которое не требует дополнения чувственным проявлением.По этой причине Гегель предположил, что появление философского самосознания знаменует конец искусства. «Форма искусства, — говорит он, — перестала быть высшей потребностью духа» (Knox 1964, 10).
Тезис Гегеля о «конце» искусства широко обсуждался и поднимает много важных вопросов. Что, например, мы должны делать с развитием искусства, которое произошло «после» его конца? Какой цели могло бы служить искусство, если мы уже достигли философского самосознания? И, что, пожалуй, самое главное, действительно ли философия достигла абсолютного знания, которое сделало бы устаревшим любое «чувственное проявление» идеи? Это важные вопросы, но на них сложно ответить.Подобно Канту и Шеллингу, взгляды Гегеля на эстетику были частью его философской системы и служили определенной цели в рамках этой системы. По этой причине ставить под сомнение конец искусства у Гегеля — значит подвергать сомнению всю систему и то, в какой степени она представляет собой истинное представление об абсолюте. Однако именно поэтому эстетика и философия искусства позволяют нам проникнуть в суть мысли Гегеля и мысли немецких идеалистов в целом.
6. Прием и влияние
Фихте, Гегель и Шеллинг закончили свою карьеру на одной кафедре в Берлине.Последние годы жизни Фихте переформулировал Wissenschaftslehre в лекциях и семинарах, надеясь, наконец, найти аудиторию, которая его понимала. Гегель, которого призвали занять кресло Фихте после его смерти, читал лекции по истории философии, философии истории, философии религии и философии изящного искусства (его лекции по этим предметам были не менее влиятельными, чем его опубликованные работает). Гегель приобрел в Берлине значительных последователей как среди консерваторов, так и среди либералов, которых стали называть «правыми» (или «старыми») и «левыми» (или «молодыми») гегельянцами.Взгляды Шеллинга, кажется, больше всего изменились между началом века и его прибытием в Берлин. «Позитивная» философия, которую он сформулировал в своих поздних работах, больше не идеалистическая, потому что Шеллинг больше не утверждает, что бытие и мышление тождественны. Покойный Шеллинг также не считает, что мысль может основываться на своей собственной деятельности. Вместо этого мысль должна найти свою основу в «изначальном виде всего сущего».
Артур Шопенгауэр (1788-1860), Сорен Кьеркегор (1813-1855) и Карл Маркс (1818-1883) — все они стали свидетелями упадка немецкого идеализма в Берлине.Шопенгауэр учился у Шульце в Геттингене и посещал лекции Фихте в Берлине, но многие историки философии не считают его немецким идеалистом. Некоторые, такие как Гюнтер Цёллер, возражали против этого исключения, предполагая, что первое издание «Мир как воля и представление » фактически является «первой полностью исполняющей посткантианской философской системой» (Ameriks 2000, 101). Однако вопрос о том, действительно ли эта система идеалистична, остается предметом споров.Утверждения, что Шопенгауэр не идеалист, обычно берут в качестве отправной точки вторую часть Мир как Воля и Репрезентация , где Шопенгауэр утверждает, что репрезентации «чистого субъекта познания» основаны на воле и, в конечном счете, тело.
Легче отличить Кьеркегора и Маркса от немецких идеалистов, чем Шопенгауэра, хотя Кьеркегор и Маркс, возможно, настолько отличаются друг от друга, насколько это возможно. Кьеркегор учился у покойного Шеллинга, но, как и Якоби, отвергал разум и философию во имя веры.Многие из его работ представляют собой тщательно продуманные пародии на рассуждения, которые можно найти в работах немецких идеалистов, особенно Гегеля. Маркс вместе с другим учеником Шеллинга, Фридрихом Энгельсом (1820-1895), высмеивал идеализм как «немецкую идеологию». Маркс и Энгельс обвиняли в том, что идеализм никогда по-настоящему не порывал с религией, что он постигал мир через абстрактные, логические категории и, наконец, ошибочно принимал простые идеи за реальные. Маркс и Энгельс продвигали свой исторический материализм как альтернативу идеологии идеализма.
В истории философии девятнадцатого века есть тенденция чрезмерно подчеркивать такие фигуры, как Шопенгауэр, Кьеркегор и Маркс, но это искажает наше понимание событий, происходящих в то время. Именно рост эмпирических методов в естественных науках и историко-критических методов в гуманитарных науках, а также рост неокантианства и позитивизма привели к затмению немецкого идеализма, а не резкая критика Шопенгауэра, Кьеркегора, Маркс и Ницше.Неокантианство, в частности, стремилось оставить позади спекулятивные эксцессы немецкого идеализма и извлечь из Канта те идеи, которые были полезны для философии естественных и гуманитарных наук. В процессе они сделали неокантианство доминирующей философской школой в Германии в конце девятнадцатого века.
Несмотря на общий упадок, немецкий идеализм оставался важным влиянием на британский идеализм Ф. Х. Брэдли (1846-1924) и Бернара Босанке (1848-1923) в начале двадцатого века.Отказ от британского идеализма был одной из общих черт ранней аналитической философии, хотя было бы неправильно предполагать, что Бертран Рассел (1872-1970), Г. Мур (1873–1958) и другие отвергли идеализм по чисто философским причинам. Вера в то, что немецкий идеализм хотя бы частично ответственен за немецкий национализм и агрессию, была распространена среди философов поколения Рассела и только укрепилась после Первой и Второй мировых войн. Знаменитое изображение Гегеля как «врага свободы» и «тоталитаризма» в «Открытое общество и его враги » (1946) Карла Поппера (1902–1994) основывается на этой точке зрения.И хотя было бы трудно доказать, что какая-то конкретная философия ответственна за немецкий национализм или рост фашизма, правда, что работы Фихте и Гегеля были, как и работы Ницше, излюбленными ссылками для немецких националистов, а позже и Нацисты.
Произведения немецких идеалистов, особенно Гегеля, стали важными во Франции в 1930-е годы. Лекции Александра Кожева (1902-1968) о Гегеле оказали влияние на целое поколение французских интеллектуалов, включая Жоржа Батая (1897-1962), Жака Лакана (1901-1981) и Жан-Поля Сатра (1905-1980).Понимание Кожевом Гегеля является своеобразным, но вместе с работами Жана Валя (1888–1974), Александра Койре (1892–1964) и Жана Ипполита (1907–1968) его подход остается влиятельным в континентальной европейской философии. Возражения против антропоцентризма немецкого идеализма обычно восходят к этой традиции и особенно к Кожеву, который рассматривал диалектику Гегеля как исторический процесс, посредством которого решаются проблемы, определяющие человечество. Конец этого процесса для Кожева является концом истории, что было популяризировано Фрэнсис Фукаяма (1952-) в Конец истории и последний человек (1992).Обвинения в том, что немецкий идеализм является догматическим, рационалистическим, фундаменталистским и тотализирующим в своих попытках систематизировать и, в конечном счете, эгоцентрической «философией субъекта», которые также распространены в континентальной философии, заслуживают более серьезного внимания, учитывая акцент Фихте, Шеллинга и Гегель ставят на «я» и степень своих философских амбиций. Однако даже эти обвинения в последние годы были опровергнуты новой исторической наукой и более глубоким пониманием проблем, которые на самом деле двигали немецкими идеалистами.
Немецкий идеализм проявил значительный интерес в последние двадцать лет, когда враждебность в аналитической философии ослабла, традиционные допущения исчезли в континентальной философии и были наведены мосты между двумя подходами. Философам, таким как Ричард Бернштейн и Ричард Рорти, вдохновленные Уилфридом Селларсом, можно приписать повторное введение Гегеля в аналитическую философию как альтернативу классическому эмпиризму. Роберт Пиппин позже защищал неметафизического Гегеля, который был предметом интенсивных дискуссий, но который также сделал Гегеля актуальным для современных дебатов о реализме и антиреализме.Совсем недавно Роберт Брэндом отстаивал «нормативную» концепцию рациональности, которую он находит у Канта и Гегеля, и которая предполагает, что концепции функционируют как правила, регулирующие суждение, а не просто представления. Некоторые, например Катрин Малабу, даже пытались применить идеи немецких идеалистов в современной нейробиологии. Наконец, было бы упущением не упомянуть о выдающейся историко-философской науке как на немецком, так и на английском языке, которая была произведена в отношении немецкого идеализма в последние годы.Литература, указанная в библиографии, не только обогатила наше понимание немецкого идеализма новыми изданиями, переводами и комментариями, но также расширила горизонты философской науки, выявив новые проблемы и новые решения проблем, возникающих в различных традициях и контекстах.
7. Ссылки и дополнительная литература
а. Кант
и. Немецкие издания произведений Канта
- Weischedel. Вильгельм. изд. Kants Werke in sechs Bänden . Wiesbaden: lnsel Verlag, 1956-1962.
- Kants Gesammalte Schriften, herausgegeben von der Preussischen Akademie der
- Wissenschaften . Берлин: Вальтер де Грюйтер, 1902 г., .
ii. Кембриджское издание произведений Иммануила Канта в переводе
- Боуман, Кертис, Гайер, Пол и Раушер, Фредерик, пер. и Гайер, Пол, изд. Иммануил Кант: заметки и фрагменты . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2005.
- Эллисон, Генри и Хит, Питер, ред. Иммануил Кант: теоретическая философия после 1781 года. Кембридж: Cambridge University Press, 2002.
- Гайер, Пол и Мэтьюз, Эрик, пер. и ред. Иммануил Кант: Критика силы суждения . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2000.
- Арнульф Цвейг, пер. и изд. Иммануил Кант: Переписка . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1999.
- Гайер, Пол и Вуд, Аллен В. Иммануил Кант: Критика чистого разума . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1998.
- Хит, Питер и Шнеуинд, Джером Б., пер. и ред. Лекции по этике. Нью-Йорк: Cambridge University Press, 1997.
- Америкс, Карл и Нарагон, Стив, пер. и ред. Иммануил Кант: Лекции по метафизике . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1997.
- Грегор, Мэри, пер. и изд. Иммануил Кант: Практическая философия .Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1996.
- Вуд, Аллен В. и ди Джованни, Джордж, пер. и ред. Иммануил Кант: религия и рациональное богословие . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1996.
- Уолфорд, Дэвид и Мирбот, Ральф, пер. и ред. Иммануил Кант: теоретическая философия, 1755-1770 гг. . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1992.
- Янг, J. Michel, пер. и изд. Иммануил Кант: Лекции по логике . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1992.
iii. Другие английские переводы произведений Канта
- Кемп Смит, Норман, пер. Критика чистого разума. Лондон: Palgrave MacMillan, 2003.
- Pluhar, Вернер, пер. Критика суждения, включая первое введение. Indianapolis: Hackett, Publishing, 1987.
- Эллисон, Генри Э., пер. Противоречие Канта и Эберхарда. Балтимор: издательство Университета Джона Хопкинса, 1973.
б. Fichte
и.Немецкие издания произведений Фихте
- Fichte, Immanuel Hermann, ed. Fichtes Werke. Берлин: Вальтер де Грюйтер, 1971.
- Лаут, Рейнхард, Гливицкий, Ганс и Якоб, Ганс. ред. J.G. Fichte: Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Штутгарт-Бад-Каннштатт: Frommann-Holzboog Verlag, 1962.
ii. Английский перевод произведений Фихте
- зеленый, Гарретт, пер. Аллен Вуд, изд. Попытка критики e All Revelation .Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2010.
- Бризил, Даниэль и Цёллер, Гюнтер. Система этики в соответствии с принципами Wissenschaftslehre . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2005.
- Neuhouser. Фредерик и Баур, Майкл. пер. и ред. Основы естественного права. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2000.
- Бризил, Дэниел. пер. и изд. Введение в Wissenschaftslehre и другие письменные материалы. Индианаполис: Hackett Publishing, 1994.
- Бризил, Дэниел. пер. и изд. Основы трансцендентальной философии (Wissenschaftslehre Nova Methodo, 1796-1799). Итака: Издательство Корнельского университета, 1992.
- Бризил, Дэниел. пер. и изд. Ранние философские сочинения. Ithaca: Cornell University Press, 1988.
- Прейс, Питер, пер. Призвание человека. Индианаполис: Hackett Publishing, 1987.
- Хит.Питер и Лакс, Джон, пер. Наука познания. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1982.
- Джонс, Р. Ф. и Тернбулл, Джордж Генри, пер. Адреса с по для немецкой нации . Нью-Йорк: Харпер и Роу, 1968.
г. Гегель
и. Немецкие издания произведений Гегеля
- Ева Молденхауэр и Карл Маркус Мишель, ред. Георг Вильгельм Фридрих Гегель: Верке. Франкфурт-на-Майне: Зуркамп, 1971–1979.
- Хоффмайстер. Йоханнес, изд. Briefe von und an Hegel, Hamburg: Meiner, 1969.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft in Verbindung mit der Rheiniscb-westfalischen
- Akademie der Wissenschaften, ed. Hegels Gesammelte Werke. Kritische Ausgabe. Гамбург: Meiner Verlag, 1968.
ii. Английский перевод произведений Гегеля
1. Cambridge Hegel Translations
- Ди Джованни, Джордж, пер. и изд. Наука логики .Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2010.
- Бринкманн, Клаус и Дальстрем, Даниэль О., пер. и изд. Энциклопедия философских наук в общих чертах, часть 1, логика . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2010.
- Боуман, Брэди и Спейт, Аллен. Сочинения Гейдельберга. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2009.
2. Другие английские переводы произведений Гегеля
- Nisbet, H.B., пер. Вуд, Аллен, изд. Элементы философии права .Кембридж: Издательство Кембриджского университета. 1991.
- Гераетс, Теодор Ф., Харрис, Х.С. и Сухтинг, Уоллис Артур, пер. The Encylopedia Logic. Indianapolis: Hackett Publishing, 1991.
- Браун, Роберт, изд. Лекции по истории философии. Беркли: Калифорнийский университет Press, 1990.
- Бербидж. Джон С., пер. Йенская система 1804/1805: логика и метафизика. Монреаль: McGill / Queen’s University Press, 1986.
- Миллер А.В., пер. Джордж, Майкл и Винсент, Эндрю, ред. Философская пропаганда. Оксфорд: Блэквелл, 1986.
- Ходжсон, Питер и Браун, Р.Ф., пер. Лекции по философии религии. Беркли: Калифорнийский университет Press, 1984-1986.
- Доббинс, Джон и Фасс, Питер, пер. Три очерка 1793-1795 гг. Саут-Бенд: University of Notre Dame Press, 1984.
- Серф, Уолтер и Харрис, Х.С., пер. Система этической жизни и первая философия духа. Олбани: Государственный университет Нью-Йорка, 1979.
- Петри, Майкл Джон, пер. и изд. Философия субъективного духа Гегеля / Философия субъективного духа Гегеля. Дордрехт: Ридель, 1978.
- Миллер, А. Феноменология духа . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1977.
- Серф, Уолтер и Харрис, H.S., пер. Разница между философской системой Фихте и Шеллинга. Олбани: Государственный университет Нью-Йорка, 1977 г.
- Серф, Уолтер и Харрис, H.S., пер. Вера и Знание. Олбани: Государственный университет Нью-Йорка, 1977 г.
- Nisbet, H.B., пер. Лекции по философии всемирной истории: Введение. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1975.
- Уоллес. Уильям, пер. Философия разума Гегеля. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1971.
- Миллер, А.В., пер. Философия природы. Oxford: Oxford University Press, 1970.
- Миллер А.В., пер. Наука Логика. Лондон: Джордж Аллен и Анвин, 1969.
- Нокс, Т. пер. Эстетика Гегеля. Оксфорд: Clarendon Press, 1964.
г. Шеллинг
и. Немецкие издания произведений Шеллинга
- Франк, Манфред и Курц, Герхард. ред. Mat erialien zu Schellings Философские анфэнгены. Франкфурт: Зуркамп, 1995.
- Якобс, Вильгельм Г., Крингс. Германн, и Зельтнер, Германн, ред. F.W.J. фон Шеллинг: Historisch-kritische Ausgabe. Штутгарт-Бад-Каннштатт: Фромманн-Хольцбуг, 1976-.
- Fuhrmans, Horst, ed. Schelling: Briefe und Dokumente. Бонн: Бувье, 1973 ·
ii. Английский перевод произведений Шеллинга
- Любовь, Джефф и Шмитт, Йоханнес, пер. Философские исследования сущности свободы человека .Олбани: State University of New York Press, 2007.
- Мэтьюз, Брюс, пер. Основание позитивной философии . Олбани: State University of New York Press, 2007.
- Ричи, Мейсон и Зиссельсбергер, Маркус, пер. Историко-критическое введение в философию мифологии . Олбани: State University of New York Press, 2007.
- Петерсон, Кейт Р., пер. и изд. Первый очерк системы философии природы . Олбани: Государственный университет Нью-Йорка, 2004.
- Стейнкамп, Фиона, пер. Клара, или О связи природы с духовным миром . Олбани: State University of New York Press, 2002.
- Вирт, Джейсон М., Пер. Возрасты мира . Олбани: State University of New York Press, 2000.
- Боуи, Эндрю, пер. На История современной философии. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1994
- Пфау, Томас, пер. и изд. Идеализм и конец теории: три очерка Ф.W.J. Шеллинг. Олбани: Государственный университет Нью-Йорка, 1994.
- Стотт, Дуглас В., пер. Философия искусства. Миннеаполис: Университет Миннесоты, 1989.
- Гутманн, Джеймс, пер. Философские исследования природы свободы человека . La Salle: Open Court, 1989.
- Харрис, Эррол и Хит. Питер, пер. Идеи для философии природы. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1988.
- Фатер, Майкл Г., пер. Bruno, или О естественном и божественном принципе вещей Albany: State University of New York Press, 1984.
- Марти, Фриц, пер. и изд. Безусловное в человеческом знании: четыре ранних эссе. Lewisburg: Bucknell University Press, 1980.
- Хит, Питер, пер. Система трансцендентального идеализма . Шарлоттсвилль, Вирджиния: Издательство Университета Вирджинии, 1978,
- Мотган, Э.С. и Гутерман, Норберт, пер. На ВУЗ Учёба. Афины: Издательство Университета Огайо, 1966.
эл. Издания и переводы других первоисточников
и. Якоби
- Хаммахер, Клаус и Яешке, ред. Фридрих Генрих Якоби: Верке. Гамбург: Meiner Verlag, 1998.
- Ди Джованни, Джордж, пер. и изд. Фридрих Генрих Якоби: The: Основные философские сочинения и роман Allwill. Монреаль: McGill / Queen’s University Press, 1994.
- Клиппен, Фридрих и фон Рот, Фридрих, ред. Фридрих Генрих Якоби: Werke . Дармштадт: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968.
ii. Рейнхольд
- Hebbeler, James, trans., And Ameriks, Karl, ed. Письма о философии Канта . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2005.
- Fabbianelli, Faustino, ed. Beiträge zur Berichtigung bisheriger Missverständnis der Philosophen .Гамбург: Meiner Verlag, 2003. .
- Ди Джованни, Джордж и Харрис, H.S. Между Кантом и Гегелем: тексты в развитии посткантианского идеализма . Индианаполис: Hackett Publishing, 2000. .
iii. Hölderlin
- Бейснер, Фридрих, изд. Holderlin: Samtliche Werke, Grosser Stuttgarter Ausgabe. Штутгарт: Котта, 1943-85.
- Пфау, Томас, пер. и изд. Essays и Letters on Theory, Albany: State University of New York Press, 1988.
iv. Kierkegaard, Søren
- Cappelørn, N.J. et. al. Søren Kierkegaards Skrifter . Копенгаген: Gad, 1997. .
- Хонг, Ховард В. и Хонг, Энда Х., изд. Произведения Кьеркегора. Princeton: Princeton University Press, 1983-2009.
против Маркса
- Паскаль, Рой, изд. T he German Ideology, New York: International Publishers, 1947.
- Рявнов Д., Адоратский Владимир Викторович, ред. Карл Маркс и Фридрих Энгельс: Historisch-Kritisch Gesamtausgabe. Редин: Дитц Верлаг, 1956.
vi. Шопенгауэр
- Janaway, Кристофер и Норман, Джудит и Велчман Алистер, пер. и ред. Мир как воля и представление. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2010.
- Акила, Ричард и Карус, Дэвид, пер. Мир как воля и представление . Нью-Йорк: Пирсон Лонгман, 2008.
- Пейн, Эрик Ф.and Zöller, Günter, trans. Pr ize Очерк о Свобода воли. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1999.
- Payne. Эрик Ф., пер. О Четырехкратный корень принципа достаточного разума. La Salle: Open Court, 1989.
- Пейн, Эрик Ф., пер. Мир как воля и представление. Нью-Йорк: Дувр, 1974.
- Hübscher, Arthur, ed. Sammtliche Werke. Mannheirn: Brockhaus, 1988.
ф. Другие работы о немецком идеализме
- Эллисон, Генри. Кантовский Трансцендентальный идеализм (2 -е издание ) New Haven: Yale University Press, 2004.
- Эллисон, Генри. Идеализм и свобода. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1996.
- Америкс, Карл, изд. Кембриджский компаньон немецкого идеализма . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2000.
- Америкс, Карл. Кант и судьба автономии: проблемы в присвоении критической философии. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2.000.
- Авинери, Шломо. Теория современного государства Гегеля. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1972 г.
- Баур, Майкл и Дальстрем, Даниэль. ред. Emer род немецкого идеализма. Вашингтон, округ Колумбия: Католический университет Америки Press, 1999.
- Байзер, Фредерик. Гегель . Лондон: Рутледж, 2005. .
- Байзер, Фредерик, изд. Кембриджский компаньон Гегеля. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1993.
- Байзер, Фредерик. Просвещение, революция и романтизм: генезис современной немецкой политической мысли. Кембридж: Издательство Гарвардского университета, 1992.
- Байзер, Фредерик Судьба разума: немецкая философия от Канта до Фихте. Кембридж: Издательство Гарвардского университета, 1987.
- Бризил, Дэниел и Рокмор, Томас, ред. Фихте: исторические контексты / современные споры. Atlantic Highlands: Humanities Press, 1997.
- Боуи, Эндрю. Эстетика и Субъективность: от Канта до Ницше (2 -е издание ). Манчестер: Manchester University Press, 2000.
- Боуи, Эндрю. Шеллинг и современная европейская философия. Лондон: Рутледж, 1993.
- Кассирер, Эрнст. Жизнь и мысль Канта, пер. Джеймс Хейден. Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета, 1981.
- Кроче, Бенедетто. What is Living и What is Dead in the Philosophy of Hegel, trans. Дуглас Эйнсли. Нью-Йорк: Рассел и Рассел. 1969.
- Ди Джованни, Джордж, изд. Очерки по логике Гегеля. Олбани: Государственный университет Нью-Йорка, 1990.
- Финдли, Дж. Hegel: A Re -экзамен. Лондон: Джордж Аллен и Анвин, 1958.
- Форстер, Майкл. Гегель Идея феноменологии духа. Чикаго: University of Chicago Press, 1998
- Форстер, Майкл. Гегель и скептицизм. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 1989.
- Guyer, Paul, ed. The Cambridge Companion до Kant. Кембридж; Издательство Кембриджского университета, 1992.
- Хаммер, Эспен, изд. Немецкий идеализм: современные перспективы . Лондон: Рутледж, 2007. .
- Харрис, H.S. Развитие Гегеля: Ночные мысли. Оксфорд: Oxford University Press, 1983.
- Харрис, H.S. Развитие Гегеля: к дневному свету. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1972 г.
- Генрих, Дитер . Между Кантом и Гегелем: лекции о немецком идеализме . изд. Дэвид Пачини. Кембридж: Издательство Гарвардского университета, 2003. .
- Houlgate, Стивен, изд. Гегель и искусство . Эванстон: издательство Северо-Западного университета, 2007.
- Ульгейт, Стивен. Открытие логики Гегеля .West Lafayette: Purdue University Press, 2006.
- Houlgate, Стивен, изд. Гегель и философия природы. Олбани: Государственный университет Нью-Йорка, 1998.
- Гипполит. Жан. Генезис и структура феноменологии духа, пер. С. Черняк и Р. Хекманн. Эванстон, Иллинойс: Northwestern University Press, 1974.
- Инвуд, Майкл. Гегель. Лондон: Рутледж, 1983.
- Кожев, Александр. Введение к чтению Гегеля, пер.Дж. Х. Николс. Нью-Йорк: Basic Books, 1960.
- Куэн, Манфред. Кант: A Жизнь. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2000 г.
- Longuenesse, Беатрис. Критика метафизики Гегеля. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2007.
- Мартин, Уэйн. Идеализм и объективность: понимание Йенского проекта Фихте. Stanford: Stanford University Press, 1997.
- Нойхаузер, Фредерик. Теория субъективности Фихте. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1990.
- О’Хонд, Жак. Гегель в свое время. пер. Джон Бербидж. Питерборо: Broadview Press, 1988.
- Пинкард, Терри. Немецкая философия 1760-1860: наследие идеализма . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2002. .
- Пинкард, Терри. Hegel: A Биография. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2000.
- Пинкард, Терри. Феноменология Гегеля: Социальность разума. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1994.
- Пиппин, Роберт. Гегель о самосознании: желание и смерть в феноменологии духа . Princeton: Princeton University Press, 2010. .
- Пиппин, Роберт. Практическая философия Гегеля: рациональное действие как этическая жизнь . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2008.
- Пиппин, Роберт. Идеализм Гегеля: удовлетворение самосознания. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1989.
- Священник, Стефан, изд. Гегель Критик Канта. Oxford: Oxford University Press, 1987.
- Реддинг, Пол. Аналитическая философия и возвращение к гегелевской мысли. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2010.
- Риттер, Иоахим. Гегель и Французская революция. Кембридж: MIT Press, 1982.
- Рокмор, Том. До и после Гегеля: Историческое введение в мысль Гегеля. Беркли: Калифорнийский университет Press, 1993.
- Седжвик, Салли, изд. Рецепция критической философии Канта: Фихте, Шеллинг и Гегель. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2000.
- Снежный, Дейл. Шеллинг и конец идеализма . Олбани: State University of New York Press, 1996.
- Соломон, Роберт М. и Хиггинс, Кэтлин М., ред. Эпоха немецкого идеализма. Лондон: Рутледж, 1993.
- Стерн, Роберт. Гегелевская метафизика .Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. 2009.
- Тейлор, Чарльз. Гегель. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1975
- Вестфаль, Кеннет. Эпистемологический реализм Гегеля: Исследование цели и метода феноменологии духа Гегеля. Dordrecht: Kluwer, 1989.
- Уайт, Аллен. Шеллинг: Введение в систему свободы . Нью-Хейвен: Издательство Йельского университета, 1983.
- Вирт, Джейсон М., изд. Шеллинг сейчас: современные чтения .Блумингтон: Издательство Индианского университета, 2004. .
- Wood, Allen Kant’s Ethical Thou.ght. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1999.
- Вуд, Аллен. Этическая мысль Гегеля. . . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1990 .
- Zöller, Günter. Трансцендентальная философия Фихте. Философия. Первоначальная двойственность интеллекта и воли. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1998.
Информация об авторе
Colin McQuillan
Электронная почта: cmcquillan @ utk.edu
Университет Теннесси Ноксвилл
США
примеров популярной философии
Идеализм — это философский термин, обозначающий отказ от физической реальности. Вместо этого сторонники идеализма предполагают, что все во вселенной либо создано человеческим разумом, либо не имеет материальной субстанции.
Примеры философии идеализма
Философия идеализма принимает множество форм. Вот несколько примеров:
- Абсолютный идеализм — философия, которую можно отнести к Гегелю, предполагает, что для того, чтобы разум мог взаимодействовать с миром, мысль и бытие должны иметь собственное чувство идентичности.Мы относимся к миру не потому, что он отличается от ума, а потому, что он такой же.
- Актуальный идеализм — вера в то, что реально воспринимать окружающий мир — вот что действительно определяет реальность, а не действия ума, которые не воспринимают, такие как творчество и мысленные эксперименты, проводимые в воображении.
- Биологический идеализм — философия, разработанная философом и мыслителем Шопенгауэром. Эта форма идеализма считает, что то, во что полезно верить организму, может сильно отличаться от того, как обстоят дела на самом деле; то есть то, как организм понимает окружающую среду, является наиболее важным для живых существ.
- Идеализм христианской науки — это вера в то, что единственное, что существует, — это христианский Бог и Его идеи. Все, что известно человеку, является просто результатом идей, которые возникают из разума их Бога.
- Монистический идеализм — утверждает, что материя — это не состав всего существующего, а скорее все, что существует, делает это внутри и благодаря сознанию. Другими словами, единственный тип вещей во вселенной — это сознание.
- Объективный идеализм — считает, что воспринимающий только один.Этот человек — тот, кто воспринимает вещи. Эта форма идеализма действительно признает существование реальных вещей (что является концепцией реализма), но отвергает то, что разум является результатом материальных объектов или физического мира.
- Платонический идеализм — иначе известный как платонизм, платонический идеализм — это форма идеализма, которая считает, что определенные идеальные формы, такие как абсолюты морали и справедливости, не существуют как зависимые от мира вокруг нас, но функционируют как всеобъемлющие идеалы, независимые от всех остальных. существование.
- Субъективный идеализм — философское понятие, также известное как имматериализм или эмпирический идеализм. Эта философия предполагает, что существуют только умы. Это противоположность материализма, философия, согласно которой единственное, что действительно существует, — это материал.
- Трансцендентальный идеализм — предполагает, что разум формирует мир вокруг себя, а не наоборот.
