Гегель, Маркс, Лукач и революционное решение коллизии обязанностей
Насилие и политика — две вечно спотыкающиеся друг о друга сферы. С одной стороны, почти любое определение государства касается силового аппарата как его необходимой части, а одно из самых влиятельных — веберовское — утверждает монополию на насилие как существеннейший признак государства. С другой стороны, обвинение в насилии — военном, полицейском, политическом, — является постоянно практикуемым средством делегитимации какого-либо государства, призвание которого видят в нахождении мирного способа разрешения конфликтов. Но так как средства этого мирного разрешения государство приобретает именно благодаря монополии на насилие и мощному силовому аппарату, эти два противоборствующих взгляда на политическую жизнь на самом деле непрерывно вызывают друг друга к жизни. Существует и третий взгляд, находящийся в оппозиции к тем двум одновременно — он предполагает, что политическая жизнь без централизованного аппарата насилия возможна, при этом предлагая для достижения такого состояния самим воспользоваться аппаратом насилия; этот взгляд, опираясь на который, человечество уже провело ряд неоднозначных исторических экспериментов, раскрыт в политико-этическом учении марксизма.
В настоящей статье я постараюсь показать, как эти противоречивые установки по отношению к политическому насилию были выработаны марксизмом в полемике — а также через прямую преемственность — с классическим немецким идеализмом. Этот экскурс необходим вовсе не для того, чтобы освятить марксистский взгляд на насилие древностью философских авторитетов или овеять туманом их метафизики насущный политический вопрос. Подмена конкретной позиции, за которую нужно нести ответственность, ни к чему не обязывающими, но грандиозными теоретическими построениями — это милая игра, за которой многие левые теоретики XX в. прозевали десятилетия, когда почва уходила у них из–под ног. Данной статьей я ни в коем случае не хочу продолжать эту традицию: история философской полемики является здесь предметом рассмотрения лишь постольку, поскольку в некоторых ее эпизодах были доведены до предельной ясности возможные ответы на заданный вопрос: «как возможно насилие против насилия?»
Коллизия обязанностей — первоначально юридический термин, означающий противоречие между различными нормами права. В философию оно вводится Гегелем в его критике этического учения Канта. Главным, и в общем-то единственным предписанием последней, как известно, является категорический императив: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать всеобщим законом». Проще говоря, перед каждым действием индивиду следует задавать себе с детства известный вопрос «а если все так будут?», и в случае, если гипотетический мир, в котором все так делают, схлопнется в противоречии, отказаться от этого действия. Эта философия морали сразу стала скандальной: поясняя ее, Кант отметил, что если бы друг попросил у меня убежища от полицейского преследования, мне следовало бы пустить его, но если бы затем зашел полицейский и спросил, не у меня ли этот человек, я не имею морального права ни врать, ни не повиноваться закону. Однако простота и универсальность такой этики, ее свобода от всякого эмпирического наполнения, до сих пор делает ее притягательной для множества людей. На нее зачастую опираются критики насилия и поборники прав человека, т.
В философию оно вводится Гегелем в его критике этического учения Канта. Главным, и в общем-то единственным предписанием последней, как известно, является категорический императив: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать всеобщим законом». Проще говоря, перед каждым действием индивиду следует задавать себе с детства известный вопрос «а если все так будут?», и в случае, если гипотетический мир, в котором все так делают, схлопнется в противоречии, отказаться от этого действия. Эта философия морали сразу стала скандальной: поясняя ее, Кант отметил, что если бы друг попросил у меня убежища от полицейского преследования, мне следовало бы пустить его, но если бы затем зашел полицейский и спросил, не у меня ли этот человек, я не имею морального права ни врать, ни не повиноваться закону. Однако простота и универсальность такой этики, ее свобода от всякого эмпирического наполнения, до сих пор делает ее притягательной для множества людей. На нее зачастую опираются критики насилия и поборники прав человека, т. к. она убедительно отказывает какому бы то ни было насилию в правомерности (парадоксально при этом, что Кант был сторонником смертной казни). В самом деле, если мы, размышляя о том, что подобает и чего нельзя делать человеку, исходим из того, что человек — это полностью автономный атом, наделенный свободной волей, то любое предписание в отношении этой воли должно выводиться из нее самой, раз уж мы признали ее последней инстанцией действия. Но из такой лишенной всяких качеств, универсальной индивидуальности нельзя извлечь никакого принципа действия, кроме чисто формального, не привлекающего ни интересов, ни удовольствия, ни желания: в разных эмпирических обстоятельствах все эти вещи обладают различной ценностью, ценность же существования самой этой последней инстанции — индивида — и целостности его воли несомненна, и никакое предписание в таком случае не может считаться легитимным, если оно с тем же успехом не может быть адресовано любой другой такой же воле.
к. она убедительно отказывает какому бы то ни было насилию в правомерности (парадоксально при этом, что Кант был сторонником смертной казни). В самом деле, если мы, размышляя о том, что подобает и чего нельзя делать человеку, исходим из того, что человек — это полностью автономный атом, наделенный свободной волей, то любое предписание в отношении этой воли должно выводиться из нее самой, раз уж мы признали ее последней инстанцией действия. Но из такой лишенной всяких качеств, универсальной индивидуальности нельзя извлечь никакого принципа действия, кроме чисто формального, не привлекающего ни интересов, ни удовольствия, ни желания: в разных эмпирических обстоятельствах все эти вещи обладают различной ценностью, ценность же существования самой этой последней инстанции — индивида — и целостности его воли несомненна, и никакое предписание в таком случае не может считаться легитимным, если оно с тем же успехом не может быть адресовано любой другой такой же воле.
В свою очередь Гегель, младший современник Канта, строивший свою философию, в основном, критически отталкиваясь от кантовской, в свои ранние годы обратил пристальное внимание на противоречие, которое рождает почти любая попытка применить категорический императив: в действительности над индивидом довлеют сразу множество обязанностей, и, выполнив одну из них, он неизбежно становится преступником по отношению к другой. Например, мать, отдав сына в солдаты, выполняет свой гражданский долг, но нарушает материнский. Палач, убивая преступника, выполняет условия трудового договора, но нарушает завет божий. Однако, обнаружив это, кантовскую этику нельзя просто отбросить как неприменимую: она является лишь логическим завершением всего новоевропейского учения о первичности индивида и его собственного разума, из которых выводятся все человеческие институты, установления, законы. Для разрешения коллизии требовалась кардинальная смена оптики, и Гегель совершил ее, слив сферу этики (как мышления о причинах и началах индивидуального действия) со сферой политики (как мышления о причинах и началах действия коллективного). Позже эту идею унаследовал марксизм, где оно стало одним из центральных методологических пунктов.
Например, мать, отдав сына в солдаты, выполняет свой гражданский долг, но нарушает материнский. Палач, убивая преступника, выполняет условия трудового договора, но нарушает завет божий. Однако, обнаружив это, кантовскую этику нельзя просто отбросить как неприменимую: она является лишь логическим завершением всего новоевропейского учения о первичности индивида и его собственного разума, из которых выводятся все человеческие институты, установления, законы. Для разрешения коллизии требовалась кардинальная смена оптики, и Гегель совершил ее, слив сферу этики (как мышления о причинах и началах индивидуального действия) со сферой политики (как мышления о причинах и началах действия коллективного). Позже эту идею унаследовал марксизм, где оно стало одним из центральных методологических пунктов.
Хотя ангажированность политической мысли Маркса, ее императивность по отношению к реальным историческим субъектам, принципиальная неукладываемость в сферу одной только чистой теории — ее важнейшая черта, эта мысль (за исключением нескольких характерных, но не получивших развития высказываний в работах 1840-х годов) практически не имеет артикулированного этического измерения, даже с поправкой на условность и несамостоятельность любой системы моральных предписаний по отношению к классовым интересам. Этот факт озадачивает прежде всего потому, что этика тысячелетиями считалась собственно практической частью философии. Маркс, создавая, по выражению Грамши «философию практики», не считал важным — и позже мы поймем, почему — связывать эту практику с индивидуальным действием. Дедукцию специфически этических категорий из диалектико-материалистических представлений о началах человеческого действия, разработку марксистского учения об индивиде и действительное теоретическое разрешение коллизии обязанностей впервые представил Георг Лукач. Однако сперва мы — с его же помощью — продолжим рассмотрение истории этого вопроса в немецкой философии.
Этот факт озадачивает прежде всего потому, что этика тысячелетиями считалась собственно практической частью философии. Маркс, создавая, по выражению Грамши «философию практики», не считал важным — и позже мы поймем, почему — связывать эту практику с индивидуальным действием. Дедукцию специфически этических категорий из диалектико-материалистических представлений о началах человеческого действия, разработку марксистского учения об индивиде и действительное теоретическое разрешение коллизии обязанностей впервые представил Георг Лукач. Однако сперва мы — с его же помощью — продолжим рассмотрение истории этого вопроса в немецкой философии.
Историко-философское исследование, в числе прочего, решения коллизии обязанностей предпринимается Лукачем в написанной в 30-х годах книге «Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества». Лукач рассказывает в ней, как сперва Гегель пытается решить эту коллизию через мистическую христианскую любовь, внутри которой отвергается претензия всякой добродетели (и следующих из нее моральных максим) на абсолютность, и все они составляют некое подвижное, но простое единство. Но уже в «Системе нравственности», раннем и весьма сыром социально-философском тексте, Гегель разрабатывает другой способ снятия преступной противоречивости этического универсализма, который уже затем перейдет в его «зрелую» систему: в «Философию права», «Философию истории» и т.д. Центральный пункт этого решения заключается в том, что универсальная мораль исповедуется не индивидом, а обществом, и в этом качестве она получает имя нравственности. Гегель пишет:
Но уже в «Системе нравственности», раннем и весьма сыром социально-философском тексте, Гегель разрабатывает другой способ снятия преступной противоречивости этического универсализма, который уже затем перейдет в его «зрелую» систему: в «Философию права», «Философию истории» и т.д. Центральный пункт этого решения заключается в том, что универсальная мораль исповедуется не индивидом, а обществом, и в этом качестве она получает имя нравственности. Гегель пишет:
«Не единичность индивидуума является главным, а жизненность нравственной природы, божественность; единичный индивидуум слишком беден для ее существа, чтобы воспринять ее природу во всей ее реальности».
Различные добродетели — стороны или моменты нравственности — не противополагаются здесь лишь умозрительно, как абстрактно-противоположные принципы («гражданский долг», «религиозный долг», «дружеский долг»), но распределяются между различными народами, сословиями, полами и т.д., и вступают в живые отношения — комплементарные или антагонистические. Даже преступность как таковая получает некоторое признание со стороны нравственности: она предусмотрена, учтена правом, а неизбежность наказания делает преступление даже законоутверждающим; более того преступление и наказание предстают здесь как единый нравственный акт, так что и наказание в сущности оказывается самим преступлением, но возведенным в ранг законности.
Даже преступность как таковая получает некоторое признание со стороны нравственности: она предусмотрена, учтена правом, а неизбежность наказания делает преступление даже законоутверждающим; более того преступление и наказание предстают здесь как единый нравственный акт, так что и наказание в сущности оказывается самим преступлением, но возведенным в ранг законности.
Однако, как показал Маркс, сам Гегель не провел своего решения вполне последовательно. Главная претензия Маркса к гегелевской «Философии права» такова: целое (в том числе и политическое) содержательно поставлено в зависимость от особенного, но формально и абсолютно — парит над ним; проще говоря, противоположные моральные максимы примирены лишь на бумаге, в некоем представлении о гармонии добра и зла, которая якобы должна сама произвестись антагонистами подобно тому, как механизм спроса и предложения должен автоматически произвести общее благосостояние. В «Критике гегелевской философии права» Маркс указывает:
«Эмпирическая действительность… принимается такой, какова она есть; она объявляется также разумной, но разумной не в силу своего собственного разума, а в силу того, что эмпирическому факту в его эмпирическом существовании приписывается значение, лежащее за пределами его самого.Факт, из которого исходят, берется не как таковой, а как мистический результат».
Поэтому и все конфликты, лежащие в области особенного, Гегель легко разрешает ссылкой на всеобщий источник обеих сторон. Маркс критикует Гегеля за то, что синтез различных сторон нравственности — семьи, гражданского общества, различных сословий — в государственное целое лишь постулируется задним числом, а не вытекает из них самих — и не потому, что Гегель не потрудился конкретно свести их друг с другом, но потому что теоретический синтез невозможен, ведь искомого целого нет в действительности, а создание иллюзии его существования — лишь результат следования одной из сторон нравственности (господствующим классом) своим интересам.
Таким образом, для Маркса решение коллизии обязанностей существует в первую голову как практическая задача целого класса: вслед за Гегелем он повторяет, что невозможен какой бы то ни было универсальный моральный закон, а есть лишь более или менее адекватные, более или менее прозорливые, более или менее последовательные реакции на ту историческую данность, в которой индивид себя всегда уже обнаруживает таким-то и таким-то. Он только добавляет, что эта самая историческая данность является сущностно расколотой, и поэтому “адекватным” и “прозорливым” можно (и исторически необходимо в масштабах всего общества) быть противоположным образом даже в синхроническом срезе. Констатировав это, Маркс удаляется с поля этики на арену политической борьбы, где действуют исключительно коллективные субъекты, и где вместо обязанностей и максим работают интересы и тактика.
Он только добавляет, что эта самая историческая данность является сущностно расколотой, и поэтому “адекватным” и “прозорливым” можно (и исторически необходимо в масштабах всего общества) быть противоположным образом даже в синхроническом срезе. Констатировав это, Маркс удаляется с поля этики на арену политической борьбы, где действуют исключительно коллективные субъекты, и где вместо обязанностей и максим работают интересы и тактика.
Здесь мы подходим к конечной точке нашего исторического экскурса — написанной в 1919 году статье Лукача «Тактика и этика», где собственно и развертывается впервые вышеупомянутое марксистское учение об индивиде. Ее содержание можно свести к следующим тезисам:
1. Никакие моральные максимы не являются политически безразличными: все они так или иначе исходят из интересов определенного класса (который Гегель называл бы стороной или моментом нравственности) и обращены к ним же. «Тактические максимы», т. е. задачи и методы борьбы самих политических единств, следуя вышесказанному, не должны принимать во внимание моральные максимы, исходящие из интересов противостоящего класса — ведь их цели не только противоположны, но и взаимоисключающи. Доводя всякую максиму, всякий «гражданский» или «религиозный» долг индивида до его чистого и конкретно-исторического значения — воспроизводства или преобразования существующих (сущностно неравных, властных) общественных отношений — мы обнаруживаем, что «индивидуальность» этого долга и совершенного в соответствии с ним действия есть лишь конечная инстанция определенной общественной функции, классового интереса, стороны нравственности. Отсюда вытекает, что и для индивида добродетельно все, что соответствует конститутивным для данного морального сознания классовым интересам.
Доводя всякую максиму, всякий «гражданский» или «религиозный» долг индивида до его чистого и конкретно-исторического значения — воспроизводства или преобразования существующих (сущностно неравных, властных) общественных отношений — мы обнаруживаем, что «индивидуальность» этого долга и совершенного в соответствии с ним действия есть лишь конечная инстанция определенной общественной функции, классового интереса, стороны нравственности. Отсюда вытекает, что и для индивида добродетельно все, что соответствует конститутивным для данного морального сознания классовым интересам.
2. Ответственность, которая ложится на индивида, когда он в этой борьбе (неизбежно) занимает одну из сторон — это не ответственность перед мистической Историей или своей совестью; это ответственность за те конкретно-исторические последствия, в пользу которых индивид сделал выбор, вне зависимости от того, лично ли он произвел их, или кто-то из его сторонников — так как в действительности заранее нельзя предугадать, чьи именно действия привели к победе той или иной стороны. Это очень важный момент: он облечен в идеалистическую форму, но, очевидно, совершенно материалистический по существу: последним мерилом морали служит результат реального политического процесса.
Это очень важный момент: он облечен в идеалистическую форму, но, очевидно, совершенно материалистический по существу: последним мерилом морали служит результат реального политического процесса.
3. Всякая докапиталистическая система классовых интересов и моральных максим полагает свои действия безусловно моральными, а противоположные — безусловно порочными, что является (в свете наличия в любой момент как минимум двух таких систем) наилучшим свидетельством раскола общественного сознания; классовое сознание пролетариата — первое в истории, чьи классовые интересы совпадают в конечном счете с тотальностью общества, но
4. это означает, что, с другой стороны, в собственной практике классовой борьбы пролетариат неизбежно приходит к другому противоречию: философско-исторической целью этой борьбы является упразднение борьбы и насилия как таковых.
Первые три пункта, конечно, относятся к азбучным истинам марксизма, четвертый же — расхожее место критики революционного марксизма реформистским (в т. ч. самим Лукачем в более ранней статье «Большевизм как моральная проблема»). Поистине же прорывным как для Лукача, так для марксизма, да и этики в целом, является следующий вывод:
ч. самим Лукачем в более ранней статье «Большевизм как моральная проблема»). Поистине же прорывным как для Лукача, так для марксизма, да и этики в целом, является следующий вывод:
«Никакая этика не может ставить перед собой задачу сгладить либо отвергнуть непреоборимые, трагические конфликты в человеческой судьбе. Напротив: этическое самосознание указывает как раз на то, что существуют ситуации — трагические ситуации, в которых невозможно действовать не навлекая на себя вины; но одновременно оно также учит нас, что нам надлежит выбирать между двумя способами быть виновными, что существует мерило для правильного и ложного действия».
Хотя понятие коллизии обязанностей в данной статье не упоминается, приведенная цитата о «двух способах быть виновным», в сущности, и есть ее марксистское разрешение: разрешение заключается в том, что она вообще не разрешима лишь теоретически. Ибо любая ситуация, ставящая индивида перед мало-мальски значимым выбором, всегда подразумевает за разными вариантами этого выбора как реализацию какой-либо добродетели, так и — в то же самое время — принятие на себя вины перед всеми остальными.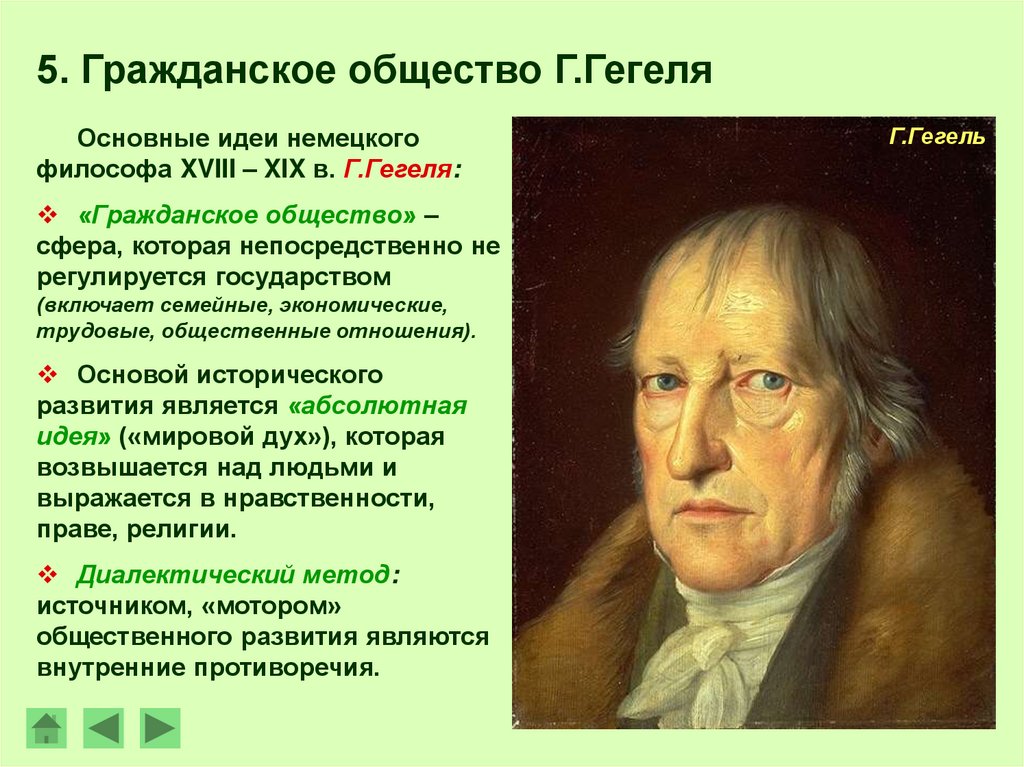 Но эта вина не равна себе во всех случаях — хоть она и не может быть измерена никаким точным прибором, эта вина равняется конкретно-историческим последствиям того или иного действия. Что бы мы ни делали, мы всегда будем добродетельны хоть с какой-нибудь точки зрения, и порочны с противоположной — но и эти точки зрения, и масштаб оцениваемого ими действия, никогда не бывают произвольны и равны. Трагическая необходимость взять на себя вину не извиняет эту вину, но лишь констатирует тот факт, что эта вина взята в пользу разрешения конфликта, породившего моральную коллизию, пусть даже она в своей единичности будет большей, чем более симпатичное и вовсе не трагическое системное игнорирование коллизии. Этический вывод Лукача представляется подлинной кульминацией попыток разрешить коллизию обязанностей, последним выводом из нее как из отрицания этического универсализма. Он является как бы символом веры некой странной этики, в соответствии с которой даже гипотетически невозможны ни полностью правильное действие, ни полностью добродетельный индивид, пока не решен фундаментальный общественный конфликт; она равно далека и от этического пессимизма, и от релятивизма, и от незаинтересованной социологической дескрипции способов поведения: она диалектически оптимистична.
Но эта вина не равна себе во всех случаях — хоть она и не может быть измерена никаким точным прибором, эта вина равняется конкретно-историческим последствиям того или иного действия. Что бы мы ни делали, мы всегда будем добродетельны хоть с какой-нибудь точки зрения, и порочны с противоположной — но и эти точки зрения, и масштаб оцениваемого ими действия, никогда не бывают произвольны и равны. Трагическая необходимость взять на себя вину не извиняет эту вину, но лишь констатирует тот факт, что эта вина взята в пользу разрешения конфликта, породившего моральную коллизию, пусть даже она в своей единичности будет большей, чем более симпатичное и вовсе не трагическое системное игнорирование коллизии. Этический вывод Лукача представляется подлинной кульминацией попыток разрешить коллизию обязанностей, последним выводом из нее как из отрицания этического универсализма. Он является как бы символом веры некой странной этики, в соответствии с которой даже гипотетически невозможны ни полностью правильное действие, ни полностью добродетельный индивид, пока не решен фундаментальный общественный конфликт; она равно далека и от этического пессимизма, и от релятивизма, и от незаинтересованной социологической дескрипции способов поведения: она диалектически оптимистична. Она выстраивает иерархию блага и зла, добродетели и порока, но не как лестницу к святости, но как горную цепь, которую нельзя пересечь, не спускаясь в долину; она черпает свое содержание исключительно из объективных данностей и возможностей, но и моральное состояние субъекта записывает в одну из таковых и обращается к нему с горячим призывом.
Она выстраивает иерархию блага и зла, добродетели и порока, но не как лестницу к святости, но как горную цепь, которую нельзя пересечь, не спускаясь в долину; она черпает свое содержание исключительно из объективных данностей и возможностей, но и моральное состояние субъекта записывает в одну из таковых и обращается к нему с горячим призывом.
Марксизм в своей полемике с категорическим императивом, утверждающим, что насилие — это всегда зло, отвечает — это зло вплетено в саму социальную материю. В ней невозможно движение, которое никому бы не причинило вреда (вспомним парадоксальные эффекты благотворительности или гражданскую войну как результат политической деятельности Ганди). В известном смысле, просто существовать в данных условия — это значит уже производить насилие. Это не значит, что этому миру обязательно нужно противопоставлять такое же количество насилия, или что политически целесообразное насилие перестает быть трагедией; это значит только, что полный отказ от насилия просто закрывает глаза на то, что он лишь молчаливо поддерживает системное воспроизводство насилия, каким мы его имеем в данный момент. Не следует мнить себя ни в чем не виновным, но вина не должна сковывать движение к такой ситуации, где невиновность возможна.
Не следует мнить себя ни в чем не виновным, но вина не должна сковывать движение к такой ситуации, где невиновность возможна.
II. Идеалистическая диалектика Гегеля и преодоление ее Марксом и Энгельсом
Отношение Маркса и Энгельса к идеалистической диалектике Гегеля
Гегелевскую диалектику, как самое всестороннее, богатое содержанием и глубокое учение о развитии, Маркс и Энгельс считали величайшим приобретением классической немецкой философии. Всякую иную формулировку принципа развития эволюции они считали односторонней, бедной содержанием, уродующей и калечащей действительный ход развития (нередко со скачками, катастрофами, революциями) в природе и в обществе.
«Мы с Марксом были едва ли не единственными людьми, поставившими себе задачу спасти» (от разгрома идеализма и гегельянства в том числе) «сознательную диалектику и перевести ее в материалистическое понимание природы». «Природа есть подтверждение диалектики, и как раз новейшее естествознание показывает, что это подтверждение необыкновенно богатое» (писано до открытия радия, электронов, превращения элементов и т. п.!), «накопляющее ежедневно массу материала и доказывающее, что дела обстоят в природе в последнем счете диалектически, а не метафизически».
п.!), «накопляющее ежедневно массу материала и доказывающее, что дела обстоят в природе в последнем счете диалектически, а не метафизически».
«Великая основная мысль, — пишет Энгельс, — что мир состоит не из готовых, законченных предметов, а представляет собой совокупность процессов, в которой предметы, кажущиеся неизменными, равно как и делаемые головой мысленные их снимки, понятия, находятся в беспрерывном изменении, то возникают, то уничтожаются, — эта великая основная мысль со времени Гегеля до такой степени вошла в общее сознание, что едва ли кто-нибудь станет оспаривать ее в ее общем виде. Но одно дело признавать ее на словах, другое дело — применять ее в каждом отдельном случае и в каждой данной области исследования». «Для диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. На всем и во всем видит она печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед нею, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему. Она сама является лишь простым отражением этого процесса в мыслящем мозгу».
Она сама является лишь простым отражением этого процесса в мыслящем мозгу».
Таким образом, диалектика, по Марксу, есть «наука об общих законах движения как внешнего мира, так и человеческого мышления».
Эту революционную сторону философии Гегеля воспринял и развил Маркс. Диалектический материализм «не нуждается ни в какой философии, стоящей над прочими науками».
От прежней философии остается «учение о мышлении и его законах — формальная логика и диалектика».
А диалектика, в понимании Маркса, согласно также Гегелю, включает в себя то, что ныне зовут теорией познания, гносеологией, которая должна рассматривать свой предмет равным образом исторически, изучая и обобщая происхождение и развитие познания, переход от незнания к познанию.
В наше время идея развития, эволюции, вошла почти всецело в общественное сознание, но иными путями, не через философию Гегеля. Однако эта идея в той формулировке, которую дали Маркс и Энгельс, опираясь на Гегеля, гораздо более всесторонняя, гораздо богаче содержанием, чем ходячая идея эволюции. Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе («отрицание отрицания»), развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии; развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное; «перерывы постепенности»; превращение количества в качество; внутренние импульсы к развитию, даваемые противоречием, столкновением различных сил и тенденций, действующих на данное тело или в пределах данного явления или внутри данного общества; взаимозависимость и теснейшая, неразрывная связь всех сторон каждого явления (причем история открывает все новые и новые стороны), связь, дающая единый, закономерный мировой процесс движения, — таковы некоторые черты диалектики, как более содержательного (чем обычное) учения о развитии. (Сравни письмо Маркса к Энгельсу от 8 января 1868 г. с насмешкой над «деревянными трихотомиями» Штейна, которые нелепо смешивать с материалистической диалектикой.) (Ленин, Карл Маркс (1914 г.), Соч., т. XVIII, стр.
Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе («отрицание отрицания»), развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии; развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное; «перерывы постепенности»; превращение количества в качество; внутренние импульсы к развитию, даваемые противоречием, столкновением различных сил и тенденций, действующих на данное тело или в пределах данного явления или внутри данного общества; взаимозависимость и теснейшая, неразрывная связь всех сторон каждого явления (причем история открывает все новые и новые стороны), связь, дающая единый, закономерный мировой процесс движения, — таковы некоторые черты диалектики, как более содержательного (чем обычное) учения о развитии. (Сравни письмо Маркса к Энгельсу от 8 января 1868 г. с насмешкой над «деревянными трихотомиями» Штейна, которые нелепо смешивать с материалистической диалектикой.) (Ленин, Карл Маркс (1914 г.), Соч., т. XVIII, стр. 10 — 12.)
10 — 12.)
Законы диалектики извлечены из истории природы и человеческого общества
(Развить общий характер диалектики, как науки о связях, в противоположность метафизике.)
Таким образом, законы диалектики были отвлечены из истории природы и человеческого общества. Но они не что иное, как наиболее общие законы обеих этих фаз исторического развития, а также самого мышления. По существу они сводятся к следующим трем законам:
Закон перехода количества в качество и обратно.
Закон взаимного проникновения противоположностей.
Закон отрицания отрицания.
Все эти три закона были развиты Гегелем на его идеалистический манер как простые законы мышления: первый — в первой части «Логики» — в учении о бытии; второй занимает всю вторую и наиболее значительную часть его «Логики», учение о сущности, наконец, третий фигурирует в качестве основного закона при построении всей системы. Ошибка заключается в том, что законы эти не выведены из природы и истории, а навязаны последним как законы мышления. Отсюда вытекает вся вымученная и часто ужасная конструкция: мир — хочет ли он того или нет — должен согласоваться с логической системой, которая сама является лишь продуктом определенной ступени развития человеческого мышления. Если мы перевернем это отношение, то все принимает очень простой вид, и диалектические законы, кажущиеся в идеалистической философии крайне таинственными, немедленно становятся простыми и ясными.
Отсюда вытекает вся вымученная и часто ужасная конструкция: мир — хочет ли он того или нет — должен согласоваться с логической системой, которая сама является лишь продуктом определенной ступени развития человеческого мышления. Если мы перевернем это отношение, то все принимает очень простой вид, и диалектические законы, кажущиеся в идеалистической философии крайне таинственными, немедленно становятся простыми и ясными.
Впрочем, тот, кто хоть немного знаком с Гегелем, знает, что Гегель приводит сотни раз из естествознания и истории поразительнейшие примеры в подтверждение диалектических законов.
Мы не собираемся здесь писать руководство по диалектике, а желаем только показать, что диалектические законы являются реальными законами развития природы и, значит, действительны и для теоретического естествознания. (Ф. Энгельс, Диалектика природы, стр. 125, 1932 г.)
Как изучать Гегеля
Без Гегеля, конечно, обойтись невозможно (при изучении марксизма), и притом нужно время, чтобы его переварить. Краткая логика в Энциклопедии — это прекрасное начало. Но вы возьмите шестой том собрания сочинений, а не отдельное издание Розенкранца (1845), так как в первом имеется гораздо больше поясняющих добавлений, хотя для тупоголового Геннинга часто остававшихся непонятными.
Краткая логика в Энциклопедии — это прекрасное начало. Но вы возьмите шестой том собрания сочинений, а не отдельное издание Розенкранца (1845), так как в первом имеется гораздо больше поясняющих добавлений, хотя для тупоголового Геннинга часто остававшихся непонятными.
В введении вы найдите §26 и т. д., прежде всего критику сделанной Вольфом обработки Лейбница (Метафизика в историческом смысле). Затем — англо-французский эмпиризм, § 37 и т. д., затем — Канта § 40 и следующий, наконец, мистицизм Якоби, § 61. В отделе I («Бытие») вы не останавливайтесь чересчур долго на «Бытии» и «Ничто». Последние параграфы, «Качество», затем «Количество» и «Мера», гораздо лучше. Но главная часть — это учение о «сущности» (die Lehre vom Wesen). Раскрытие отвлеченных противоречий во всей их несостоятельности, причем, как только собираешься ухватиться крепко за одну сторону (противоречия), так она незаметно превращается в другую. Вы можете уяснить себе это постоянно на конкретных примерах. Например, яркий образец неразделимости тождества (Identität) и различия (Unterschied) вы, как жених, найдете в себе самом и в вашей невесте.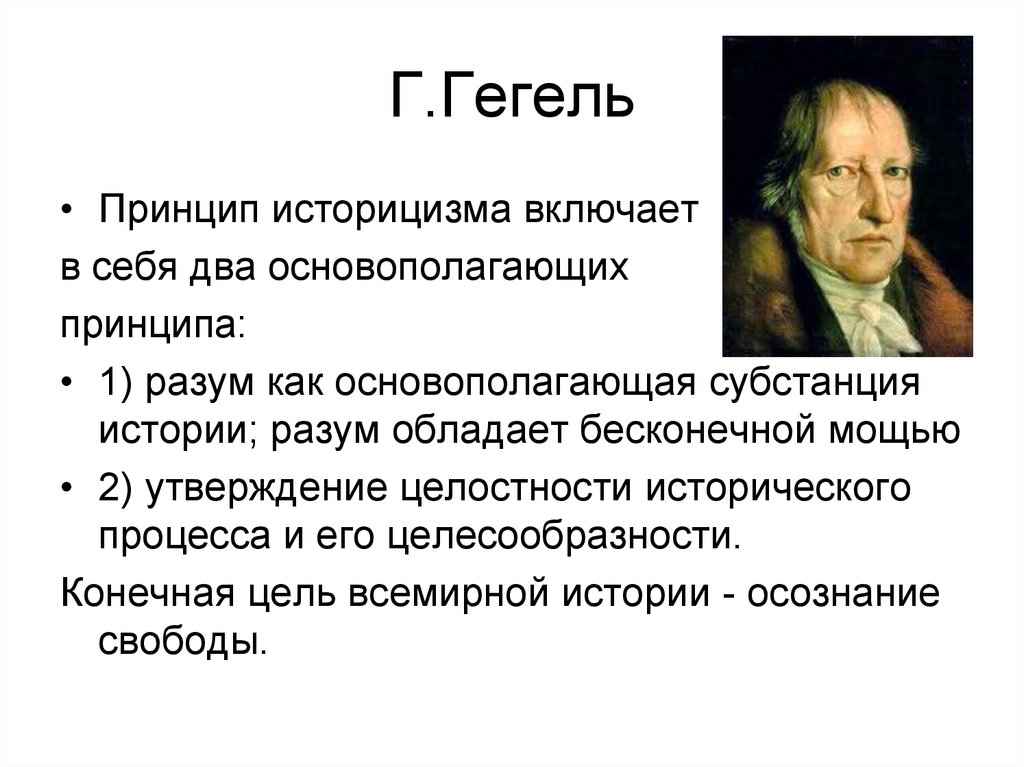 Совершенно невозможно установить, является ли половая любовь радостью от того, что тождество в различии или различие в тождестве? Откиньте здесь различие (в данном случае полов) или тождество (человечность обоих), и что же у вас останется? Я припоминаю, как меня вначале мучила как раз эта неотделимость тождества и различия, хотя мы не можем и шагу ступить, чтобы не наткнуться на это.
Совершенно невозможно установить, является ли половая любовь радостью от того, что тождество в различии или различие в тождестве? Откиньте здесь различие (в данном случае полов) или тождество (человечность обоих), и что же у вас останется? Я припоминаю, как меня вначале мучила как раз эта неотделимость тождества и различия, хотя мы не можем и шагу ступить, чтобы не наткнуться на это.
Но вы не должны читать Гегеля так, как читал его П. Барт, именно для того, чтобы открывать в нем паралогизмы и передержки, которые ему служили рычагами для построений. Это — работа школьника. Гораздо важнее отыскать под неправильной формой и в искусственной связи справедливое и гениальное. Переходы от одной категории к другой или от одного противоречия к следующему почти всегда произвольны. Часто это происходит при помощи остроты, как, например, положительное и отрицательное оба гибнут (дословно — идут ко дну, к основе — zu Grunde gehen), поэтому Гегель может перейти к категории основания (des Grundes). Раздумывать об этом много — это значит просто терять время. Так как каждая категория у Гегеля представляет собой ступень в истории философии (как он по большей части ее приводит) (wie er auch meist solche angiebt), то вы сделаете хорошо, если просмотрите лекции по истории философии (одно из гениальнейших произведений). Для отдыха могу вам рекомендовать эстетику. Если вы несколько таким образом вработаетесь, вы поразитесь.
Раздумывать об этом много — это значит просто терять время. Так как каждая категория у Гегеля представляет собой ступень в истории философии (как он по большей части ее приводит) (wie er auch meist solche angiebt), то вы сделаете хорошо, если просмотрите лекции по истории философии (одно из гениальнейших произведений). Для отдыха могу вам рекомендовать эстетику. Если вы несколько таким образом вработаетесь, вы поразитесь.
Извращение диалектики у Гегеля основано на том, что она должна быть у него «саморазвитием мысли», и потому диалектика вещей — это только ее отблеск. А на самом-то деле ведь диалектика в нашей голове — это только отражение действительного развития, которое совершается в мире природы и человеческого общества и подчиняется диалектическим формам.
Сравните хотя бы развитие у Маркса от товара к капиталу с развитием у Гегеля от бытия к небытию, и у вас будет прекрасная параллель для конкретного развития, как оно происходит из фактов, с одной стороны, и с другой стороны — абстрактная конструкция, в которой в высшей степени гениальные мысли и местами очень важные переходы, как, например, качества в количество и обратно, перерабатываются в кажущееся саморазвитие идеи из одной в другую. Вроде этого можно составить еще дюжину подобных. (К. Маркс и Ф. Энгельс, Письма, стр. 392 — 394, Соцэкгиз, 1931 г., Энгельс Конраду Шмидту, 1 ноября 1891 г.)
Вроде этого можно составить еще дюжину подобных. (К. Маркс и Ф. Энгельс, Письма, стр. 392 — 394, Соцэкгиз, 1931 г., Энгельс Конраду Шмидту, 1 ноября 1891 г.)
Я не могу не упомянуть о вашем замечании по поводу Гегеля, которому вы отказываете в более глубоком математическом, естественнонаучном образовании. Гегель знал математику настолько, что никто из его учеников не оказался в состоянии издать его математические рукописи, оставшиеся после него в большом количестве. Единственный человек, знающий, насколько мне известно, достаточно математику и философию для того, чтобы это сделать, — это Маркс. Я с вами охотно соглашусь в том, что в подробностях натурфилософии встречается бессмыслица, но его настоящая натурфилософия заключается во второй части «Логики», в учении о «сущности», в чем, собственно говоря, и есть ядро всей доктрины. Современная естественнонаучная теория о взаимодействии сил природы (Grove, Correlation of forces, появившаяся, как мне кажется, впервые в 1838 г. ) есть лишь выражение иными словами или, лучше сказать, положительное доказательство правильности мыслей Гегеля относительно причины, действия, взаимодействия, силы и т. д. Я, конечно, теперь больше уже не гегелианец, но чувствую все еще большое почтение и симпатию (Pietät und Anhänglichkeit) к великому старику (an dem alten kolossalen Kerl). (К. Маркс и Ф. Энгельс, Письма, стр. 164 — 165, Соцэкгиз, 1931 г. Энгельс — Ф. А. Ланге, 29 марта 1866 г.)
) есть лишь выражение иными словами или, лучше сказать, положительное доказательство правильности мыслей Гегеля относительно причины, действия, взаимодействия, силы и т. д. Я, конечно, теперь больше уже не гегелианец, но чувствую все еще большое почтение и симпатию (Pietät und Anhänglichkeit) к великому старику (an dem alten kolossalen Kerl). (К. Маркс и Ф. Энгельс, Письма, стр. 164 — 165, Соцэкгиз, 1931 г. Энгельс — Ф. А. Ланге, 29 марта 1866 г.)
У меня порядочные успехи. Например, я разрушил все учение о прибыли, как оно было до сего времени. В методе обработки мне сослужило большую службу то, что я перелистал «Логику» Гегеля, случайно попавшую мне в руки. Фрейлиграт, отыскавший где-то несколько томов Гегеля, принадлежавших Бакунину, прислал мне их в виде подарка. Если когда-нибудь снова придет время для подобных работ, мне очень хотелось бы в объеме 2 — 3 печатных листов сделать доступным общему человеческому рассудку то разумное в методе, что Гегель открыл и вместе с тем затемнил. (К. Маркс и Ф. Энгельс, Письма, стр. 105, Соцэкгиз, 1931 г. Маркс — Энгельсу, 14 января 1858 г.)
(К. Маркс и Ф. Энгельс, Письма, стр. 105, Соцэкгиз, 1931 г. Маркс — Энгельсу, 14 января 1858 г.)
Метод Маркса противоположен методу Гегеля
Странно смущенный тон г. Дюринга в его критике мне теперь понятен. Это — пренесносный нахальный субъект, корчащий из себя революционера в политической экономии. Он совершил два подвига. Во-первых, опубликовал «Критические основы национальной экономии» (около 500 стр.), — в теории исходит из взглядов Кэри, — а затем новую «Естественную диалектику» (направленную против гегелевской). Моя книга поставила над ним крест в обоих отношениях. Из ненависти к Рошеру и др. он стал писать о моей книге. Ложь в его писаниях отчасти умышленная, отчасти результат недомыслия. Он знает очень хорошо, что мой метод исследования не тот, что у Гегеля, ибо я материалист, а Гегель — идеалист. Гегелевская диалектика является основной формой всякой диалектики, но лишь после очищения ее от ее мистической формы, а это-то как раз и отличает от нее мой метод. (К. Маркс и Ф. Энгельс, Письма, стр. 229 — 230, Соцэкгиз, 1931 г. Маркс — Кугельману, 6 марта 1868 г.)
(К. Маркс и Ф. Энгельс, Письма, стр. 229 — 230, Соцэкгиз, 1931 г. Маркс — Кугельману, 6 марта 1868 г.)
* * *
Метод, примененный в «Капитале», был плохо понят, как это доказывается уже различными противоречащими друг другу характеристиками его.
Так, например, парижская «Revue Positiviste» упрекает меня, с одной стороны, в том, что я рассматриваю политическую экономию метафизически, а с другой стороны — отгадайте-ка, в чем? — В том, что я ограничиваюсь критическим расчленением данного, а не сочиняю рецептов (контовских?) для лаборатории будущего. По поводу упрека в метафизике проф. Зибер замечает: «Поскольку дело касается теории в собственном смысле этого слова, метод Маркса есть дедуктивный метод всей английской школы, недостатки и преимущества которого разделяют все лучшие экономисты-теоретики». Г-н М. Блок — Le Théoricien du socialisme en Allemagne. Extrait du «Journal des Economistes, juillet et août 1872» — открывает, что мой метод — аналитический, и говорит между прочим: «Этой работой г. Маркс доказал, что он является одним из самых выдающихся аналитических умов». Немецкие рецензенты кричат, конечно, о гегелианской софистике. Петербургский «Вестник Европы» в статье, посвященой исключительно методу «Капитала» (майский номер за 1872 г., стр. 427 — 436), находит, что метод моего исследования строго реалистичен, а метод изложения к несчастью немецки-диалектичен. Автор пишет: «С виду, если судить по внешней форме изложения, Маркс большой идеалист-философ и притом в «немецком», т. е. дурном, значении этого слова. На самом же деле он бесконечно более реалист, чем все его предшественники в деле экономической критики… Идеалистом его ни в каком случае уже нельзя считать». Я не могу лучше ответить автору, как несколькими выдержками из его же собственной критики; к тому же выдержки эти не лишены интереса для многих из моих читателей, незнакомых с русским языком.
Маркс доказал, что он является одним из самых выдающихся аналитических умов». Немецкие рецензенты кричат, конечно, о гегелианской софистике. Петербургский «Вестник Европы» в статье, посвященой исключительно методу «Капитала» (майский номер за 1872 г., стр. 427 — 436), находит, что метод моего исследования строго реалистичен, а метод изложения к несчастью немецки-диалектичен. Автор пишет: «С виду, если судить по внешней форме изложения, Маркс большой идеалист-философ и притом в «немецком», т. е. дурном, значении этого слова. На самом же деле он бесконечно более реалист, чем все его предшественники в деле экономической критики… Идеалистом его ни в каком случае уже нельзя считать». Я не могу лучше ответить автору, как несколькими выдержками из его же собственной критики; к тому же выдержки эти не лишены интереса для многих из моих читателей, незнакомых с русским языком.
Приведя цитату из моего предисловия к «Zur Kritik der Politischen Oekonomie», Berlin 1859, стр. IV — VII, где я изложил материалистические основы моего метода, автор продолжает:
«Для Маркса важно только одно: найти закон явлений, исследованием которых он занимается. И при этом для него важен не только закон, управляющий ими, пока они имеют известную форму и пока они находятся в том взаимоотношении, которое наблюдается в данное время. Для него, сверх того, еще важен закон их изменяемости, их развития, т. е. перехода от одной формы к другой, одного порядка взаимоотношений к другому. Раз он открыл этот закон, он рассматривает подробнее последствия, в которых закон проявляется в общественной жизни… Сообразно с этим Маркс заботится только об одном: чтобы точным научным исследованием доказать необходимость определенных порядков общественных отношений и чтобы возможно безупречнее констатировать факты, служащие ему исходными пунктами и опорой. Для него вполне достаточно, если он, доказав необходимость современного порядка, доказал и необходимость другого порядка, к которому непременно должен быть сделан переход — все равно, думают ли об этом или не думают, сознают ли это или не сознают. Маркс рассматривает общественное движение как естественно-исторический процесс, которым управляют законы, не только не находящиеся в зависимости от воли, сознания и намерения человека, но и сами еще определяющие его волю, сознание и намерения.
И при этом для него важен не только закон, управляющий ими, пока они имеют известную форму и пока они находятся в том взаимоотношении, которое наблюдается в данное время. Для него, сверх того, еще важен закон их изменяемости, их развития, т. е. перехода от одной формы к другой, одного порядка взаимоотношений к другому. Раз он открыл этот закон, он рассматривает подробнее последствия, в которых закон проявляется в общественной жизни… Сообразно с этим Маркс заботится только об одном: чтобы точным научным исследованием доказать необходимость определенных порядков общественных отношений и чтобы возможно безупречнее констатировать факты, служащие ему исходными пунктами и опорой. Для него вполне достаточно, если он, доказав необходимость современного порядка, доказал и необходимость другого порядка, к которому непременно должен быть сделан переход — все равно, думают ли об этом или не думают, сознают ли это или не сознают. Маркс рассматривает общественное движение как естественно-исторический процесс, которым управляют законы, не только не находящиеся в зависимости от воли, сознания и намерения человека, но и сами еще определяющие его волю, сознание и намерения.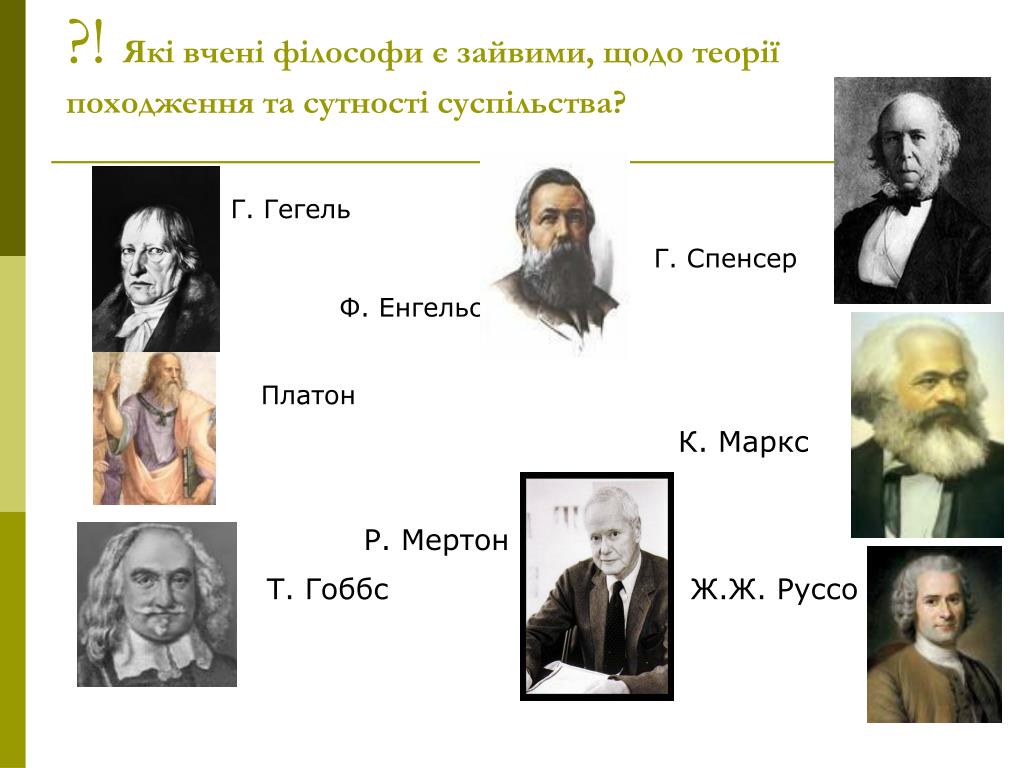 .. Если сознательный элемент в истории культуры играет такую подчиненную роль, то понятно, что критика, имеющая своим предметом самую культуру, всего менее может иметь своим основанием какую-нибудь форму или какой-либо результат сознания, т. е. не идея, а внешнее явление одно только может ей служить исходным пунктом. Критика будет заключаться в сравнении, сопоставлении и сличении факта не с идеей, а с другим фактом. Для нее важно только, чтобы оба факта были возможно точнее исследованы и действительно представляли собою различные степени развития, да, сверх того, важно, чтобы не менее точно были исследованы порядок, последовательность и связь, в которых проявляются эти степени развития… Иному читателю может при этом придти на мысль и такой вопрос… ведь общие законы экономической жизни одни и те же, все равно, применяются ли они к современной или прошлой жизни? Но именно этого Маркс и не признает. Таких общих законов для него не существует. По его мнению, напротив, каждый исторический период имеет свои законы.
.. Если сознательный элемент в истории культуры играет такую подчиненную роль, то понятно, что критика, имеющая своим предметом самую культуру, всего менее может иметь своим основанием какую-нибудь форму или какой-либо результат сознания, т. е. не идея, а внешнее явление одно только может ей служить исходным пунктом. Критика будет заключаться в сравнении, сопоставлении и сличении факта не с идеей, а с другим фактом. Для нее важно только, чтобы оба факта были возможно точнее исследованы и действительно представляли собою различные степени развития, да, сверх того, важно, чтобы не менее точно были исследованы порядок, последовательность и связь, в которых проявляются эти степени развития… Иному читателю может при этом придти на мысль и такой вопрос… ведь общие законы экономической жизни одни и те же, все равно, применяются ли они к современной или прошлой жизни? Но именно этого Маркс и не признает. Таких общих законов для него не существует. По его мнению, напротив, каждый исторический период имеет свои законы. .. но как только жизнь пережила данный период развития, вышла из данной стадии и вступила в другую, она начинает управляться уже другими законами. Словом, экономическая жизнь представляет нам в этом случае явление, совершенно аналогичное тому, что мы наблюдаем в других разрядах биологических явлений… Внимательный анализ внутреннего строя и свойств деятельного состояния явления этой (экономической) жизни неоднократно убеждал многих исследователей, уже с сороковых годов, в невозможности того взгляда старых экономистов на природу экономического закона, по которому последний однороден с законами физики и химии… Более глубокий анализ явлений показал, что социальные организмы отличаются друг от друга не менее глубоко, чем организмы ботанические и зоологические… Одно и то же явление, вследствие различия в строе этих организмов, разнородности их органов, различия условий, среди которых органам приходится функционировать и т. д., может поэтому на разных степенях развития подчиняться совершенно различным законам.
.. но как только жизнь пережила данный период развития, вышла из данной стадии и вступила в другую, она начинает управляться уже другими законами. Словом, экономическая жизнь представляет нам в этом случае явление, совершенно аналогичное тому, что мы наблюдаем в других разрядах биологических явлений… Внимательный анализ внутреннего строя и свойств деятельного состояния явления этой (экономической) жизни неоднократно убеждал многих исследователей, уже с сороковых годов, в невозможности того взгляда старых экономистов на природу экономического закона, по которому последний однороден с законами физики и химии… Более глубокий анализ явлений показал, что социальные организмы отличаются друг от друга не менее глубоко, чем организмы ботанические и зоологические… Одно и то же явление, вследствие различия в строе этих организмов, разнородности их органов, различия условий, среди которых органам приходится функционировать и т. д., может поэтому на разных степенях развития подчиняться совершенно различным законам. Маркс отказывается, например, признавать, что закон увеличения народонаселения один и тот же всегда и повсюду, для всех времен и для всех мест. Он утверждает, напротив, что каждая степень развития имеет свой закон размножения… То, что в экономической жизни происходит, зависит от степени производительности экономических сил… При различиях в производительности и последствия ее будут различны, а с ними и законы, ими управляющие. Задаваясь, таким образом, целью — исследовать и объяснить капиталистический порядок хозяйства, — Маркс только строго научно формулировал цель, которую может иметь точное исследование экономической жизни… Его научная цель заключается в выяснении тех частных законов, которым подчиняются возникновение, существование, развитие, смерть данного социального организма и заменение его другим, высшим. И эту цену действительно имеет книга Маркса».
Маркс отказывается, например, признавать, что закон увеличения народонаселения один и тот же всегда и повсюду, для всех времен и для всех мест. Он утверждает, напротив, что каждая степень развития имеет свой закон размножения… То, что в экономической жизни происходит, зависит от степени производительности экономических сил… При различиях в производительности и последствия ее будут различны, а с ними и законы, ими управляющие. Задаваясь, таким образом, целью — исследовать и объяснить капиталистический порядок хозяйства, — Маркс только строго научно формулировал цель, которую может иметь точное исследование экономической жизни… Его научная цель заключается в выяснении тех частных законов, которым подчиняются возникновение, существование, развитие, смерть данного социального организма и заменение его другим, высшим. И эту цену действительно имеет книга Маркса».
Автор, очертив так удачно то, что он называет моим действительным методом, и отнесшись так благосклонно к моим личным приемам применения этого метода, тем самым очертил диалектический метод.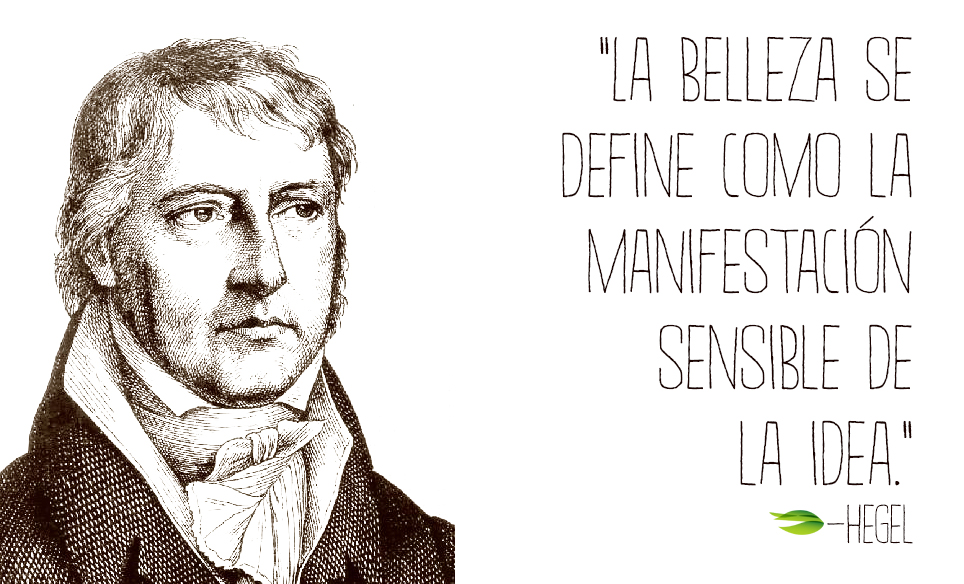
Конечно, способ изложения не может с формальной стороны не отличаться от способа исследования. Исследование должно детально освоиться с материалом, проанализировать различные формы его развития, проследить их внутреннюю связь. Лишь после того, как эта работа закончена, может быть надлежащим образом изложено действительное движение. Раз это удалось и жизнь материала получила свое идеальное отражение, то на первый взгляд может показаться, что перед нами априорная конструкция.
Мой диалектический метод не только в корне отличен от гегелевского, но представляет его прямую противоположность. Для Гегеля процесс мысли, который он под названием идеи превращает даже в самостоятельный субъект, есть демиург (творец) действительности, представляющей лишь его внешнее проявление. Для меня, наоборот, идеальное есть не что иное, как переведенное и переработанное в человеческой голове материальное.
Мистифицирующую сторону гегелевской диалектики я подверг критике почти 30 лет тому назад, в то время когда она была еще в моде. Но как раз в то время, когда я разрабатывал первый том «Капитала», крикливые, претенциозные и ограниченные эпигоны, задающие тон в современной образованной Германии, с особенным удовольствием третировали Гегеля, как некогда, во времена Лессинга, доблестный Моисей Мендельсон третировал Спинозу, а именно — как «мертвую собаку». Я поэтому открыто заявил себя учеником этого великого мыслителя и в главе о теории стоимости даже несколько кокетничал гегелианством, употребляя там и сям характерную для него терминологию. Та мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал исчерпывающую и сознательную картину ее общих форм движения. У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть рациональное зерно под мистической оболочкой.
Но как раз в то время, когда я разрабатывал первый том «Капитала», крикливые, претенциозные и ограниченные эпигоны, задающие тон в современной образованной Германии, с особенным удовольствием третировали Гегеля, как некогда, во времена Лессинга, доблестный Моисей Мендельсон третировал Спинозу, а именно — как «мертвую собаку». Я поэтому открыто заявил себя учеником этого великого мыслителя и в главе о теории стоимости даже несколько кокетничал гегелианством, употребляя там и сям характерную для него терминологию. Та мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал исчерпывающую и сознательную картину ее общих форм движения. У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть рациональное зерно под мистической оболочкой.
В своей мистифицированной форме диалектика стала модной в Германии, так как, по-видимому, давала возможность набросить покрывало на существующее положение вещей. В своей рациональной форме диалектика внушает буржуазии и ее доктринерам-идеологам лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели, каждую осуществленную форму рассматривает в движении, следовательно, также и с ее преходящей стороны, так как она ни перед чем не преклоняется и по самому существу своему критична и революционна.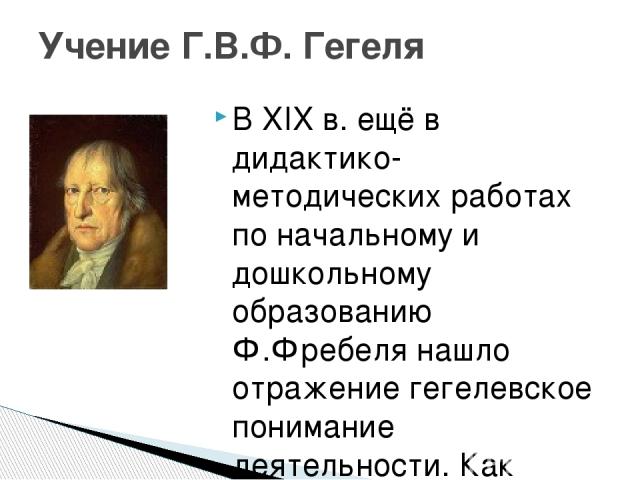 (К. Маркс, Капитал, т. I, стр. XXI — XXIII, Партиздат, 1932 г. Послесловие ко 2-му изд.)
(К. Маркс, Капитал, т. I, стр. XXI — XXIII, Партиздат, 1932 г. Послесловие ко 2-му изд.)
Ленин об отношении к идеалистической диалектике Гегеля
Естественник должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, т. е. должен быть диалектическим материалистом. Чтобы достигнуть этой цели, сотрудники журнала «Под знаменем марксизма» должны организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения, т. е. той диалектики, которую Маркс практически применял и в своем «Капитале» и в своих исторических и политических работах и применял с таким успехом, что теперь каждый день пробуждения новых классов к жизни и к борьбе на Востоке (Япония, Индия, Китай), т. е. тех сотен миллионов человечества, которые составляют бо́льшую часть населения земли и которые своей исторической бездеятельностью и своим историческим сном обусловливали до сих пор застой и гниение во многих передовых государствах Европы, — каждый день пробуждения к жизни новых народов и новых классов все больше и больше подтверждает марксизм.
Конечно, работа такого изучения, такого истолкования и такой пропаганды гегелевской диалектики чрезвычайно трудна, и, несомненно, первые опыты в этом отношении будут связаны с ошибками. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля, истолковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшая история, особенно современная империалистическая война и революция, дают необыкновенно много. Группа редакторов и сотрудников журнала «Под знаменем марксизма» должна быть, на мой взгляд, своего рода «обществом материалистических друзей гегелевской диалектики». Современные естествоиспытатели найдут (если сумеют искать и если мы научимся помогать им) в материалистически истолкованной диалектике Гегеля ряд ответов на те философские вопросы, которые ставятся революцией в естествознании и на которых «сбиваются» в реакцию интеллигентские поклонники буржуазной моды.
Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически ее выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым. Без этого крупные естествоиспытатели так же часто, как до сих пор, будут беспомощны в своих философских выводах и обобщениях. Ибо естествознание прогрессирует так быстро, переживает период такой глубокой революционной ломки во всех областях, что без философских выводов естествознанию не обойтись ни в коем случае. (Ленин, О значении воинствующего материализма (1922 г.), Соч., т. XXVII, стр. 187 — 188, изд. 3-е.)
* * *
Логику Гегеля нельзя применять в данном ее виде; нельзя брать как данное. Из нее надо выбрать логические (гносеологические) оттенки, очистив от мистики идей: это еще большая работа. («Ленинский сборник» XII, стр. 205.)
205.)
Что общего у Гегеля и Маркса?
Георг Вильгельм Фридрих Гегель и Карл Маркс — два выдающихся немецких философа XIX века, которых часто упоминают вместе. Это главным образом потому, что Гегель оказал широко известное влияние на Маркса. Оба философа теоретизировали об основной динамике человеческой истории. Справедливо сказать, что Карл Маркс был своего рода гегельянцем в ранний интеллектуальный период; но также часто говорят, что философия Маркса противоположна философии Гегеля. Диалектика выделяется как ключевая концепция для полного понимания отношений между Гегелем и Марксом.
Большинство людей, изучавших марксизм, наверное, встречали популярную фразу: «Маркс перевернул философию Гегеля с ног на голову». Этот вывод вытекает из довольно поверхностного описания 9 Маркса.0007 материалистическая
Этот вывод вытекает из довольно поверхностного описания 9 Маркса.0007 материалистическая
Несмотря на крайнее упрощение, в этой основной идее есть доля правды. Маркс был последователем Гегеля, по крайней мере, когда он был одним из младогегельянцев. Затем он построил свою мысль через интерпретацию и критику философии Гегеля. Но действительно ли Маркс перевернул философию Гегеля с ног на голову? Почему он воспринимал философию Гегеля как перевернутую? Была ли обоснованной критика Марксом Гегеля? Есть ли гегелевские следы в философии Маркса? Вот некоторые из вопросов, на которые эта статья попытается ответить.
Если Маркс перевернул философию Гегеля с ног на голову, это означает, что он не просто отвергал философию Гегеля. Маркс использовал идеи Гегеля, но обратным методом. В конце концов, конечной целью в теориях обоих философов была человеческая свобода, хотя они считали, что она будет достигнута разными путями. Сходства можно увидеть даже при обзоре очертаний двух философий. Оба философа исследовали модели развития в истории человечества, с помощью которых они пытались понять современное общество. Маркс пошел дальше и создал теорию, основанную на этих закономерностях истории, чтобы выяснить что нужно сделать для прогресса общества. С другой стороны, Гегель считает, что мы не можем рационально стремиться к такому идеалу, как коммунизм Маркса, поскольку исторический прогресс происходит естественно, сам по себе. Используемые ими обратные диалектические методы отражаются в той роли, которую они отводят философии.
В конце концов, конечной целью в теориях обоих философов была человеческая свобода, хотя они считали, что она будет достигнута разными путями. Сходства можно увидеть даже при обзоре очертаний двух философий. Оба философа исследовали модели развития в истории человечества, с помощью которых они пытались понять современное общество. Маркс пошел дальше и создал теорию, основанную на этих закономерностях истории, чтобы выяснить что нужно сделать для прогресса общества. С другой стороны, Гегель считает, что мы не можем рационально стремиться к такому идеалу, как коммунизм Маркса, поскольку исторический прогресс происходит естественно, сам по себе. Используемые ими обратные диалектические методы отражаются в той роли, которую они отводят философии.
Получайте последние статьи на свой почтовый ящик
Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостей
Главной темой, по которой Маркс противостоял Гегелю, является мета-дискуссия о философии.
«Философия — это свое время, постигнутое в мыслях».
(Гегель, 2003, стр. 21)
Это фраза Гегеля, найденная в абзаце из предисловия к Элементам философии права . Перед этим утверждением Гегель утверждает, что люди не могут убежать от своего времени. Это означает, что то, как мы думаем, в конечном счете сформировано нашей историей: мы не можем убежать от нашей эпохи и посмотреть на мир с так называемой объективной точки зрения. Таким образом, философия заперта в своем собственном времени, как и индивидуумы.
Что мы можем сделать, согласно Гегелю, так это изучать историю, чтобы понять основополагающие концепции нашего времени. Однако это не позволит нам предсказывать будущее. Эта идея восходит к гегелевской теории отношений объекта и субъекта, которая станет более ясной в следующих главах.
С другой стороны, роль, которую Маркс отводит философии, находится в прямом противоречии с ролью Гегеля;
«До сих пор философы лишь по-разному интерпретировали мир; дело в том, чтобы изменить его».
(Маркс, 2002)
Знаменитый 11-й тезис Маркса о Фейербахе не следует понимать как простой призыв к действию. Это скорее напоминание философам о том, что социальные проблемы проистекают из материальных условий. Для Маркса философия должна искать пути понимания и изменения этих условий реальной жизни, таких как эксплуатация .
Основная причина, по которой Маркс выступал против пассивной позиции Гегеля, заключается в том, что Маркс считал, что наши идеи формируются материальными обстоятельствами. По Марксу, экономическая база – производственные отношения – преимущественно влияет на надстройку – культуру, науку, идеологию, религию, политику и т.
Понимание диалектики является ключом к пониманию того, почему два мыслителя пошли в разных направлениях, несмотря на то, что использовали очень похожие методы. Что такое диалектика ? В своей классической форме диалектический метод восходит к сократовским диалогам Платона, таким как Euthyphro . Эти тексты включают в себя двусторонние диалоги, обычно между Сократом и оппонентом, которые направлены на уточнение определений или разрешение противоречий.
Гегелевская диалектика, или спекулятивный метод в гегелевской терминологии представляет собой концептуальный/логический процесс, а не диалог между субъектами. Он отличается тем, что следует триадной схеме, разрешающей внутренние противоречия понятия.
Гегель вместо этого использовал схему абстрактно-негативное-конкретное . Потому что схема тезис-антитезис-синтез не помогает нам понять логику диалектического процесса. Формула не объясняет характеристик тезиса и того, как логически должен следовать антитезис; он открыт для произвола. Формула Гегеля, с другой стороны, предполагает, что изначально в любом тезисе есть изъян . В первый момент тезис слишком абстрактен, чтобы пройти через отрицательный опыт проб и ошибок. Только тогда окончательный синтез — конкретное — может завершиться путем схватывания положительных аспектов абстрактного и отрицательного , чтобы образовать единство.
Соответствующий пример можно найти в теории общественного договора, которая также связана с гегелевской философией истории. Проще говоря, теория начинается с естественное состояние ; состояние беззакония, в котором каждый волен поступать так, как он хочет. Затем люди соглашаются сформировать авторитетное правительство, чтобы обезопасить себя от вмешательства. Мы можем добавить к теории общественного договора заключительную стадию, когда люди осознают, что государство стало властью, которая доминирует над ними, и реформируют его. Это формирование современного состояния в упрощенном виде.
Проще говоря, теория начинается с естественное состояние ; состояние беззакония, в котором каждый волен поступать так, как он хочет. Затем люди соглашаются сформировать авторитетное правительство, чтобы обезопасить себя от вмешательства. Мы можем добавить к теории общественного договора заключительную стадию, когда люди осознают, что государство стало властью, которая доминирует над ними, и реформируют его. Это формирование современного состояния в упрощенном виде.
Первый момент, т.е. естественное состояние, — это абстрактная стадия в гегелевском смысле. Он давал позитивную свободу действий, но не имел негативной свободы от вмешательства. Второй момент авторитарного государства — это стадия негативных : оно бросает вызов первому моменту, пытаясь преодолеть свои внутренние противоречия. Но она также неполна, поскольку над людьми господствует государственная власть; они испытывают другой вид несвободы. Последняя стадия, современное состояние, формирует единство предыдущих стадий, достигая хороших аспектов обеих: свободы действий и свободы от вмешательства.
Не отвергая гегелевского широкого понимания диалектики, Маркс считал, что диалектический метод должен иметь дело с материальным миром. Поэтому он утверждал, что у Гегеля диалектика была «… стоящей на голове. Его надо снова перевернуть наизнанку… » (Маркс, 2015) Диалектика Гегеля имела дело с противоречиями в идеях
Марксова диалектика воплощена в материалистическом понимании истории Марксом, которое наиболее просто резюмируется в предисловии к «К критике политической экономии» . Маркс объясняет, как люди оказываются в определенных общественных отношениях, обусловленных экономической структурой их общества. Способ и производственные отношения в этой структуре в конечном счете формируют сознание этого общества. Экономическая структура в конечном итоге меняется в результате революции, вызванной возникающими противоречиями между социальными классами;
Маркс объясняет, как люди оказываются в определенных общественных отношениях, обусловленных экономической структурой их общества. Способ и производственные отношения в этой структуре в конечном счете формируют сознание этого общества. Экономическая структура в конечном итоге меняется в результате революции, вызванной возникающими противоречиями между социальными классами;
«На известном этапе развития материальные производительные силы общества вступают в противоречие с существующими производственными отношениями… Тогда начинается эпоха социальной революции. Изменения в экономическом фундаменте рано или поздно ведут к преобразованию всей огромной надстройки».
(Маркс, 1977)
Мы можем использовать исторические нарративы, чтобы представить теорию Маркса более просто. Диалектика предполагает превращение первобытных обществ в рабовладельческие государства, рабовладельческих государств в феодальные общества и феодальных обществ в капиталистические государства.
В послесловии к « Капитал: Том I » Маркс обсуждает различия между своим диалектическим методом и гегелевским:
«Мой диалектический метод не только отличен от гегелевского, но и является его прямой противоположностью. Для Гегеля жизненный процесс человеческого мозга, т. е.процесс мышления, который он под именем «идеи» даже превращает в самостоятельный субъект, есть демиург реального мира, а реальный мир есть только внешняя, феноменальная форма «Идеи». У меня, напротив, идеальное есть не что иное, как материальный мир, отраженный человеческим умом и переведенный в формы мысли».
(Маркс, 2015 )
В этом абзаце Маркс приписывает Гегелю интересный тип идеализма. Марксово описание гегелевского метода создает впечатление, будто Гегель считал, что материальный мир, который мы переживаем, порождается таинственными нематериальными вещами, называемыми идеями . Это как если бы Гегель придерживался картезианского взгляда на знание, что существует психических и материальных субстанций , принципиально отличных друг от друга. Затем Маркс критикует Гегеля за то, что он считал, что ментальное вещество определяет материальное вещество. Многие ученые обвиняли Маркса в неправильном толковании здесь, поскольку он не дает очень точного описания идеализма Гегеля.
В философии слово субстанция означает просто первый материал, из которого сделано все остальное. В досократовской философии субстанция была вода для Фалеса и огонь для Гераклита. В дуализме Декарта было две субстанции: разум и тело ( субъект и объект ). Однако Гегель не считает субъект и объект отдельными субстанциями. Гегель, исследуя человеческое знание, пришел к выводу, что субъект всегда является частью субстанции объекта при восприятии. Гегель подчеркивает социальный характер познания. Кажущаяся ошибка Маркса состояла в том, что он предположил, что Гегель давал причинное объяснение вселенной и что главная причина была 0007 идеал . Вместо этого теория Гегеля является нормативной: это попытка показать правильную форму рассуждений , и что знание всегда включает социальный процесс.
История и препятствия на пути к свободе человека

Гегель рассматривал историю как умопостигаемый процесс, ведущий к свободе человека. С каждым шагом основные понятия наших обществ, как утверждает Гегель, становятся более рациональными за счет разрешения их противоречий. Вот как мы можем понять исторические скачки, такие как Французская революция , используя нашу современную концепцию свободы .
Гегель считал философию не задачей поиска того, что должно быть , а задачей понимания того, что есть посредством понятий. Поэтому в « элементах философии права» Гегель пытается показать, что мы можем быть свободными, только участвуя в общественной жизни современного государства. Это примерно включает семейную жизнь, моральную ответственность, имущественные отношения, экономику и правовую систему.
Кажется, что препятствия к свободе для Гегеля субъективны . Главный вопрос для него — понять социальную жизнь и нашу роль в ней, а не изменить мир. Это не означает, что Гегель считал новейшее государство своего времени высшей формой государства. Он верил, что современное государство XIX века в усовершенствованной форме может дать свободу. Во всяком случае, Гегель считал, что через диалектику истории мы все равно постепенно создадим условия абсолютной свободы. Поэтому задача личности состоит в том, чтобы понять необходимость современного общественного строя и участвовать в нем.
Это не означает, что Гегель считал новейшее государство своего времени высшей формой государства. Он верил, что современное государство XIX века в усовершенствованной форме может дать свободу. Во всяком случае, Гегель считал, что через диалектику истории мы все равно постепенно создадим условия абсолютной свободы. Поэтому задача личности состоит в том, чтобы понять необходимость современного общественного строя и участвовать в нем.
С другой стороны, Маркс считал препятствия к свободе чисто объективными . По Марксу, материальные условия мира должны были измениться, чтобы сделать возможной свободу. Поскольку социальные, культурные и идеологические концепции общества определялись производственными отношениями, Маркс считал необходимым революционное движение. Вот почему Маркс пошел на шаг дальше Гегеля и приписал своей философии революционную миссию. Для Гегеля мы никак не можем знать следующую стадию нашей истории и придет ли когда-нибудь история к концу. Вместо этого Маркс утверждал, что социализм и коммунизм были бы нашими следующими двумя пунктами назначения, если бы мы подготовили предварительные условия, опираясь на прошлые исторические модели.
Ясно как день, что Гегель сильно повлиял на метод анализа Маркса. Мы можем найти множество примеров из их сочинений, которые соответствуют той же диалектической схеме. В Феноменология духа, Гегель также описывает три стадии диалектики как «… единство, разделенные противоположности, воссоединение. » (Гегель, 2017) Сначала две вещи находятся в единстве примитивным или бессознательным образом. Во второй момент они отделяются друг от друга. На заключительном этапе они снова объединяются, соблюдая различие, проведенное во второй момент.
Эту схему можно увидеть в описании Марксом того, как рабочие различаются по отношению к своему собственному труду в первобытных обществах, капитализме и коммунизме. В другом примере индивидуум в современной теории государства Гегеля переживает те же самые процессы через три сферы этическая жизнь: семья, гражданское общество, и государство.
Однако все же удивительно, насколько философия Маркса потрясла мир, поставив метод Гегеля на материалистические основания. Два философа также различались по своему воздействию на мир, как и по своим методам. Влияние Гегеля, соответствующее его идеализму, осталось в интеллектуальной сфере. С другой стороны, материалистическая философия Маркса сформировала весь ход истории, хотя и неоднозначно.
Логическое влияние Гегеля на Маркса, Ребекка Купер, 1925
Логическое влияние Гегеля на Маркса, Ребекка Купер, 1925Логическое влияние Гегеля на Маркса. Ребекка Купер 1925
Введение
Влияние Гегеля как на содержание, так и на терминологию работ Карла Маркса и Фридриха Энгельса действительно было настолько глубоким, что можно сказать, что глубокое понимание этих работ предполагает понимание этой взаимосвязи. В особенности терминология марксистов становится понятной только при подходе к ней через ее гегелевское происхождение. Тем не менее, изучающим философию, хоть немного знающим Гегеля, очень легко создать при поверхностном чтении Маркса преувеличенное и ложное впечатление, что влияние Гегеля было преобладающим. Оставляя в стороне то, что является оригинальным в теории, разумно иметь в виду, что существует ряд других и негегелевских факторов, способствующих очень большому значению. Хотя целью данного исследования является подробное исследование только гегелевского влияния, некоторое краткое упоминание об этих других видах представляется необходимым для более точной оценки того, которое представляет для нас главный интерес.
Оставляя в стороне то, что является оригинальным в теории, разумно иметь в виду, что существует ряд других и негегелевских факторов, способствующих очень большому значению. Хотя целью данного исследования является подробное исследование только гегелевского влияния, некоторое краткое упоминание об этих других видах представляется необходимым для более точной оценки того, которое представляет для нас главный интерес.
Во-первых, есть ряд исторических событий, которые сильно повлияли как на собственно марксистскую экономическую теорию, так и на более общую теорию исторического материализма. Все эти события носили революционный характер и включают следующие, имеющие особое значение в этой связи: промышленную революцию, французскую революцию, революцию 1848 года и Парижскую коммуну.
Основные интеллектуальные влияния могут быть перечислены следующим образом: (1) социалисты-утописты, включая французов Сен-Симона и Фурье и англичанина Роберта Оуэна; (2) экономисты манчестерской школы Адам Смит и Давид Рикардо вместе с их предшественниками и непосредственными последователями; 3) ту модификацию философии самого Гегеля, которую представляет левое движение младогегельянцев, в связи с чем выделяется имя Фейербаха.
Об исторических влияниях на развитие марксистской теории можно сказать в целом, что период, в котором жили авторы, был особенно благоприятным — для рождения революционной социальной философии. Это было в то время, когда происходили все великие революции раннего Нового времени или произошли достаточно недавно, чтобы произвести сильное впечатление на любое тщательное социальное научное исследование. Последствия великой промышленной революции только что почувствовали и хорошо осознали в континентальной Европе и послужили прекрасным источником для исследований и обобщений Маркса относительно концентрации капитала, вытеснения рабочих машинами и роста «промышленной резервной армии, «растущее (относительное) обнищание пролетариата и порожденный им революционный дух, а также все дело распоряжения излишками товаров, предполагающее безумную охоту за колониальными рынками с неизбежным результатом во всемирных империалистических войнах.
Французская революция, хотя и не такая древняя история, чтобы утратить свой жизненный интерес, была достаточно далекой во времени, чтобы ее можно было точно интерпретировать на основе последующих событий. Маркс был первым, кто разработал теорию (с тех пор ставшую общепризнанной точкой зрения всех признанных историков), согласно которой французская революция была типичной буржуазной революцией, в которой противоборствующими классами были старая привилегированная каста и новая буржуазия, которая раздражалась от ограничений. навязанные бизнесу изношенными институтами монархии. Буржуазия полностью победила, и рабочие, которые боролись за нее, получили очень сомнительную награду, став «свободными» наемными рабами созданного таким образом класса капиталистов. Из этого события Маркс и Энгельс черпали большую часть своей теории социальных революций, а также своей оценки политической демократии буржуазного типа, популяризированной знаменитым лозунгом «Свобода, равенство и братство». В революциях 1848 г. марксисты осознали силу и упорство сопротивления со стороны старого господствующего класса (о чем свидетельствует твердая позиция Меттерниха), а также характер потребностей и революционного выражения пролетариата как проявилось в их участии в этом крайне запутанном, но по существу капиталистическом революционном периоде.
Маркс был первым, кто разработал теорию (с тех пор ставшую общепризнанной точкой зрения всех признанных историков), согласно которой французская революция была типичной буржуазной революцией, в которой противоборствующими классами были старая привилегированная каста и новая буржуазия, которая раздражалась от ограничений. навязанные бизнесу изношенными институтами монархии. Буржуазия полностью победила, и рабочие, которые боролись за нее, получили очень сомнительную награду, став «свободными» наемными рабами созданного таким образом класса капиталистов. Из этого события Маркс и Энгельс черпали большую часть своей теории социальных революций, а также своей оценки политической демократии буржуазного типа, популяризированной знаменитым лозунгом «Свобода, равенство и братство». В революциях 1848 г. марксисты осознали силу и упорство сопротивления со стороны старого господствующего класса (о чем свидетельствует твердая позиция Меттерниха), а также характер потребностей и революционного выражения пролетариата как проявилось в их участии в этом крайне запутанном, но по существу капиталистическом революционном периоде. Из доблестной, но неудавшейся пролетарской революции, известной как Парижская Коммуна, Маркс и Энгельс многое почерпнули из своей теории роли и функции государства как угнетающего органа, принадлежащего правящему классу, и вытекающей из этого позиции революционного пролетариата. к нему.
Из доблестной, но неудавшейся пролетарской революции, известной как Парижская Коммуна, Маркс и Энгельс многое почерпнули из своей теории роли и функции государства как угнетающего органа, принадлежащего правящему классу, и вытекающей из этого позиции революционного пролетариата. к нему.
Маркс не был социалистом, когда он покинул колледж, закончив свою работу для получения степени доктора философии. Его взгляды были скорее мнениями радикальной буржуазии. Однако он заинтересовался социалистическими доктринами, которым его познакомила редакция Rhenische Zeitung . Поэтому он покинул Германию и отправился в Париж с определенной целью, по-видимому, ознакомиться с социалистическими теориями. Затем он изучал социалистов-утопистов, с которыми Энгельс уже был знаком. Вклад этих социалистов-утопистов перечисляется Энгельсом следующим образом:0383 [1] Сен-Симон имел утонченное представление о влиянии экономических условий на исторические события и, вероятно, был первым, кто предложил интерпретировать Французскую революцию как строго классовую войну; он считал также, что политика есть наука о производстве. Фурье внес главным образом очень острую критику капиталистической системы; он указывал на ее противоречивый характер и особо указывал на конфликт, возникающий в результате попытки разрешить эти противоречия, результатом которого является то, что «при цивилизации бедность рождается из избытка». Оуэн решительно намекал на трудовую теорию стоимости и теорию прибавочной стоимости, когда выражал на языке здравого смысла точку зрения о том, что разница между тем, что труд производит, и тем, что он получает, достается богатым для выплаты дивидендов и процентов. Оуэн выдвинул также идею измерения стоимости часами работы. И он очень близко подошел к важному принципу исторического материализма, когда утверждал, что коммунизм может основываться только на фундаменте машинного производства.
Фурье внес главным образом очень острую критику капиталистической системы; он указывал на ее противоречивый характер и особо указывал на конфликт, возникающий в результате попытки разрешить эти противоречия, результатом которого является то, что «при цивилизации бедность рождается из избытка». Оуэн решительно намекал на трудовую теорию стоимости и теорию прибавочной стоимости, когда выражал на языке здравого смысла точку зрения о том, что разница между тем, что труд производит, и тем, что он получает, достается богатым для выплаты дивидендов и процентов. Оуэн выдвинул также идею измерения стоимости часами работы. И он очень близко подошел к важному принципу исторического материализма, когда утверждал, что коммунизм может основываться только на фундаменте машинного производства.
Из английских экономистов следует упомянуть только Адама Смита и Давида Рикардо, двух выдающихся писателей манчестерской школы, в учениях которых воплотились все важные принципы их предшественников (хотя марксисты тщательно исследовали эти первоисточники ). Манчестерские экономисты известны тем, что выдвинули в высшей степени революционную доктрину о том, что наряду с естественными физическими законами существуют естественные экономические законы. Их наиболее важным экономическим законом является закон обмена эквивалентами, из которого вытекают определенные принципы, очень полезные для свободного развития зарождающейся молодой капиталистической системы. Например, идея взаимной выгоды через свободную торговлю заняла место устаревших доктрин меркантилистов. Сторонники принципа laissez faire вообще находили опору для своих взглядов в учении о том, что экономические законы управляют экономической стороной жизни и поэтому нет опасности смешения анархии. Неважно, произошла ли теория социальных законов, содержащаяся в марксистской системе, от манчестерских экономистов или от философии Гегеля — достаточно заметить, что она могла исходить из любого источника и, вероятно, была частично от каждого, хотя несомненно, что от Гегеля были почерпнуты принципы социальных законов, управляющих общественным развитием и изменением во времени.
Манчестерские экономисты известны тем, что выдвинули в высшей степени революционную доктрину о том, что наряду с естественными физическими законами существуют естественные экономические законы. Их наиболее важным экономическим законом является закон обмена эквивалентами, из которого вытекают определенные принципы, очень полезные для свободного развития зарождающейся молодой капиталистической системы. Например, идея взаимной выгоды через свободную торговлю заняла место устаревших доктрин меркантилистов. Сторонники принципа laissez faire вообще находили опору для своих взглядов в учении о том, что экономические законы управляют экономической стороной жизни и поэтому нет опасности смешения анархии. Неважно, произошла ли теория социальных законов, содержащаяся в марксистской системе, от манчестерских экономистов или от философии Гегеля — достаточно заметить, что она могла исходить из любого источника и, вероятно, была частично от каждого, хотя несомненно, что от Гегеля были почерпнуты принципы социальных законов, управляющих общественным развитием и изменением во времени. Однако большим вкладом манчестерской школы в марксистскую экономическую систему была трудовая теория стоимости. Эти ранние экономисты не только объясняли, что только стоимость, эквиваленты могут обмениваться друг на друга, но далее утверждалось, что основанием для этой эквивалентности, или меновой стоимости, является труд, необходимый для производства рассматриваемых товаров. В том, что Маркс обязан Рикардо и Адаму Смиту трудовой теорией стоимости, не может быть никаких сомнений. Он сам признавал это, и характер его творчества позволяет называть его последним великим последователем классической школы, в котором тенденции этого движения были доведены до своего логического завершения, в результате чего они достигли своего апогея. и превратился во что-то новое. И именно через Маркса, а не через Милля, была сохранена и развита трудовая теория стоимости, важнейшая и характерная черта манчестерской экономической теории.
Однако большим вкладом манчестерской школы в марксистскую экономическую систему была трудовая теория стоимости. Эти ранние экономисты не только объясняли, что только стоимость, эквиваленты могут обмениваться друг на друга, но далее утверждалось, что основанием для этой эквивалентности, или меновой стоимости, является труд, необходимый для производства рассматриваемых товаров. В том, что Маркс обязан Рикардо и Адаму Смиту трудовой теорией стоимости, не может быть никаких сомнений. Он сам признавал это, и характер его творчества позволяет называть его последним великим последователем классической школы, в котором тенденции этого движения были доведены до своего логического завершения, в результате чего они достигли своего апогея. и превратился во что-то новое. И именно через Маркса, а не через Милля, была сохранена и развита трудовая теория стоимости, важнейшая и характерная черта манчестерской экономической теории.
Поскольку вся моя задача состоит в попытке обнаружить степень и характер влияния философии Гегеля на марксистские социальные и экономические теории, будет интересно и достаточно на данном этапе отметить некоторые оценки этого влияния. сделанные самими марксистами и наиболее видными авторитетами, как антимарксистскими, так и промарксистскими. Попутно можно отметить, что, хотя мнения этих последних обычно излагаются достаточно авторитетно, в их поддержку приводится мало доказательств или даже аргументов.
сделанные самими марксистами и наиболее видными авторитетами, как антимарксистскими, так и промарксистскими. Попутно можно отметить, что, хотя мнения этих последних обычно излагаются достаточно авторитетно, в их поддержку приводится мало доказательств или даже аргументов.
Самое яркое суждение содержится в предисловии к «Капиталу». Маркс поясняет здесь так: «Мой диалектический метод не только отличен от гегелевского, но и является его прямой противоположностью. Для Гегеля жизненный процесс «человеческого мозга», т. е. процесс мышления, который под именем «идеи» он даже превращает в самостоятельный субъект, есть демиург «реального мира», а реальный мир есть только внешняя, феноменальная форма Идеи». У меня, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальный мир, отраженный человеческим разумом и переведенный в формы мысли.
«Мистифицирующую сторону гегелевской диалектики я критиковал почти тридцать лет назад, когда она еще была в моде. Но как только я работал над первым томом «Капитала», сварливые, высокомерные посредственности, которые сейчас много говорят в культурной Германии, имели большое удовольствие обращаться с Гегелем так же, как смелый Моисей Мендельсон во времена Лессинга относился к Спинозе. то есть как «мертвая собака». Поэтому я открыто признавал себя учеником этого могущественного мыслителя и даже кое-где, в главе о теории стоимости, кокетничал со свойственными ему способами выражения. Та мистификация, которой подвергается диалектика в руках Гегеля, отнюдь не мешает ему быть первым, кто всесторонне и сознательно изложил ее общую форму работы. С ним он стоит на голове. Его нужно снова перевернуть наизнанку, если вы хотите обнаружить рациональное зерно в мистической оболочке». [2]
то есть как «мертвая собака». Поэтому я открыто признавал себя учеником этого могущественного мыслителя и даже кое-где, в главе о теории стоимости, кокетничал со свойственными ему способами выражения. Та мистификация, которой подвергается диалектика в руках Гегеля, отнюдь не мешает ему быть первым, кто всесторонне и сознательно изложил ее общую форму работы. С ним он стоит на голове. Его нужно снова перевернуть наизнанку, если вы хотите обнаружить рациональное зерно в мистической оболочке». [2]
У Энгельса тоже есть очень проницательные взгляды на этот предмет. В «Социализм, утопический и научный [3] » он говорит: «Гегель освободил историю от метафизики — он сделал ее диалектической; но теперь идеализм был изгнан из своего последнего прибежища, из философии истории; теперь предлагается материалистическая трактовка истории и найден метод объяснения человеческого «знания» его «бытием», а не, как прежде, его «бытия» его «знанием». «Поэтому, — говорит он в другом произведении, — диалектика Гегеля была перевернута с ног на голову, или, вернее, поставлена на ноги, а не на голову, где стояла раньше. И была открыта эта материалистическая диалектика, которая с тех пор была нашим лучшим инструментом и нашим самым острым оружием». [4]
И была открыта эта материалистическая диалектика, которая с тех пор была нашим лучшим инструментом и нашим самым острым оружием». [4]
С таким взглядом на дело склонны согласиться все промарксистские ученые. Таким образом, мы находим, что Spargo [5] просто перефразирует эти и подобные утверждения. Лабриола углубляется в предмет, рассматривая отношения с точки зрения гегельянцев (левых) как важнейшее звено диалектического движения общественной мысли. [6]
Селигман [7] , Солтер [8] , Бонар [9] и Пиво [10] — все немарксисты, но они выразили или подразумевали полное согласие с суждением марксистов. Селигман и Бонар, в частности, мало что делают, кроме перефразирования и цитирования Маркса и Энгельса, в то время как Солтер и еще больше Беер предпринимают некоторые попытки оценить вклад Гегеля и сравнить его с другими интеллектуальными и историческими влияниями. Например, Бир делает острое резюмирующее заявление: «Маркс был вынужден интерпретировать эти события» — то есть французскую революцию и английскую промышленную революцию — «таким образом и сделать их основой своей концепции истории главным образом через влияние Гегеля, Рикардо и английской антикапиталистической школы, последовавшей за Рикардо. До конца своей жизни он придерживался мнения, что диалектика, как ее сформулировал Гегель, действительно мистична, но в материалистическом понимании содержит законы «движения общества». [11]
До конца своей жизни он придерживался мнения, что диалектика, как ее сформулировал Гегель, действительно мистична, но в материалистическом понимании содержит законы «движения общества». [11]
Другой, более сомнительный, но более интересный тип марксистской критики состоит в приписывании предполагаемых ошибок в этой системе гегелевскому происхождению. Таким образом, Симхович и Бем-Баверк довольно общим образом приписывают «ошибки» марксистского анализа и общего метода его соотношению с философией Гегеля. Симхович, например, утверждает, что «для Энгельса этот диалектический метод был фетишем», и пытается далее отождествить революционную мысль марксистов с диалектическим движением гегелевской логики, идущим посредством отрицаний и отрицаний отрицания. [12] Бэм-Баверка, несомненно, самого оригинального и способного противника марксизма, вполне можно процитировать более полно, потому что он наилучшим образом представляет этот тип критики: «В этом, я думаю, заключаются Альфа и Омега всего ошибочного, противоречивого и расплывчатого в трактовке своего предмета Марксом. Его система не имеет тесной связи с фактами. Маркс не вывел из фактов основных положений своей системы ни путем здравого эмпиризма, ни путем основательного экономико-психологического анализа, но обосновал ее не более чем на формальной диалектике. В этом коренная ошибка марксистской системы при ее зарождении; из него обязательно вытекает все остальное». [13] Далее он сравнивает и оценивает Гегеля и Маркса одновременно: «Маркс, однако, сохранит постоянное место в истории социальных наук по тем же причинам и с той же смесью положительных и отрицательных достоинств, что и его прототип, Гегель. Оба они были философскими гениями. Оба они, каждый в своей области, оказали огромное влияние на мысли и чувства целых поколений, можно сказать, даже на дух эпохи. Конкретная теоретическая работа каждого из них представляла собой весьма остроумно задуманную структуру, построенную волшебной силой сочетания многочисленных историй мысли, скрепляемых чудесной умственной хваткой, но — карточным домиком».
Его система не имеет тесной связи с фактами. Маркс не вывел из фактов основных положений своей системы ни путем здравого эмпиризма, ни путем основательного экономико-психологического анализа, но обосновал ее не более чем на формальной диалектике. В этом коренная ошибка марксистской системы при ее зарождении; из него обязательно вытекает все остальное». [13] Далее он сравнивает и оценивает Гегеля и Маркса одновременно: «Маркс, однако, сохранит постоянное место в истории социальных наук по тем же причинам и с той же смесью положительных и отрицательных достоинств, что и его прототип, Гегель. Оба они были философскими гениями. Оба они, каждый в своей области, оказали огромное влияние на мысли и чувства целых поколений, можно сказать, даже на дух эпохи. Конкретная теоретическая работа каждого из них представляла собой весьма остроумно задуманную структуру, построенную волшебной силой сочетания многочисленных историй мысли, скрепляемых чудесной умственной хваткой, но — карточным домиком». [14]
[14]
Три других критика, разделяющие эту позицию в целом, но применяющие ее более конкретно к одной конкретной фазе (в настоящее время наиболее важной фазе) марксистской теории, — это Веблен, Скелтон и Бернштейн. Они сходятся в том, что приписывают чисто абстрактной, диалектической основе марксистское предсказание будущего состояния коммунизма. Таким образом, в каждом можно найти одну и ту же идею, по-разному, но всегда остроумно выраженную. Веблен формулирует это следующим образом: «Для Маркса, неогегельянца… цель истории жизни расы в значительной степени определяет ход этой истории жизни во всех ее фазах, включая фазу капитализма. Эта цель или конец, управляющий процессом человеческого развития, есть полное осуществление жизни во всей ее полноте, и осуществление должно быть достигнуто процессом, аналогичным трехступенчатой диалектике тезиса, антитезиса и синтеза в эта схема капиталистической системы с ее переполняющей мерой нищеты и деградации подходит как последняя и самая ужасная фаза антитезиса. Маркс как гегельянец по необходимости оптимист, и зло (противоположный элемент) в жизни является для него логически необходимой фазой диалектики; и является средством к завершению, как антитезис является средством к синтезу». [15]
Маркс как гегельянец по необходимости оптимист, и зло (противоположный элемент) в жизни является для него логически необходимой фазой диалектики; и является средством к завершению, как антитезис является средством к синтезу». [15]
Заявление Бернштейна, великого ревизиониста, о том же самом является прекрасным примером наиболее убедительно выраженного ошибочного аргумента: Маркс «сохранил в принципе гегелевский диалектический метод, о котором он сказал, что для рационального применения его необходимо быть «перевернутым вверх дном», т. е. поставлены на материалистическую основу. Но на самом деле он во многом нарушил это предписание. Строгая материалистическая диалектика не может делать выводов, выходящих за рамки реальных фактов. Диалектический материализм революционен в том смысле, что он не признает конечности, но в остальном он необходимо позитивист в общем смысле этого термина. Но противопоставление Маркса современному обществу было фундаментальным и революционным (. ..) И здесь мы подходим к главному и фатальному противоречию его работы. Он хотел действовать (…) научно. Ничто нельзя было вывести из предвзятых идей; (…) И все же окончательный вывод работы — это заранее задуманная идея; это объявление состояния общества, логически противоположного данному. Незаметно диалектическое движение идей подменяется диалектическим движением фактов». [16]
..) И здесь мы подходим к главному и фатальному противоречию его работы. Он хотел действовать (…) научно. Ничто нельзя было вывести из предвзятых идей; (…) И все же окончательный вывод работы — это заранее задуманная идея; это объявление состояния общества, логически противоположного данному. Незаметно диалектическое движение идей подменяется диалектическим движением фактов». [16]
И, наконец, в качестве прекрасного образца популярной, в высшей степени риторической, но явно бездоказательной критики, которой с самого начала подвергались марксисты, можно привести высказывание Скелтона: «Один луч света пронзает мрак учения о классовой борьбе». . Нынешняя борьба должна быть последней, победивший пролетариат не будет иметь ничего хуже угнетателя и возвестит бесклассовое содружество, где нечестивцы перестанут беспокоить, а борцы будут в покое. Эта эсхатологическая сторона марксистской теории является, по всей вероятности, не столько теологическим эхом, сколько еще одной иллюстрацией гегелевского влияния, поскольку окончательное прекращение классовой борьбы есть дедукция из гегелевского постулата об окончательном примирении диалектического конфликта в достижение абсолютного синтеза. Только телеологический оптимизм гегелевской формулы может объяснить предположение Маркса о том, что столкновение классов приведет не к хаосу и возврату на низшие уровни, как это уже случалось прежде в мировой истории, а к торжеству угнетенных и вечно живущих счастливо. в бесклассовом Эдеме». [17]
Только телеологический оптимизм гегелевской формулы может объяснить предположение Маркса о том, что столкновение классов приведет не к хаосу и возврату на низшие уровни, как это уже случалось прежде в мировой истории, а к торжеству угнетенных и вечно живущих счастливо. в бесклассовом Эдеме». [17]
Однако из всех немарксистских критиков Кроче дает наиболее необычную интерпретацию — интерпретацию, которая проливает свет на слишком забытый момент, а именно на свободу, с которой Маркс и Энгельс применяли диалектические принципы, на которых они якобы основывались. так зависит от их теории. В этой связи стоит процитировать несколько пассажей Кроче: «(…) связь между двумя взглядами» — Гегеля и Маркса — «кажется мне в основном просто психологической. Гегельянство было ранним вдохновением молодого Маркса, и естественно, что каждый должен связывать новые идеи со старыми как развитие, поправку, антитезу. Что же касается до гегелевской диалектики понятий, то мне кажется, что она имеет чисто внешнее и приблизительное сходство с историческим понятием экономических эпох и противоположных состояний общества». [18] Далее в своей книге Кроче говорит: «Кроме того, существует любимая Марксом гегелевская фразеология, традиция которой теперь утеряна и которую он даже внутри этой традиции приспособил со время, кажется, не лишено элемента насмешки». [19]
[18] Далее в своей книге Кроче говорит: «Кроме того, существует любимая Марксом гегелевская фразеология, традиция которой теперь утеряна и которую он даже внутри этой традиции приспособил со время, кажется, не лишено элемента насмешки». [19]
Здесь необходимо очень кратко изложить мой собственный вывод. В целом оно согласуется с суждением Маркса и Энгельса, хотя и с умеренным стремлением согласиться также с мнением Кроче о том, что отношение здесь чисто психологическое, а не принципиально логическое. Мне кажется, что система, как она была представлена ее авторами, действительно родственна Гегелю в том смысле, в каком они ее придерживались, и поэтому допускает довольно подробное сравнение. Впрочем, мне тоже кажется, что основные положения марксизма можно без серьезной переделки; быть полностью оторванным от гегелевской логики, фразеологии и общего метода. Необходимо иметь в виду различие между фактической связью с системой, как она была первоначально представлена, и необходимой связью с системой как состоящей из некоторых основных принципов, которые не зависят от способа высказывания, используемого обученным гегелевцем Марксом и Марксом.
