цитаты из «Философического письма» — сочинения, за которое его объявили душевнобольным.
Петр Чаадаев: цитаты из «Философического письма» — сочинения, за которое его объявили душевнобольным.Публикации раздела Образование
Смотрите также
{«storageBasePath»:»https://www.culture.ru/storage»,»services»:{«api»:{«baseUrl»:»https://www.culture.ru/api»,»headers»:{«Accept-Version»:»1.0.0″,»Content-Type»:»application/json»}}}}
Мы ответили на самые популярные вопросы — проверьте, может быть, ответили и на ваш?
- Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день
- Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»
- Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?
- Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?
- Как предложить событие в «Афишу» портала?
- Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?
Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день
Мы используем на портале файлы cookie, чтобы помнить о ваших посещениях.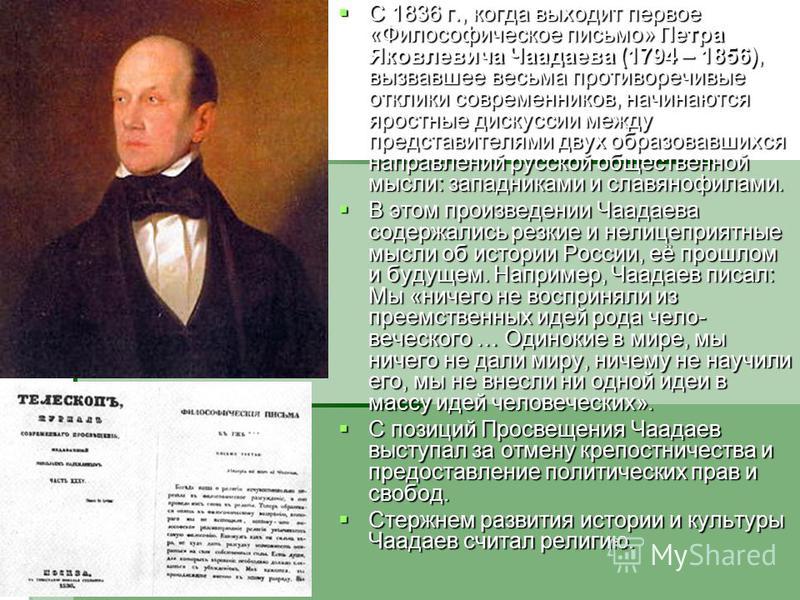 Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».
Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».
Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»
Подпишитесь на нашу рассылку и каждую неделю получайте обзор самых интересных материалов, специальные проекты портала, культурную афишу на выходные, ответы на вопросы о культуре и искусстве и многое другое. Пуш-уведомления оперативно оповестят о новых публикациях на портале, чтобы вы могли прочитать их первыми.
Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?
Если вы планируете провести прямую трансляцию экскурсии, лекции или мастер-класса, заполните заявку по нашим рекомендациям. Мы включим ваше мероприятие в афишу раздела «Культурный стриминг», оповестим подписчиков и аудиторию в социальных сетях. Для того чтобы организовать качественную трансляцию, ознакомьтесь с нашими методическими рекомендациями.
Электронная почта проекта: [email protected]
Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?
Вы можете добавить учреждение на портал с помощью системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши места и мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После проверки модератором информация об учреждении появится на портале «Культура.РФ».
Как предложить событие в «Афишу» портала?
В разделе «Афиша» новые события автоматически выгружаются из системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После подтверждения модераторами анонс события появится в разделе «Афиша» на портале «Культура.РФ».
Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?
Если вы нашли ошибку в публикации, выделите ее и воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Enter. Также сообщить о неточности можно с помощью формы обратной связи в нижней части каждой страницы. Мы разберемся в ситуации, все исправим и ответим вам письмом.
Также сообщить о неточности можно с помощью формы обратной связи в нижней части каждой страницы. Мы разберемся в ситуации, все исправим и ответим вам письмом.
Если вопросы остались — напишите нам.
Пожалуйста подтвердите, что вы не робот
Войти через
или
для сотрудников учреждений культуры
Системное сообщение
Ошибка загрузки страницы. Повторите попытку позже, либо воспользуйтесь другим браузером.
Спасибо за понимание!
Мы используем сookie
Во время посещения сайта «Культура.РФ» вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее.Первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева как документ эпохи Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение»
определяется просто, как просто все истинно гениальное. На философском уровне гениальность этой простоты сформулировал С. Л. Франк в статье «Достоевский и кризис гуманизма»: «Достоинство человека, его право на благополучие, его право на уважение основаны не на каком-либо моральном или интеллектуальном совершенстве, не на том, что он «разумен», «добр» или обладает «прекрасной душой», а просто на глубине онтологической значительности всякой человеческой личности. Человек богоподобен тем, что загадочные корни его существа, наподобие самого Бога, обладают сверхрациональной творческой силой, бесконечностью» [12]. Философ уверен, что именно Ф. М. Достоевскому впервые удался настоящий подлинный гуманизм, поскольку он есть христианский гуманизм, видящий во всяком, даже падшем человеке, человека как образ Бога. А все другие формы гуманизма сначала приукрашивают человека, прежде, чем сделать предметом поклонения. Такой гуманизм терпит крах при встрече с реальностью. С. Л. Франк предупреждает, что жестокая современность порождает презрение к человеку и что-то изменить может только гуманизм, гуманизм, существующий в форме, которую обрел в творчестве Ф. М. Достоевского.
Человек богоподобен тем, что загадочные корни его существа, наподобие самого Бога, обладают сверхрациональной творческой силой, бесконечностью» [12]. Философ уверен, что именно Ф. М. Достоевскому впервые удался настоящий подлинный гуманизм, поскольку он есть христианский гуманизм, видящий во всяком, даже падшем человеке, человека как образ Бога. А все другие формы гуманизма сначала приукрашивают человека, прежде, чем сделать предметом поклонения. Такой гуманизм терпит крах при встрече с реальностью. С. Л. Франк предупреждает, что жестокая современность порождает презрение к человеку и что-то изменить может только гуманизм, гуманизм, существующий в форме, которую обрел в творчестве Ф. М. Достоевского.Почти все крупнейшие русские философы считали своим долгом писать о Ф. М. Достоевском. Именно философам более чем профессиональным литературным критикам, обязаны мы лучшими книгами о величайшем художественном гении. Мало того, Ф. М. Достоевский был, по существу, впервые по достоинству понят и оценен именно
философами — создателями русского религиозно-философского Ренессанса, т. е. тем поколением, которое было пронизано влиянием Ф. М. Достоевского и в котором после позитивистской духовной летаргии проснулась жажда духовного творчества.
е. тем поколением, которое было пронизано влиянием Ф. М. Достоевского и в котором после позитивистской духовной летаргии проснулась жажда духовного творчества.
Хочется надеяться, что и в наше непростое время постмодернистская духовная летаргия породит жажду духовного творчества и гуманизм станет основным принципом отношений между людьми.
Литература
1. Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 301.
2. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л., 1972-1980. Т. 5. С. 78.
3. Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 21, С. 169.
4. Шестов Л. И. Достоевский и Ницше. Философия трагедии // Избранные сочинения. М., 1993. С. 177.
5.
6. Франк С. Л. Достоевский и кризис гуманизма // Из истории русской философской мысли. М., 1965. С. 15.
7. Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 188.
8. Там же. С. 155.
9. Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 4. С. 274.
10. Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 154.
11. Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 24. С. 84.
12. Франк С. Л. Достоевский и кризис гуманизма … С. 29.
E. A. NAYDENKO. SPIRITUAL EXPERIENCE OF RUSSIAN PHILOSOPHERS IN THE CONTEXT OF FYODOR DOSTOYEVSKY’S CREATIVE WORK
Analyzing contemporary processes of dehumanization postmodern society, the author compares them with the experience of Russian philosophical thought in the late XIX — early XX century through the prism of Fyodor Dos-toyevsky’s creative work.
Key words: ethics of humanity, Fyodor Dostoyevsky’s creative work, Russian philosophy of the late XIX — early XX century.
В. Б. ХРАМОВ
ПЕРВОЕ «ФИЛОСОФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО» П. Я. ЧААДАЕВА
КАК ДОКУМЕНТ ЭПОХИ
В статье исследуется проблема социокультурных последствий публикации важнейшего документа русской культуры XIX века: возникновение партийной борьбы, создание идеологии славянофилов и западников. Ключевые слова: П. Я. Чаадаев, «философические письма», документ, западники и славянофилы.
Первое «философическое письмо» П. Я. Чаадаева (1794-1856) является одним из самых главных документов той культурной эпохи, которая наступила в России в «сороковые — роковые» годы XIX столетия и которую связывают с образованием двух партий — славянофилов и западников.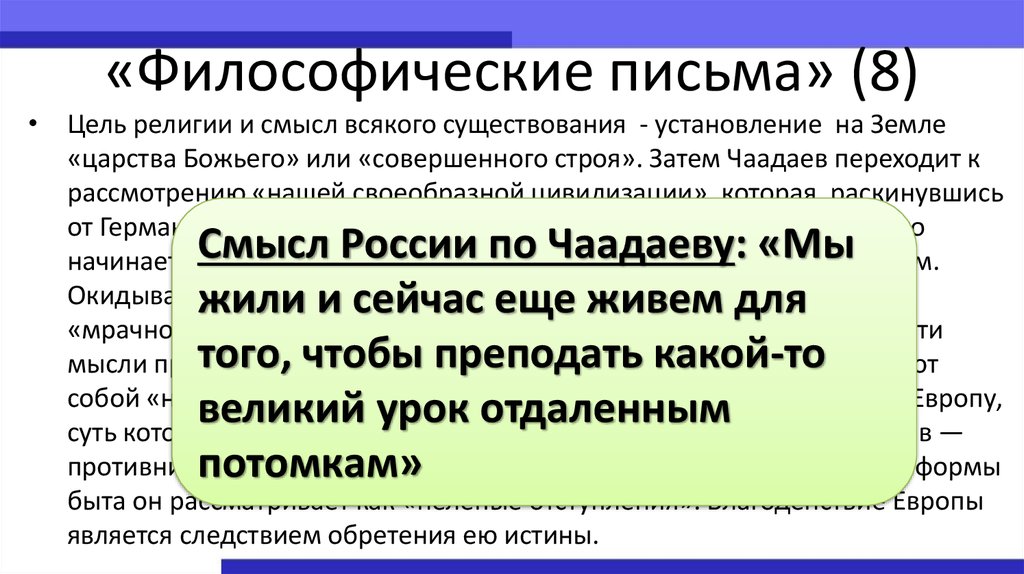 Именно
Именно
«письмо» стало вызовом для славянофилов, позволило славянофильской партии идейно определиться, организоваться — соответствующим ответом стала и организация русских западников. Первое «философическое письмо» было опубликовано в 1836 году, вызвало общественное возмущение и
№ 2 (53), 2014
«Культура и общество. Философия. Социология.»
реакцию правительства, которую многие и по сей день считают несправедливой и чрезмерной: цензора уволили, редактора сослали, а Чаадаева признали сумасшедшим (правда, ненадолго, на несколько месяцев, до времени, пока скандал утихнет), но запретили ему впредь печатать свои труды.
Содержание письма известно. Автор, с философских высот обозревая историю своей Родины, говорит горькую правду о ней: ничего в культуру общечеловеческую мы не внесли, ничего существенного не сказали, и нет у нас ни прошлого, ни будущего, а настоящее мутно и причина всему этому основная в том, что православие в свое время приняли, от западного мира откололись сами, от прогресса, осуществляемого там, и в этом смысле Россия суть ничто, и в крови у нас.
Как может показаться некоторым, именно содержание письма явилось единственной причиною общественного возмущения, жесткой реакции правительства, трагического партийного разделения русской культуры, приведшей ее к тому болезненному состоянию партийной раздвоенности, которое не изжито в полной мере и по сей день. Но вглядимся пристальнее в ход событий. После отставки, последовавшей в 1821 году, прервав столь блестящую карьеру (его прочили в адъютанты Александра I), Чаадаев самым серьезным образом занялся разработкой своей оригинальной философской концепции. Именно ради нее он службу оставил. Постепенно, к концу двадцатых годов его учение сложилось в общих чертах, и он, уединившись, сформулировал его в форме восьми философических писем [2], которые нам сегодня известны. Книга была закончена в 1831 году, но мыслитель продолжил работу, развивая концепцию.
С содержанием чаадаевской концепции образованные люди того времени (их не так много было) познакомились задолго до опубликования письма. Автор не скрывал своих мыслей. Он читал текст в обществе, обсуждал, полемизировал, даже — с известными оговорками — популяризировал свои идеи в течение десятилетия. Но, ни политической, ни серьезной общественной реакции (возмущения, например) не было — восхищались, обсуждали, возражали, чаще соглашались и не более того. Строгое николаевское правительство не вмешивалось, хотя, что документально подтверждено, знало о содержании писем, о тех разговорах-проповедях, которые вел философ в узком кругу своих друзей и почитателей. Об этом, в частности, свидетельствует следующий факт. Когда в 1833 году Чаадаев, желая вернуться на службу, стал искать место, ему предложили должность по ведомству министерства финансов. Он отказался, надеясь на службу по линии министерства просвещения. Но, зная (конечно, в общих чертах) о каком «просвещении» идет речь, царь Николай I предложил ему должность по ведомству юстиции. Чаадаев опять отказался (смелый
Автор не скрывал своих мыслей. Он читал текст в обществе, обсуждал, полемизировал, даже — с известными оговорками — популяризировал свои идеи в течение десятилетия. Но, ни политической, ни серьезной общественной реакции (возмущения, например) не было — восхищались, обсуждали, возражали, чаще соглашались и не более того. Строгое николаевское правительство не вмешивалось, хотя, что документально подтверждено, знало о содержании писем, о тех разговорах-проповедях, которые вел философ в узком кругу своих друзей и почитателей. Об этом, в частности, свидетельствует следующий факт. Когда в 1833 году Чаадаев, желая вернуться на службу, стал искать место, ему предложили должность по ведомству министерства финансов. Он отказался, надеясь на службу по линии министерства просвещения. Но, зная (конечно, в общих чертах) о каком «просвещении» идет речь, царь Николай I предложил ему должность по ведомству юстиции. Чаадаев опять отказался (смелый
поступок человека знающего себе цену!) и стал искать другие способы участия в деле просвещения России. Таким образом, у нас есть основание предполагать, что не столько содержание самого документа, которое было известно многим, а факт его публикации вызвал упомянутые выше социокультурные последствия.
Таким образом, у нас есть основание предполагать, что не столько содержание самого документа, которое было известно многим, а факт его публикации вызвал упомянутые выше социокультурные последствия.
Высший слой русской культуры тех лет был организован по типу французских салонов века Просвещения (правда, еще в Москве «Английский клуб» был — для игры в карты и бесед на разные , в том числе и философские темы). Именно здесь свободно обсуждались самые смелые общественные вопросы. Хозяйка салона была его душою, организатором «умных бесед». Подчиняясь общественным требованиям данного культурного слоя, П. Я. Чаадаев посвятил свой труд «даме», чем крайне заинтересовал публику, и в традициях времени письма свои «философические» на французском языке записал, т.е. для избранных, для узкого круга, для понимающих философию и знающих французский язык на уровне, позволяющем разобраться в сложнейших мировоззренческих вопросах. Так поступали в Европе со времен Возрождения, еще Леонардо свои проекты смелые даже от учеников скрывал, шифруя, но избранным все-таки открывал их содержание. То же Томас Мор, канцлер английский. Он свою «Уто -пию» на латыни записал, избранным, т.е., адресуя, — как предмет для размышления, а не призыв к деятельности революционной. Ведь избранные — культурные и образованные — «все поймут», для них можно и преувеличить и заострить — они разберутся, ибо читали уже много подобного, да и сами к мыслям критическим приходили, особенно, нужно признать, в России, где «всякий свою страну клянет», патриотом себя считая.
То же Томас Мор, канцлер английский. Он свою «Уто -пию» на латыни записал, избранным, т.е., адресуя, — как предмет для размышления, а не призыв к деятельности революционной. Ведь избранные — культурные и образованные — «все поймут», для них можно и преувеличить и заострить — они разберутся, ибо читали уже много подобного, да и сами к мыслям критическим приходили, особенно, нужно признать, в России, где «всякий свою страну клянет», патриотом себя считая.
Хотя конечно, и среди образованных разные люди встречаются. Не каждый, подобно девушке влюбленной, слушал проповеди философские П.Я. Чаадаева с восхищением. Некоторые не принимали и отвечали в духе классических традиций. В Петербурге обнаружился «свой Аристофан» -сочинитель Загоскин, комедию «Недовольные» в 1835 году создавший, в которой Чаадаева высмеял, узнаваемо было. Пьесу поставили, но признали неудачной, неумной. Чаадаев еще раз убедился в правоте своей критики актуальной культуры России и своеобразно откликнулся: «Глуповатое, благодушное, блаженное самодовольство, вот наиболее выдающаяся черта эпохи у нас.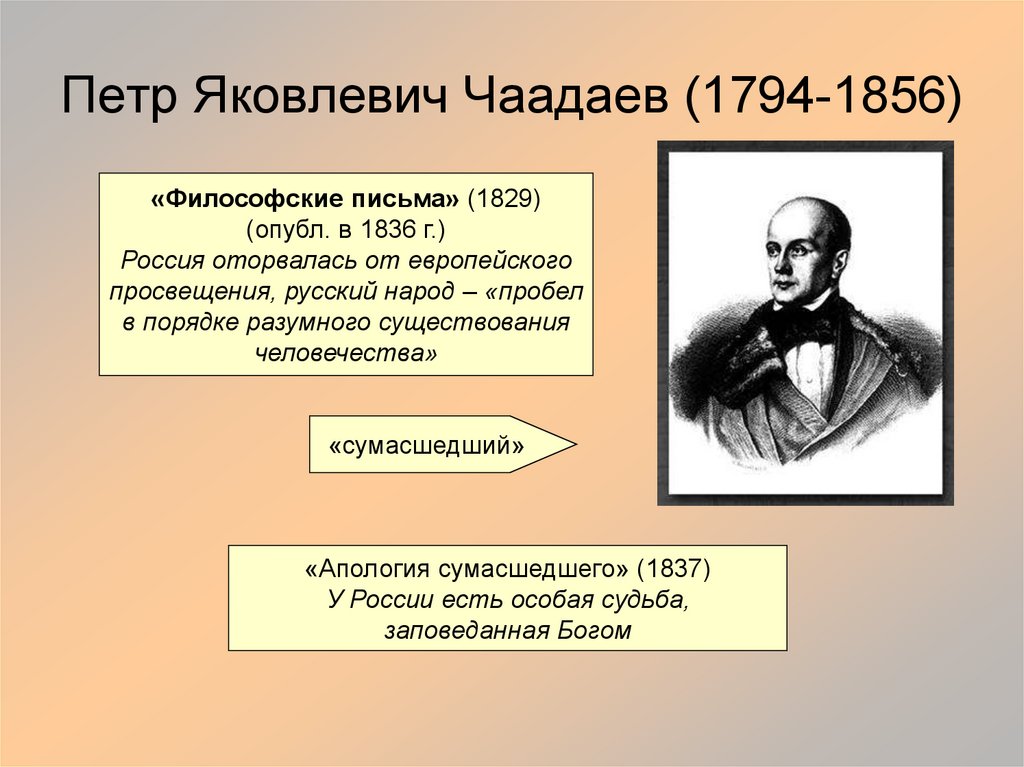 ». Денис Давыдов — поэт и партизан легендарный, тоже сатирою на Чаадаева отозвался в «Современной песне», но ироническое отношение свое он выразил, не к учению, а, скорее, к обстановке, в которой Чаадаев проповедовал: «Старых барынь духовник, / Маленький аббатик, / Что в гостиных бить привык / В маленький набатик…». Имя Чаадаева Давыдов не называет, ясно, что писал для узкого круга, для своих; они догадаются, узнают и оценят. В связи с
». Денис Давыдов — поэт и партизан легендарный, тоже сатирою на Чаадаева отозвался в «Современной песне», но ироническое отношение свое он выразил, не к учению, а, скорее, к обстановке, в которой Чаадаев проповедовал: «Старых барынь духовник, / Маленький аббатик, / Что в гостиных бить привык / В маленький набатик…». Имя Чаадаева Давыдов не называет, ясно, что писал для узкого круга, для своих; они догадаются, узнают и оценят. В связи с
постановкой пьесы и публикацией стихов никакой серьезной общественной реакции не произошло, никто не возмутился. Но вот перевел свои «философические письма» Чаадаева на русский язык, напечатал в альманахе «Телескоп» «первое», и содержание документа стало общедоступным (относительно, конечно), что и взорвало культуру. «Письмо» стало «прокламацией», утратив сразу глубину философской мысли, которая, правда, в нем лишь приоткрывалась. Так началась трагедия гонимого, «непонятого мыслителя» Чаадаева и трагедия раздвоенной русской культуры.
Но проблема имеет еще один — и весьма существенный аспект. Первое «философическое письмо» является лишь введением к серьезному философскому труду, содержание которого раскрывается в последующих письмах, а дальше П.Я. Чаадаев обсуждает вопросы не столько актуальные, сколько теоретические — онтологические, теологические, гносеологические, этические, ну и, конечно, собственно историософские. И в этом смысле первое письмо играет роль вопроса, ответ на который (глубокий и теоретически обоснованный) дается в последующих «письмах», точнее даже — в последующих работах Чаадаева, где его философия оригинальная, как мы сегодня это понимаем, развернута, и ответ этот позитивен, оптимистичен для культуры России.
Правда, в первом «письме», как правильно некоторые скажут, уже сформулирован и ответ на вопрос «почему мы вне истории человеческой?». Но ответ этот, по логике драматургической, в «письмах» осуществленной, то же «в орбиту вопроса входит», как-то первое, что в голову отчаявшуюся, ответа ищущую прийти может. Этот прием — первичного отчаяния, а затем философического «осмысленного утешения», применялся в европейской культуре неоднократно. Поэтому просвещенная публика на первичный ответ-критику не слишком и реагировала, зная, что это автор «завлекает», понимая, что, если ответ найден и озвучен, то зачем еще семь писем других писать. Публика ожидала другого — углубленного позитивного ответа, но. не дождалась в том виде, в котором мы его сегодня получили, ибо по причине публикации «письма» события стали развиваться по совсем иному сценарию: Чаадаев стал «запрещенным мыслителем», а его работы в полном объеме были напечатаны лишь в 1987 году, т.е. через 150 лет после публикации первого «философического письма». Ответ этот, если коротко формулировать, будет таковым.
Этот прием — первичного отчаяния, а затем философического «осмысленного утешения», применялся в европейской культуре неоднократно. Поэтому просвещенная публика на первичный ответ-критику не слишком и реагировала, зная, что это автор «завлекает», понимая, что, если ответ найден и озвучен, то зачем еще семь писем других писать. Публика ожидала другого — углубленного позитивного ответа, но. не дождалась в том виде, в котором мы его сегодня получили, ибо по причине публикации «письма» события стали развиваться по совсем иному сценарию: Чаадаев стал «запрещенным мыслителем», а его работы в полном объеме были напечатаны лишь в 1987 году, т.е. через 150 лет после публикации первого «философического письма». Ответ этот, если коротко формулировать, будет таковым.
Основное свойство русской культуры — внев-ременность. В «первом философическом письме» применительно к реальному бытию России это понятие связывается Чаадаевым с суммою негативных характеристик, что позволяет говорить о русских как о народе неисторическом.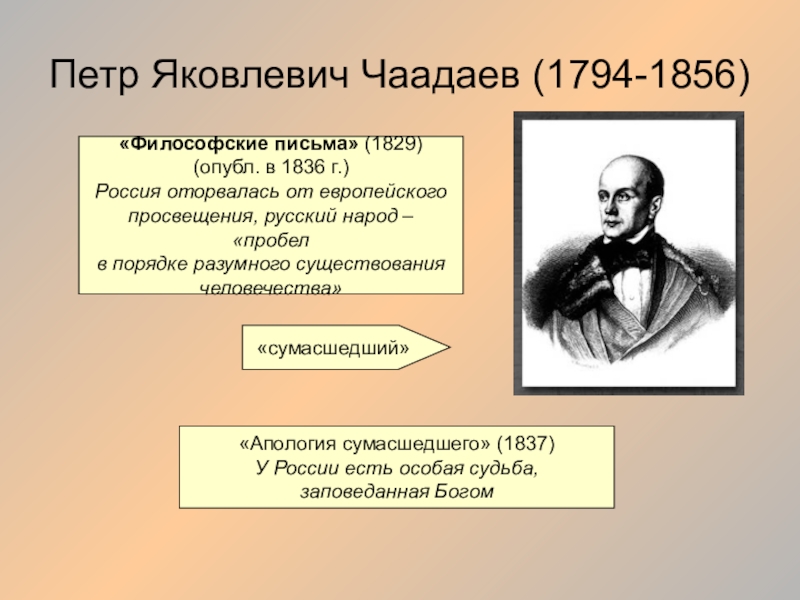 Но вневре-менность является свойством Бога, следовательно, положительное содержание. Значит, и неучастие России в истории может иметь провиденциальный смысл. В определенный кризисный для Европы момент Россия способна включиться в исторический прогресс, выполнив провиденциальную миссию по установлению «Царства Божьего на земле». Но этого может и не случиться, если она будет искать путь развития вне прогресса, осуществляемого народами Западной Европы [3].
Но вневре-менность является свойством Бога, следовательно, положительное содержание. Значит, и неучастие России в истории может иметь провиденциальный смысл. В определенный кризисный для Европы момент Россия способна включиться в исторический прогресс, выполнив провиденциальную миссию по установлению «Царства Божьего на земле». Но этого может и не случиться, если она будет искать путь развития вне прогресса, осуществляемого народами Западной Европы [3].
Таким образом, обсуждая социальную значимость творчества Чаадаева, нельзя недооценивать сам факт публикации первого «философического письма». Публикация вызвала общественный протест, который спровоцировал жесткую реакцию правительства. Пока Чаадаев проповедовал в салонах — все было спокойно, мысль слушателей была направлена на понимание, на творчество. Когда же текст опубликовали, он приобрел самостоятельную значимость, оторвался от автора, стал предметом различный интерпретаций, дополнительно простимулировал творчество, мысль и «отвагу» писателей, ибо стали писать «за спиной Чаадаева», по поводу и против, что и проще и безопаснее.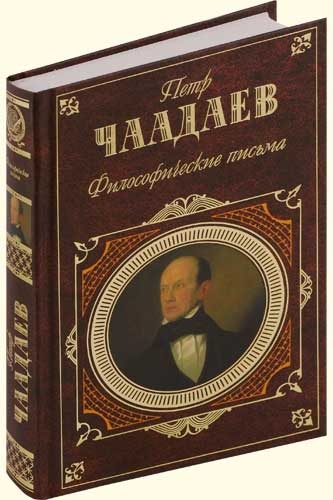 Партии возникли. Партийная борьба велась вроде бы за правду, вроде все бы за Россию, а на самом деле чаще против друг друга, лишь жизнь оживляя полемикой, публику развлекая. Увлекло и отвлекло, но на поверхности осталось пеною, революционным действием. Правда, в глубине все же серьезное содержание созревало, которое, хочется сказать, «создавалось не благодаря провокационной публикации «письма», а вопреки», но это преувеличением недопустимым будет, поэтому скажу — «и благодаря и вопреки».
Партии возникли. Партийная борьба велась вроде бы за правду, вроде все бы за Россию, а на самом деле чаще против друг друга, лишь жизнь оживляя полемикой, публику развлекая. Увлекло и отвлекло, но на поверхности осталось пеною, революционным действием. Правда, в глубине все же серьезное содержание созревало, которое, хочется сказать, «создавалось не благодаря провокационной публикации «письма», а вопреки», но это преувеличением недопустимым будет, поэтому скажу — «и благодаря и вопреки».
Литература
1. Подробнее см.: Чаадаев П. Я. Философические письма // Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 15-34.
2. Там же. С. 15-138.
3. Подробнее см.: Храмов В. Б. Философия истории и культуры П. Я. Чаадаева и старших славянофилов. Краснодар, 2002. С. 17-39.
V. B. KHRAMOV. THE FIRST «PHILOSOPHICAL LETTER» P. Y. CHAADAEV AS A DOCUMENT OF THE ERA
B. KHRAMOV. THE FIRST «PHILOSOPHICAL LETTER» P. Y. CHAADAEV AS A DOCUMENT OF THE ERA
The article reveals the problem of social and cultural consequences of publiction, an important instrument of Russian culture of the XIX century: the emergence of party struggle, creation of Slavophiles’ and Westerners’ ideology.
Key words: P. Chaadaev, «Philosophical Letters», document, Westerners and Slavophiles.
«В сущности, правительство только исполнило свой долг» – Weekend – Коммерсантъ
22 октября 1836 года император Николай I написал свою знаменитую резолюцию о публикации первого «Философического письма» Петра Чаадаева. Русский перевод статьи, ходившей в списках уже несколько лет, был напечатан в журнале «Телескоп», за что журнал был закрыт, издатель Николай Надеждин сослан в Усть-Сысольск, а пропустивший статью цензор Алексей Болдырев отправлен в отставку. Самого Чаадаева объявили сумасшедшим и поместили под принудительный медицинский надзор. Таким образом, публикация философического письма не только стала начальной точкой спора западников и славянофилов, но и привела к первому в России случаю использования психиатрии в политических целях.
Самого Чаадаева объявили сумасшедшим и поместили под принудительный медицинский надзор. Таким образом, публикация философического письма не только стала начальной точкой спора западников и славянофилов, но и привела к первому в России случаю использования психиатрии в политических целях.
Из письма министра народного просвещения графа Сергея Уварова императору Николаю I
20 октября 1836 года
Ваше Величество, оценивая в своей мудрости характер этой статьи, кажущейся с первого взгляда невероятной, благоволит оценить по справедливости ту борьбу, которую я веду с модными принципами, с ухищрениями и страстями; борьба эта была бы безнадежна, если бы твердая и блистательная поддержка Вашего Величества не являлась постоянным утешением тех, кого Ваше доверие поставило на страже у прорыва и которые пребудут там. Может быть, Ваше Величество, сочтете необходимым позднее напечатать опровержение, обращенное не к нашей стране, где возмущение не может не стать всеобщим, а скорее для заграницы, жаждущей всякого рода клеветнических выходок.
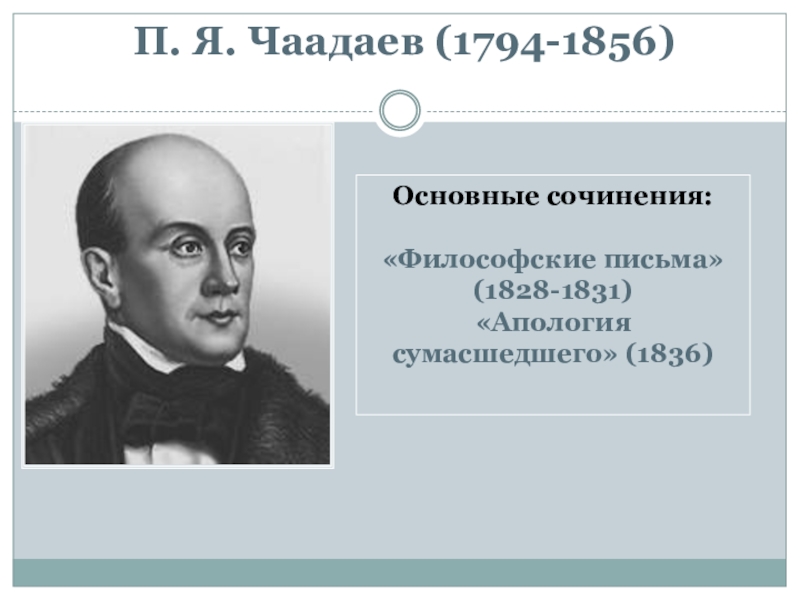 Но опровержение это требовало бы такта, настолько утонченного, что его нельзя было бы поручить журналистам, писателям. Позволю себе высказать мнение, что в настоящий момент обсуждение этой диатрибы «Телескопа» только усилило бы зло.
Но опровержение это требовало бы такта, настолько утонченного, что его нельзя было бы поручить журналистам, писателям. Позволю себе высказать мнение, что в настоящий момент обсуждение этой диатрибы «Телескопа» только усилило бы зло.…оценивая в своей мудрости…
Резолюция императора Николая I на докладе министра народного просвещения графа Сергея Уварова
22 октября 1836 года
Прочитав статью, нахожу, что содержание оной есть смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного: это мы узнаем непременно, но не извинительны ни редактор журнала, ни цензор. Велите сейчас журнал запретить, обоих виновных отрешить от должности и вытребовать сюда к ответу.
…статьи, кажущейся невероятной…
Из первого «Философического письма» Петра Чаадаева
1829 год
Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица. тут беспечность жизни без опыта и предвидения, не имеющая отношения ни к чему, кроме призрачного существования личности, оторванной от своей среды, не считающейся ни с честью, ни с успехами какой-либо совокупности идей и интересов, ни даже с родовым наследием данной семьи и со всеми предписаниями и перспективами, которые определяют и общественную и частную жизнь в строе, основанном на памяти о прошлом и на тревоге за будущее. В наших головах нет решительно ничего общего, все там обособлено и все там шатко и неполно. Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы.
тут беспечность жизни без опыта и предвидения, не имеющая отношения ни к чему, кроме призрачного существования личности, оторванной от своей среды, не считающейся ни с честью, ни с успехами какой-либо совокупности идей и интересов, ни даже с родовым наследием данной семьи и со всеми предписаниями и перспективами, которые определяют и общественную и частную жизнь в строе, основанном на памяти о прошлом и на тревоге за будущее. В наших головах нет решительно ничего общего, все там обособлено и все там шатко и неполно. Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы.
…такта, настолько утонченного…
Из письма шефа III отделения императорской канцелярии графа Александра Бенкендорфа московскому военному генерал-губернатору князю Дмитрию Голицыну
23 октября 1836 года
Статья сия, конечно уже Вашему Сиятельству известная, возбудила в жителях московских всеобщее удивление. Но жители древней нашей столицы будучи преисполнены чувством достоинства Русского Народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок, и потому изъявляют искреннее сожаление свое о постигшем его расстройстве ума, которое одно могло быть причиною написания подобных нелепостей. Вследствие сего Государю Императору угодно, чтобы Ваше Сиятельство, по долгу звания Вашего, приняли надлежащие меры к оказанию г. Чеодаеву всевозможных попечений и медицинских пособий. и чтоб сделано было распоряжение, дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха; одним словом, чтоб были употреблены все средства к восстановлению его здоровья.
Но жители древней нашей столицы будучи преисполнены чувством достоинства Русского Народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок, и потому изъявляют искреннее сожаление свое о постигшем его расстройстве ума, которое одно могло быть причиною написания подобных нелепостей. Вследствие сего Государю Императору угодно, чтобы Ваше Сиятельство, по долгу звания Вашего, приняли надлежащие меры к оказанию г. Чеодаеву всевозможных попечений и медицинских пособий. и чтоб сделано было распоряжение, дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха; одним словом, чтоб были употреблены все средства к восстановлению его здоровья.
…с модными принципами…
Из дневника цензора Александра Никитенко
25 октября 1836 года
Ужасная суматоха в цензуре и в литературе. В 15 номере «Телескопа» напечатана статья под заглавием «Философские письма». Статья написана прекрасно; автор ее Чаадаев. Но в ней весь наш русский быт выставлен в самом мрачном виде Подозревают, что статья напечатана с намерением, и именно для того, чтобы журнал был запрещен и чтобы это подняло шум Думают, что это дело тайной партии. А я думаю, что это просто невольный порыв новых идей, которые таятся в умах и только выжидают удобной минуты, чтобы наделать шуму.
Но в ней весь наш русский быт выставлен в самом мрачном виде Подозревают, что статья напечатана с намерением, и именно для того, чтобы журнал был запрещен и чтобы это подняло шум Думают, что это дело тайной партии. А я думаю, что это просто невольный порыв новых идей, которые таятся в умах и только выжидают удобной минуты, чтобы наделать шуму.
…для заграницы, жаждущей клеветнических выходок…
Из донесения австрийского посла в Петербурге графа Фикельмона канцлеру Меттерниху
7 ноября 1836 года
В Москве в литературном периодическом журнале под названием «Телескоп» напечатано письмо, написанное русской даме полковником в отставке Чаадаевым . Оно упало, как бомба, посреди русского тщеславия и тех начал религиозного и политического первенствования, к которым весьма склонны в столице.
Император, исходя из того, что только больной человек мог написать в таком духе о своей родине, ограничился пока распоряжением, чтобы он был взят под наблюдение двух врачей и чтобы через некоторое время было доложено о его состоянии. Поступая подобным образом, император имел явное намерение как можно скорее прекратить шум, вызванный этим письмом.
Поступая подобным образом, император имел явное намерение как можно скорее прекратить шум, вызванный этим письмом.
…возмущение не может не стать всеобщим…
Из «Докладной записки потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве» Михаила Жихарева
1860-е годы
Никогда с тех пор, как в России стали писать и читать, с тех пор, как завелась в ней книжная и грамотная деятельность, никакое литературное или ученое событие, ни после, ни прежде этого (не исключая даже и смерти Пушкина) — не производило такого огромного влияния и такого обширного действия, не разносилось с такой скоростью и с таким неизмеримым шумом. Около месяца середи целой Москвы не было дома, в котором не говорили бы про «чаадаевскую статью» и про «чаадаевскую историю»; все соединилось в одном общем вопле проклятия и презрения человеку, дерзнувшему оскорбить Россию.
…оценить по справедливости…
Из письма Александра Пушкина Петру Чаадаеву
19 октября 1836 года
Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши религиозные исторические воззрения вам не повредили.
Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши религиозные исторические воззрения вам не повредили.
…на страже у прорыва…
Из письма графа Дмитрия Татищева графу Сергею Уварову
26 октября 1836 года
Произведение отвратительное. Факт его опубликования очень важен для правительства; он доказывает существование политической секты в Москве; хорошо направленные поиски должны привести к полезным открытиям по этому поводу. Принадлежит ли автор к тайным обществам, но в своем произведении он богохульствует против святой православной церкви. Он должен быть выдан церкви. Одиночество, пост, молитва пришли бы на помощь пастырским внушениям, чтобы привести домой заблудшую овцу.
…усилило бы зло…
Из доклада московского обер-полицмейстера Льва Цынского графу Александру Бенкендорфу
3 ноября 1836 года
Прочтя предписание, он смутился, чрезвычайно побледнел, слезы брызнули из глаз и не мог выговорить слова. Наконец, собравшись с силами, трепещущим голосом сказал: «Справедливо, совершенно справедливо»,— объявляя, что действительно в то время, как сочинял сии письма, был болен и тогда образ жизни и мыслей имел противный настоящим . В противоречие же сему, продолжая разговор, говорил, что философические письма, давно написанные, были читаемы многими здесь и в Петербурге; что сие самое ободряло его и обольщало надеждою, что они будут одобрены, как и прежде, читавшими и что к сему он был увлечен авторским честолюбием.
…обращенное не к нашей стране…
Из «Апологии сумасшедшего» Петра Чаадаева
1837 год
В сущности, правительство только исполнило свой долг; можно даже сказать, что в мерах строгости, применяемых к нам сейчас, нет ничего чудовищного, так как они, без сомнения, далеко не превзошли ожиданий значительного круга лиц.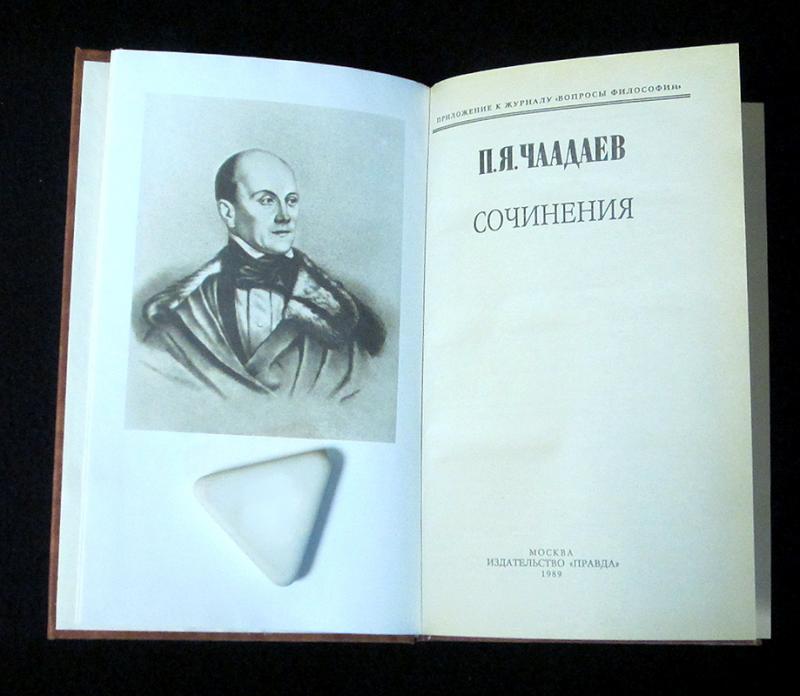 В самом деле, что еще может делать правительство, одушевленное самыми лучшими намерениями, как не следовать тому, что оно искренно считает серьезным желаньем страны? Совсем другое дело — вопли общества. Как же случилось, что в один прекрасный день я очутился перед разгневанной публикой,— публикой, чьих похвал я никогда не добивался, чьи ласки никогда не тешили меня, чьи прихоти меня не задевали? Как случилось, что мысль, обращенная не к моему веку, которую я, не желая иметь дело с людьми нашего времени, в глубине моего сознания завещал грядущим поколениям, лучше осведомленным, как случилось, что она разбила свои оковы, бежала из своего монастыря и бросилась на улицу, вприпрыжку среди остолбенелой толпы? Этого я не в состоянии объяснить.
В самом деле, что еще может делать правительство, одушевленное самыми лучшими намерениями, как не следовать тому, что оно искренно считает серьезным желаньем страны? Совсем другое дело — вопли общества. Как же случилось, что в один прекрасный день я очутился перед разгневанной публикой,— публикой, чьих похвал я никогда не добивался, чьи ласки никогда не тешили меня, чьи прихоти меня не задевали? Как случилось, что мысль, обращенная не к моему веку, которую я, не желая иметь дело с людьми нашего времени, в глубине моего сознания завещал грядущим поколениям, лучше осведомленным, как случилось, что она разбила свои оковы, бежала из своего монастыря и бросилась на улицу, вприпрыжку среди остолбенелой толпы? Этого я не в состоянии объяснить.
…преступлением против народной чести…
Из стихотворения Николая Языкова «К Чаадаеву»
1844 год
Вполне чужда тебе Россия,
Твоя родимая страна!
Ее предания святыя
Ты ненавидишь все сполна.
Ты их отрекся малодушно,
Ты лобызаешь туфлю пап,—
Почтенных предков сын ослушной,
Всего чужого гордый раб!
. ..твердая и блистательная поддержка…
..твердая и блистательная поддержка…
Резолюция императора Николая I на докладе князя Дмитрия Голицына
30 октября 1837 года
Освободить от медицинского надзора под условием не сметь ничего писать.
Весь проект «Календарь литературных преследований»
Неизменность Чаадаева — Михаил Гефтер
Чаадаев был умен, остер на язык и саркастичен; он был недоволен почти всем, что делалось вокруг него; он держался независимо и жил вне службы; наконец, он был друг декабристов и опального Пушкина и за его статью был закрыт журнал. Таких данных, пожалуй, и теперь было бы достаточно, чтобы составить человеку репутацию либерала.
Михаил Гершензон (Гершензон, 2000 [1908]: 424).
Расхожим является мнение, что Петр Яковлевич Чаадаев к моменту публикации первого «Философического письма к даме» в «Телескопе» Н.И. Надеждина уже существенно пересмотрел свои взгляды — и от того реакция публики и правительства, вызванная текстом, но обращенная на автора, была во многом ложной. Его карали за взгляды, которых он уже не разделял.
Его карали за взгляды, которых он уже не разделял.
На первый взгляд подобное утверждение выглядит более чем обоснованным: за ним стоит анализ серии писем Чаадаева 1832–1836 годов разным адресатам, его суждений, нашедших отражение даже в печати. Хотя О. Мандельштам и утверждал, что «лучше не касаться “Апологии”, конечно, не здесь сказал Чаадаев то, что он думал о России» (Мандельштам, 1971 [1915]: 288). Но сказанное Чаадаевым в «Апологии…» если чем и отличается от сказанного им же двумя-тремя годами ранее, то разве что интонацией, переходом от частного письма к публичному тексту и желанием оправдаться — представить иную аранжировку ранее высказанных идей.
И тем не менее этому утверждению противоречат известные нам обстоятельства — настойчивое желание Чаадаева добиться опубликования «Философических писем», причем именно в те годы, когда вроде бы приходится говорить об изменении его взглядов.
Распространение и попытки опубликовать «Философические письма»
Почти сразу же по выходе из уединения и возвращении к жизни московских гостиных [1], Чаадаев охотно знакомит с текстом своих «Философических писем» знакомых и не препятствует дальнейшему их распространению. В написанных вскорости после смерти Чаадаева воспоминаниях о нем Д.Н. Свербеев [2], его многолетний московский приятель, говорит: «Я читал некоторые из этих писем (и кто из людей, ему коротких, не читал их в это время? [выд. нами. — А.Т.]) и насколько могу теперь припомнить, все они были довольно запутанного содержания» (Свербеев, 2014: 523).
В написанных вскорости после смерти Чаадаева воспоминаниях о нем Д.Н. Свербеев [2], его многолетний московский приятель, говорит: «Я читал некоторые из этих писем (и кто из людей, ему коротких, не читал их в это время? [выд. нами. — А.Т.]) и насколько могу теперь припомнить, все они были довольно запутанного содержания» (Свербеев, 2014: 523).
М.П. Погодин, в это время еще «мало знакомый с Чаадаевым, читал одно из них (вероятно, первое), уже весною 1830 года» (Гершензон, 2000 [1908]: 440).
В 1831 году Чаадаев передал рукопись нескольких писем Пушкину перед его возвращением в Петербург — с надеждой опубликовать их в столице, где Пушкин рассчитывал на книгопродавца и издателя Ф.М. Беллизара (Пушкин, 1935: 334): «Вероятно, — пишет М.И. Гиллельсон, — по приезде […] Пушкин посоветовался с Жуковским (известно, что Пушкин давал читать Жуковскому рукопись Чаадаева [3]), и они пришли к выводу, что духовная цензура не разрешит печатать […]» (Вацуро, Гиллельсон, 1986: 172).
В ноябре 1832 года Чаадаев вновь попытался издать те же письма, VI и VII, теперь уже в Москве, в типографии А.И. Семена (Там же). Тем более что в № 11 «Телескопа» выходит его небольшой фрагмент «Об архитектуре», заслуживший лестную оценку со стороны Ф. Голубинского, которого А.П. Елагина просила помочь прохождению текста писем через цензуру. Однако последнего он не смог сделать, отвечая:
«[…] первые страницы, где показывается неосновательность протестантских воззрений против католической церкви, признаны не содержащими в себе ничего сомнительного. Но те места, где сочинитель приписывает первенство Церкви Западной, где говорит, что Папство существенно происходило из истинного духа христианства; также где представляет Моисея как Законодателя, своею силою основавшего веру в единого Бога и пользовавшегося необыкновенными средствами к достижению сей цели, как человека, говорившего к людям из среды метеора, здешний Цензурный Комитет не мог одобрить. И я не мог и не хотел защищать их; ибо поступая так, я пошел бы против истины и против присяги» (II, 527 [4], письмо от 1 февраля 1833 года) [5].
Потерпев последовательно неудачу в Петербурге и в Москве, Чаадаев в следующем году пишет к кн. П.А. Вяземскому, обсуждая и прикидывая разные возможные варианты публикации, надеется, что столичная цензура будет снисходительнее московской, и склоняется к тому, чтобы письма вышли в каком-нибудь журнале:
«Если она увидит свет в одном из периодических сборников, то будет еще большая свобода действий; можно будет выбрать несколько писем, не соблюдая последовательности, и представить их в форме отрывков» (II, 89, письмо от 9 марта 1834 года).
Так он и поступит в 1836 году — как известно, в портфеле редакции «Телескопа» находилось по меньшей мере еще одно из «Философических писем», а по сообщению М.К. Лемке, «в 1835 или 1836 году [Чаадаев] отдает два письма открывшемуся тогда “Московскому наблюдателю”, где они не появляются» (Лемке, 1909: 402). Как веско отмечал М.О. Гершензон, вполне возможно, что мы знаем только о части подобных попыток (Гершензон, 2000 [1908]: 441). В 1834 году Чаадаев в письме к кн. П.А. Вяземскому сообщал, отчего считает желательным опубликовать текст именно в России:
П.А. Вяземскому сообщал, отчего считает желательным опубликовать текст именно в России:
«Как вы понимаете, мне было бы легко опубликовать это за границей. Но думаю, что для достижения необходимого результата определенные идеи должны исходить из нашей страны, из России. Такое мнение составляет часть всей совокупности моих мыслей» (II, 88, письмо от 9 марта 1834 года).
До 1988 года считалось, что в дальнейшем Чаадаев был вынужден под влиянием постигших его неудач пройти через цензуру, отказаться от изложенной Вяземскому позиции и предпринять в 1835 году попытку опубликовать одно из своих «Писем» во Франции, для чего он обратился к А.И. Тургеневу (II, 93–94). Однако последний ответил отказом, не рискнув «взять на себя ответственность за подобную публикацию» (Вацуро, Гиллельсон, 1986: 172, со ссылкой на письмо А.И. Тургенева к П.Я. Чаадаеву от 22 августа / 3 сентября 1835 года [6]). После публикации Б.Н. Тарасовым русского перевода письма Чаадаева, обращенного к Луи-Филиппу (Тарасов, 1988, републ. : Чаадаев, 1989: 389; II, 101–102) появилась некоторая вероятность, что просьба о помещении «письма» в каком-нибудь подходящем французском издании относится именно к данному тексту. Таким образом, теперь можно с некоторыми основаниями допустить (ср.: I, 691 и II, 317–318), что для Чаадаева не только стремление опубликовать свой текст именно в России было принципиальным, но от этого намерения он никогда не отказался. Публиковать все или только часть из них зависело от возможностей пройти цензуру, но если письма могли быть опубликованы избирательно, то каждое из них рассматривалось автором как законченное произведение, всякий элемент которого хорошо продуман, и потому надлежит стремиться избегать любых изъятий. Чаадаеву было удобно работать в эстетике «фрагмента», но каждый фрагмент представал идеально отшлифованным и соразмерным в своих частях:
: Чаадаев, 1989: 389; II, 101–102) появилась некоторая вероятность, что просьба о помещении «письма» в каком-нибудь подходящем французском издании относится именно к данному тексту. Таким образом, теперь можно с некоторыми основаниями допустить (ср.: I, 691 и II, 317–318), что для Чаадаева не только стремление опубликовать свой текст именно в России было принципиальным, но от этого намерения он никогда не отказался. Публиковать все или только часть из них зависело от возможностей пройти цензуру, но если письма могли быть опубликованы избирательно, то каждое из них рассматривалось автором как законченное произведение, всякий элемент которого хорошо продуман, и потому надлежит стремиться избегать любых изъятий. Чаадаеву было удобно работать в эстетике «фрагмента», но каждый фрагмент представал идеально отшлифованным и соразмерным в своих частях:
«Чтобы угодить цензуре, я бы предпочел исключить некоторые письма, но не искажать текст» (II, 89, письмо к кн. П.А. Вяземскому от 9 марта 1834 года).
В письме к Пушкину 17 июля 1831 года, побуждая того активно способствовать напечатанию фрагментов своего сочинения, Чаадаев объяснял свои мотивы: «Постарайтесь […], прошу вас, чтобы мне не пришлось слишком долго дожидаться моей работы, и напишите мне поскорее, что вы с ней сделали. Вы знаете, какое это имеет значение для меня? Дело не в честолюбивом эффекте, но в эффекте полезном. Не то чтоб я не желал выйти немного из своей неизвестности, принимая во внимание, что это было бы средством дать ход той мысли, которую я считаю себя призванным дать миру; но главная забота моей жизни — это довершить ту мысль в глубинах моей души и сделать из нее мое наследие» (II, 67).
Реакция на «Философические письма»: до и после публикации
Кн. П.А. Вяземский писал Пушкину из Остафьевского московского поместья как раз в то время, когда в Царском Селе Пушкин читал переданные ему Чаадаевым для опубликования «Философические письма» (см. об этом ниже): «Чаадаев выезжает: мне все кажется, что он немного тронулся. Мы стараемся приголубить его и ухаживаем за ним. Между тем сколько есть истинно прекрасного и прекрасно истинного в сочинении его религиозном» (Переписка, 1982: 304, письмо от 14 и 15 июля 1831 года).
Мы стараемся приголубить его и ухаживаем за ним. Между тем сколько есть истинно прекрасного и прекрасно истинного в сочинении его религиозном» (Переписка, 1982: 304, письмо от 14 и 15 июля 1831 года).
К этому письму А.И. Тургенев сделал обширную приписку, целиком посвященную Чаадаеву: рукопись его вызывала не только интерес, но и весьма оживленное и сочувственное обсуждение [7]. В чем сходились и Пушкин, и А.И. Тургенев (которого Чаадаев незамедлительно познакомил с письмом первого от 6 июля), так это в стремлении отделить «христианство» от конфессии [8]. Пушкин пишет, начав, разумеется, с многочисленных похвал в адрес VI и VII «Философических писем»:
«Вы видите единство христианства в католицизме, то есть в папе. Не заключается ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме? Первоначально эта идея была монархической, потом она стала республиканской» (Переписка, 1982а: 275).
Тургенев со своей стороны подхватывает эти слова и отвечает Пушкину: «Поставь на место католицизма христианство, и все будет на месте; но в том-то и ошибка его и предтечей его: Мейстера, Бональда, Ламене, Свечиной. На словах и в записочках я часто бесил сию превосходно мыслящую четверку тем же замечанием; но они не сдаются ни на рассуждения, ни на историю, в коей видят только Рим и церковь, а не мир и религию [выд. нами. — А.Т.]. Чаадаев попал на ту же мысль, или лучше увлечен ими на ту же дорогу, хотя он выслушивает и другую сторону: т.е. читает и протестантов; но находит в них или подтверждение своему взгляду на историю, или слабые доказательства, кои спешит обессилить, или устраняется от состязания, когда доводы противников слишком сильны» (Переписка, 1982: 74, письмо от 15 июля 1831 года).
На словах и в записочках я часто бесил сию превосходно мыслящую четверку тем же замечанием; но они не сдаются ни на рассуждения, ни на историю, в коей видят только Рим и церковь, а не мир и религию [выд. нами. — А.Т.]. Чаадаев попал на ту же мысль, или лучше увлечен ими на ту же дорогу, хотя он выслушивает и другую сторону: т.е. читает и протестантов; но находит в них или подтверждение своему взгляду на историю, или слабые доказательства, кои спешит обессилить, или устраняется от состязания, когда доводы противников слишком сильны» (Переписка, 1982: 74, письмо от 15 июля 1831 года).
Иными словами, Пушкин и Тургенев интерпретировали «христианство» в смысле «христианской культуры», как культурный феномен, «религию», а не как Церковь. Для Чаадаева речь шла о том, как христианство (в смысле веры и Церкви) оказывается воздействующим на все сферы человеческого существования, так что воздействие веры можно обнаружить в самых далеких от веры делах, но при этом сохраняя принципиальное отличие того, что воздействует, от того, что воздействию подвергается [9]. Церковь действует в истории, но при этом она «больше» истории, не может быть растворена в последней без остатка.
Церковь действует в истории, но при этом она «больше» истории, не может быть растворена в последней без остатка.
М.А. Дмитриев, один из тех, кому Чаадаев после публикации русского перевода, выполненного Н.Х. Кетчером, послал отдельный оттиск из журнала (I, 581), вспоминал:
«Я читал все эти письма в рукописи: он давал мне их французский подлинник. […] Первое письмо было особенно замечательно: в нем было много горькой правды, сказанной резко, но метко и красноречиво, хотя и не всегда верно» (Дмитриев, 1998: 366, 367).
Эффект, произведенный письмом после его опубликования в № 15 «Телескопа» за 1836 год, — следствие, с одной стороны, выхода за рамки своего круга, а с другой — разницы «рукописного» и «опубликованного». Тот же Вяземский, находивший в рукописи множество «истинно прекрасного и прекрасно истинного», спустя пять лет использовал скандал, вызванный публикацией письма, для того чтобы попытаться атаковать образовательную политику Министерства народного просвещения и лично С. С. Уварова. Он обвинил его в поддержке скептических взглядов, под которыми понимал содержание трудов не только М.Т. Каченовского, но и Н.Г. Устрялова, поскольку последний осмелился критически отнестись к Н.М. Карамзину, которому Вяземский приходился шурином:
С. Уварова. Он обвинил его в поддержке скептических взглядов, под которыми понимал содержание трудов не только М.Т. Каченовского, но и Н.Г. Устрялова, поскольку последний осмелился критически отнестись к Н.М. Карамзину, которому Вяземский приходился шурином:
«Исторический скептицизм, терпимый и даже поощряемый министерством просвещения, неминуемо довел до появления в печати известного письма Чаадаева, помещенного в “Телескопе”. Напрасно искать в сем явлении тайных пружин, движимых злоумышленными руками. Оно просто естественный и созревший результат направления, которое дано исторической нашей критике. Допущенное безверие к писанному довело до безверия к действительному. Подлежащие вам места как будто именем правительства говорили учащемуся поколению: не учитесь Карамзину! Не верьте ему! Не другими ли словами говорили они: не учитесь Русской Истории! Не верьте ей! Ибо нельзя же учиться по белой бумаге и по пустому месту. Письмо Чаадаева не что иное, в сущности своей, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин [выд.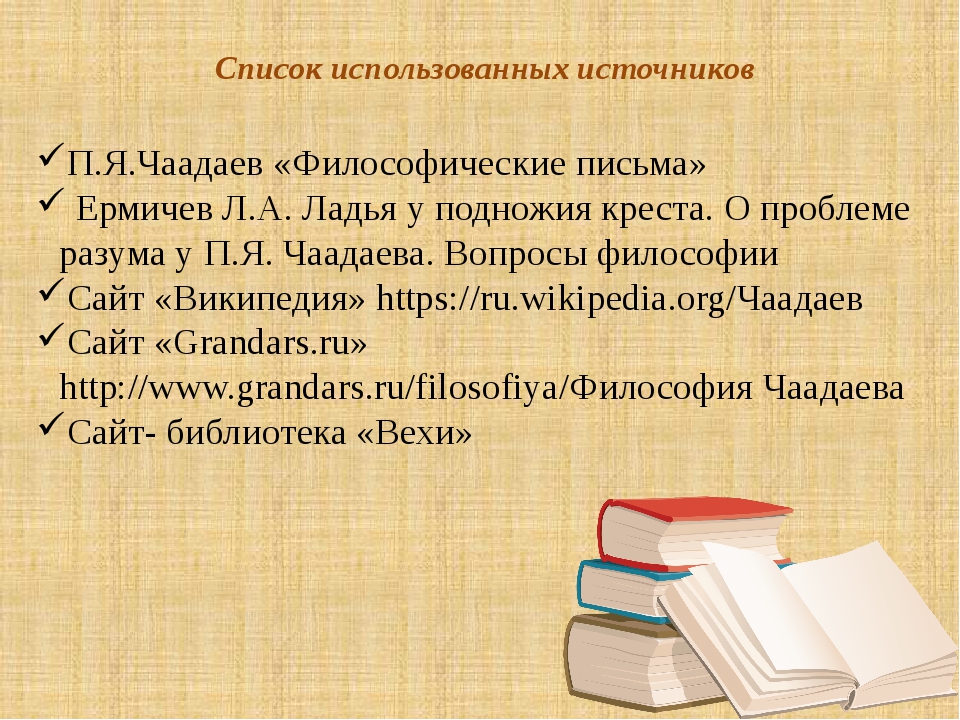 нами. — А.Т.]. Тут никакого умысла и помысла политического не было. Было одно желание блеснуть новостию воззрений, парадоксами и попытать силы свои в упражнениях по части искажения Русской Истории. […] Перечтите со вниманием и без предубеждения все, что писано было у нас против “Истории государства Российского” и самого Карамзина, сообразите направление, мнение и дух нового исторического учения, противопоставленного учению Карамзина, и из соображений ваших неминуемым итогом выйдет известное письмо, которое так дорого обошлось бедному Чаадаеву» (Вяземский, 1879: 221, 222).
нами. — А.Т.]. Тут никакого умысла и помысла политического не было. Было одно желание блеснуть новостию воззрений, парадоксами и попытать силы свои в упражнениях по части искажения Русской Истории. […] Перечтите со вниманием и без предубеждения все, что писано было у нас против “Истории государства Российского” и самого Карамзина, сообразите направление, мнение и дух нового исторического учения, противопоставленного учению Карамзина, и из соображений ваших неминуемым итогом выйдет известное письмо, которое так дорого обошлось бедному Чаадаеву» (Вяземский, 1879: 221, 222).
В 1875 году Вяземский вновь изменил свои взгляды — или, по меньшей мере, публичное суждение — о сочинении Чаадаева, возлагая вину на нравы журналистики и особенности характера автора, целиком поддержав версию об обстоятельствах публикации в «Телескопе», изложенную в показаниях Чаадаева 1836 года (I, 580–581):
«Может быть придал и ему значение не по росту. Во всяком случае прямого отношения к Русской литературе в нем нет. Писано оно было на французском языке и к печати не назначалось. Любезнейший аббатик, как прозвал его Денис Давыдов, довольствовался чтением письма в среде московских прихожанок своих, которых был он настоятелем и правителем по делам совести (directeur de conscience). Бестактность журналистики нашей с одной стороны, с другой обольщение авторского самолюбия, придали несчастную гласность этой конфиденциальной и келейной ультрамонтанской энциклике, пущенной из Басманского Ватикана» (Вяземский, 1879: 214).
Писано оно было на французском языке и к печати не назначалось. Любезнейший аббатик, как прозвал его Денис Давыдов, довольствовался чтением письма в среде московских прихожанок своих, которых был он настоятелем и правителем по делам совести (directeur de conscience). Бестактность журналистики нашей с одной стороны, с другой обольщение авторского самолюбия, придали несчастную гласность этой конфиденциальной и келейной ультрамонтанской энциклике, пущенной из Басманского Ватикана» (Вяземский, 1879: 214).
Гершензон, заканчивая рассказ о попытке Чаадаева в 1833 году вернуться на службу, пишет: «Так кончилась эта классическая история о наивном философе и грубом капрале; но ничего нет мудреного, если в Петербурге уже теперь зародилось подозрение насчет нормальности умственных способностей Чаадаева» (Гершензон, 2000 [1908]: 439).
Однако Вяземский уже в 1831 году произнес слова о безумии Чаадаева («немного тронулся» — см. его письмо к Пушкину от 14 и 15 июля 1831 года, цитированное ранее). Императору, подыскивавшему слова, чтобы оценить поступок Чаадаева, достаточно было прислушаться к голосам друзей и приятелей последнего. Обиходная фраза внезапно приобрела окончательность вердикта в резолюции Николая I (22.X.1836) на докладе Уварова от 20 октября 1836 года: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного […]» (Лемке, 1909: 413) [10].
Императору, подыскивавшему слова, чтобы оценить поступок Чаадаева, достаточно было прислушаться к голосам друзей и приятелей последнего. Обиходная фраза внезапно приобрела окончательность вердикта в резолюции Николая I (22.X.1836) на докладе Уварова от 20 октября 1836 года: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного […]» (Лемке, 1909: 413) [10].
Принцип Чаадаева
И реакция общества, и решение императора, реализованное с усугубляющейся конкретностью по ступеням бюрократической лестницы — от шефа жандармов и министра народного просвещения до московского генерал-губернатора, а от него к чинам полиции, — и оскорбление, которое в 1848 году попытался нанести Чаадаеву П.В. Долгоруков, рассылая подложное письмо от заезжего врача с предложением исцелить Чаадаева от безумия и тем завоевать себе в московском обществе незыблемую репутацию (см.: Жихарев, 1989: 114–115, 371), — все это вызвано опубликованным текстом «Философического письма к даме».
Прот. Г. Флоровский утверждал: «Чаадаев не был мыслителем в собственном смысле слова. Это был умный человек, с достаточно определившимися взглядами. Но было бы напрасно искать у него “систему”. У него есть принцип, но не система. И этот принцип есть постулат христианской философии истории. История есть для него создание в мире Царствия Божия. Только через строительство этого Царствия и можно войти или включиться в историю» (Флоровский, 1988 [1937]: 248). Сам Чаадаев писал Пушкину нечто весьма схожее: «У меня только одна мысль, вам это известно. Если бы невзначай я и нашел в своем мозгу другие мысли, то они наверное будут стоять в связи со сказанной: смотрите, подойдет ли это вам» (II, 69, письмо от 18 сентября 1831 года).
Однако те суждения, которые публика увидела в «Философическом письме», не составляли оригинального достояния автора. Относительная распространенность взглядов, высказанных Чаадаевым на прошлое и настоящее России, может быть проиллюстрирована одним, но весьма характерным эпизодом. В известной беседе с «князем К***», приведенной в пятом письме «России в 1839 г.» Астольфа де Кюстина, попутчик автора говорит:
В известной беседе с «князем К***», приведенной в пятом письме «России в 1839 г.» Астольфа де Кюстина, попутчик автора говорит:
«Русские не учились в той блистательной школе прямодушия, чьи уроки рыцарская Европа усвоила так твердо, что слово честь долгое время оставалось синонимом верности данному обещанию, а слово чести по сей день почитается священным даже во Франции, забывшей о стольких вещах! Благодетельное влияние крестоносцев, равно как и распространение католической веры, не пошло далее Польши […].
Покуда Европа переводила дух после многовековых сражений за Гроб Господень, русские платили дань мусульманам, возглавляемым Узбеком, продолжая, однако, как и прежде, заимствовать искусства, нравы, науки, религию, политику с ее коварством и обманами и отвращение к латинским крестоносцам у греческой империи. […]
Абсолютный деспотизм, какой господствует у нас, установился в России в ту самую пору, когда во всей Европе рабство было уничтожено» (Кюстин, 2008: 75).
В этих словах видели, вполне резонно, сходство со взглядами Чаадаева, что заставляло предполагать знакомство автора с первым «Философическим письмом…» или личное знакомство с Чаадаевым в Москве [11]. Однако там, где де Кюстин излагает взгляды собственно Чаадаева, он демонстрирует незнакомство с его текстами и повествует, опираясь лишь на «устную легенду о Чаадаеве» (Мильчина, Осповат, 2008: 961). На данный момент, после опубликования «Опыта об истории России» князя Козловского («князя К***»), в которых тот высказывает «соображения, весьма близкие к тем, которые вложены в уста» собеседника де Кюстина, остается лишь вновь признать «точность воспроизведения французским писателем монологов русского собеседника» (Там же: 767). Биограф кн. Козловского Г.П. Струве центральную главу своего исследования озаглавил «Единомышленник Чаадаева: взгляды Козловского на судьбы России» (Струве, 1950: 39–46). У Козловского легко найти и другие суждения и оценки, сходные с тем, что наиболее возмутили властную и читающую публику после телескопической публикации. Так, Н.И. Тургенев в письме к брату Сергею от 15/29 ноября 1811 года из Рима передает известие о своей встрече с князем: «Я с ним много спорил и просил о таких предметах, которые никакому сомнению не подвержены; он утверждает, что русский народ никакого характера не имеет» (цит. по: Струве, 1950: 40).
Так, Н.И. Тургенев в письме к брату Сергею от 15/29 ноября 1811 года из Рима передает известие о своей встрече с князем: «Я с ним много спорил и просил о таких предметах, которые никакому сомнению не подвержены; он утверждает, что русский народ никакого характера не имеет» (цит. по: Струве, 1950: 40).
Эти и другие подобные суждения позволяют восстановить меру оригинальности Чаадаева. То, что в первую очередь занимало публику, оказывалось привлекающим внимание в силу не «парадоксальности» и новизны высказывания, а новизны публичной речи, тогда как сказанное было вполне типичным для «русского “религиозного западничества”, характерного для времени Александра I» (Валицкий, 2012: 54, прим. 1 к стр. 53). И тем не менее различие принципиально:
«Гагарин (а следом за ним почти все, кто писал о Козловском) усматривал в этих высказываниях [князя Козловского. — А.Т.] сходство с тем, как виделась Россия в философии Чаадаева. […] Но прежде всего следует принципиально разграничить сопоставляемые размышления обоих: одно дело — личные рассуждения экс-дипломата, а совсем другое — идеи, опирающиеся на оригинальную религиозную концепцию философии истории» (Валицкий, 2012: 37, 38).
Собственно, Чаадаев не столько высказывает новые оценки — они у него общие с целым рядом других «религиозных западников» как своего, так и предшествующего и последующего поколения [12], сколько принимая их как данность, адекватное описание реальности [13], стремится понять, почему эта реальность такова.
Там, где другие дают практический ответ — принимают католичество, уезжают на Запад навсегда или по меньшей мере на столь долгий срок, как это окажется возможно, — Чаадаев дает ответ теоретический, ему важно не только и даже не столько сказать, какова Россия, сколько поместить ее в мировую историю, объяснить, почему она такова.
Схематично ответ на этот вопрос, данный Чаадаевым, общеизвестен: Россия отсутствует в мировой истории как духовный факт именно потому, что смысл мировой истории есть смысл религиозный. Европа, проникнутая этим смыслом, в действительности имеет «общее лицо, семейное сходство» (I, 326), «еще сравнительно недавно вся Европа носила название Христианского мира и слово это значилось в публичном праве» (I, 327). Члены этого «семейства» имеют свои частные предания, свои особенности, но они части одного целого — напротив, Россия не входит в это целое, являясь лишь фактом: «Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера» (I, 330).
Члены этого «семейства» имеют свои частные предания, свои особенности, но они части одного целого — напротив, Россия не входит в это целое, являясь лишь фактом: «Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера» (I, 330).
Если угодно, перед нами тавтология: Россия не имеет истории потому, что она отъединена от мировой истории (а никакой частной истории быть не может — частное есть последовательность происшествий, смысл же обретается в универсальном или не обретается вообще), а мировая история есть история Царства Божьего, постепенного его установления на земле (см. VIII «Философическое письмо», I, 434–440). Отсутствие собственного смысла приводит к тому, что любое внешнее воздействие легко усваивается и столь же легко отбрасывается, прошлое не становится историей:
«Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. […] У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы воспринимаем только совершенно готовые идеи, поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т.е. по линии, не приводящей к цели» (I, 326).
[…] У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы воспринимаем только совершенно готовые идеи, поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т.е. по линии, не приводящей к цели» (I, 326).
Таким образом, Чаадаев формулирует ряд последовательных тезисов.
1. Прошлое и настоящее России исключительно, она — исключение из порядка народов: «Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет» (I, 330).
2. При этом исключительность эта целиком негативна, состоит в непричастности мировой истории, отсутствии целей и смыслов, которые придают содержание жизни народов европейских.
3. Но мировая история потому и является историей, а не цепью происшествий, что обладает смыслом, — и смысл этот провиденциальный.
4. Следовательно, исключенность России из мировой истории сама должна иметь смысл: «[…] мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке» (I, 330).
5. Прямолинейный ответ на этот вопрос дан в самом начале первого «Философического письма»: «Если мы хотим подобно другим цивилизованным народам иметь свое лицо, необходимо как-то вновь повторить у себя все воспитания человеческого рода» (I, 325). Этот вариант и был прочитан и услышан публикой, воспринявшей текст Чаадаева как проповедь католичества. И для такой интерпретации у публики были веские основания, но несколькими страницами позднее в том же тексте Чаадаев отмечает, что предыдущие попытки ни к чему не привели: «Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать и для того, чтобы приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись. В другой раз другой великий монарх, приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы; вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека [14]» (I, 330).
В другой раз другой великий монарх, приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы; вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека [14]» (I, 330).
Разумеется, против этого тезиса есть уже готовое возражение в логике самого Чаадаева: предыдущие попытки оказались безуспешны именно потому, что были попыткой заимствовать плоды, без понимания (или без желания понимать), что делает возможным произрастание таких плодов, — попыткой стать частью Европы, частью того, что еще не так давно и в публичном праве звалось «христианским миром», не принимая важнейшего. Но если это так и России предстоит «вновь повторить у себя все воспитания человеческого рода», то тогда пустота прошлого остается бессмыслицей — «гигантское исключение» так и останется исключением, никак не осмысленным, история для России начнется, но прошедшие века останутся пустотой, отсутствие смысла которой лишь утвердится обретением смысла последующих веков.
Из этого вытекает, что именно сама «пустота» — прошлая и настоящая — должна быть осмыслена положительно, не только как отсутствие, но и как путь к чему-либо, но отнюдь не обязательно в положительном смысле для России. Чаадаев создает матрицу, произвольно допускающую любые варианты пророчествования будущего: либо России надлежит стать уроком для других, примером и поучением, либо ей предстоит столь же исключительное будущее, в котором «пустота» превратится в преимущество.
Те же самые качества, которые теперь являются недостатками или достоинствами, не приносящими плода, способны в будущем обернуться преимуществом. Чаадаев уже в первом письме, прерывая обличение, делает оговорку, мало кем из современных читателей замеченную:
«Я, конечно, не утверждаю, что среди нас одни только пороки, а среди народов Европы одни добродетели, избави Бог. Но я говорю, что для суждения о народах надо исследовать общий дух, составляющий их сущность, ибо только этот общий дух способен вознести их к более совершенному нравственному состоянию и направить к бесконечному развитию, а не та или другая черта их характера» (I, 329, ср. сходное: I, 335–336).
сходное: I, 335–336).
Мировая история в любом случае (именно как история) несет в себе смысл — и смысл этот внеисторичен, но суждение о будущем является (лишь) верой — в смысле надежды и упования. Но если надеяться на то, что «урок» предназначен не (только) внешнему зрителю, но и «нам», причем не индивидуально (в смысле обращения в истинную веру), но коллективно, как историческому субъекту, то это значит — раз история еще не началась для России, — что ей суждено начаться.
«Пустота» тем самым оборачивается способностью вместить не любое, но универсальное содержание: любое конкретное оказывается не имеющим укоренения, оно легко принимается и столь же легко отбрасывается впоследствии, поскольку было произвольным. Его принятие вытекало не из внутреннего смысла, не из внутренней потребности, а из случайных обстоятельств — любое другое, удовлетворяющее ту же потребность, могло бы его заместить и замещает сразу же, как только обстоятельства изменились: «Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя.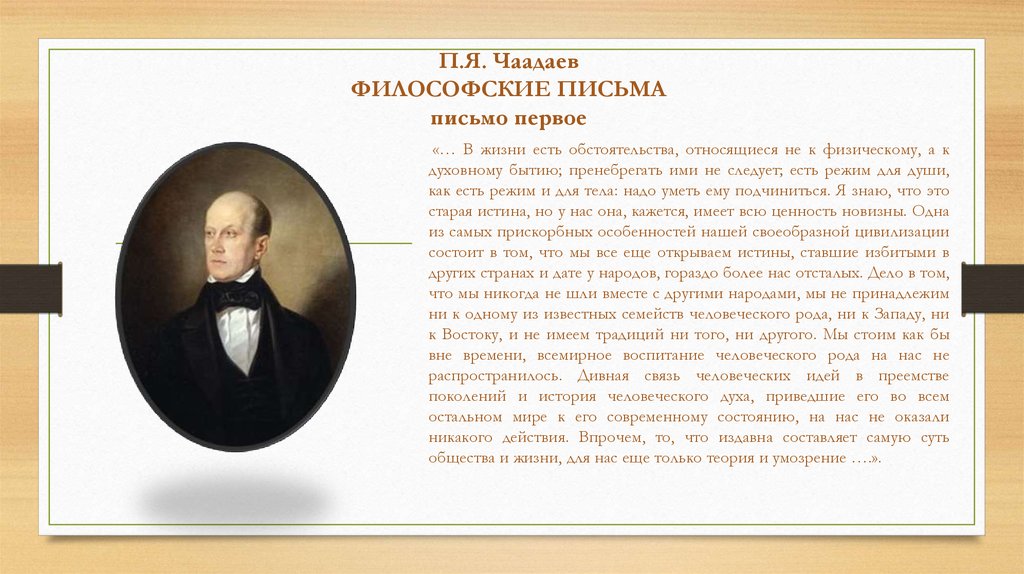 И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица» (I, 325).
И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица» (I, 325).
Но это же отсутствие «своего», преходящесть любого «чужого», которое держится лишь до тех пор, пока на него не пройдет мода и ее не сменит другая, — оно же оборачивается преимуществом не только в текстах, написанных вслед за «Философическими письмами…», но и в них же самих — разница в интонации. Если в «Философических письмах…» это приглушено: на первом плане обличение, сначала описание пустоты, безосновности, пронизывающей все — от частной жизни до общего порядка существования во времени [15], который и объясняет беспорядок первой, — то в текстах последующих нескольких лет на первый план выходят имеющиеся перспективы. Так, в письме к Ф.В.Й. Шеллингу в 1832 году Чаадаев говорит о «молодом поколении» соотечественников: «бедное настоящим, но богатое будущим […], великие судьбины которого не могут быть безразличны мудрецу» (II, 77).
В письме к Николаю I от 1 июля 1833 года он, предлагая себя для службы по Министерству народного просвещения, высказывает предположение, «что на учебное дело в России может быть установлен совершенно особый взгляд, что возможно дать ему национальную основу, в корне расходящуюся с той, на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо Россия развивалась во всех отношениях иначе и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире [выд. нами. — А.Т.]» (II, 83). В уже несколько раз цитированном выше имеющем принципиальную значимость письме Чаадаева к кн. П.А. Вяземскому от 9 марта 1835 года, в котором он впервые из дошедшей до нас эпистолярии дает название предназначенному им к опубликованию циклу «Философические письма, адресованные даме» (II, 89), он поясняет причину, вынуждающую его желать их опубликования именно в России:
«Мы находимся в совершенно особом положении относительно мировой цивилизации, и положение это еще не оценено по достоинству. Рассуждая о том, что происходит в Европе, мы более беспристрастны, холодны, безличны и, следовательно, более нелицеприятны по отношению ко всем обсуждаемым вопросам, чем европейцы. Значит, мы в какой-то степени представляем из себя суд присяжных, учрежденный для рассмотрения всех важнейших мировых проблем. Я убежден, что на нас лежит задача разрешить величайшие проблемы мысли и общества, ибо мы свободны от пагубного влияния суеверий и предрассудков, наполняющих умы европейцев. И целиком в нашей власти оставаться настолько независимым, насколько необходимо, настолько справедливым, насколько возможно. Прошлое давит на них невыносимо тяжким грузом воспоминаний, навыков, привычек и гнетет их, что бы они ни делали. Исходя из всего этого вы поймете, что я должен сперва исчерпать все возможности публикации в своей стране, прежде чем решиться выступить перед лицом Европы и освободиться от того национального или местного характера, который является частью моих идей» (II, 88–89).
Значит, мы в какой-то степени представляем из себя суд присяжных, учрежденный для рассмотрения всех важнейших мировых проблем. Я убежден, что на нас лежит задача разрешить величайшие проблемы мысли и общества, ибо мы свободны от пагубного влияния суеверий и предрассудков, наполняющих умы европейцев. И целиком в нашей власти оставаться настолько независимым, насколько необходимо, настолько справедливым, насколько возможно. Прошлое давит на них невыносимо тяжким грузом воспоминаний, навыков, привычек и гнетет их, что бы они ни делали. Исходя из всего этого вы поймете, что я должен сперва исчерпать все возможности публикации в своей стране, прежде чем решиться выступить перед лицом Европы и освободиться от того национального или местного характера, который является частью моих идей» (II, 88–89).
А.И. Тургеневу он пишет год спустя, 1 мая 1835 года: «Вы знаете, что я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе. Поставленная вне того стремительного движения, которое уносит там умы, имея возможность спокойно и с полным беспристрастием взирать на то, что волнует там души и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки» (II, 92).
Поставленная вне того стремительного движения, которое уносит там умы, имея возможность спокойно и с полным беспристрастием взирать на то, что волнует там души и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки» (II, 92).
Между «Философическими письмами…» и последующими текстами нет водораздела — не только в первых присутствуют все основания его последующих высказываний, но и в последующем Чаадаев вновь повторяет то и, что важнее, с той же интонацией, что было сказано в 1829–1830 годах и напечатано в 1836 году. Например, в письме к И.Д. Якушкину, предположительно датируемом 1838 годом, но, возможно, относящемся к чуть более поздним годам, он пишет, начиная с автоцитаты:
«Кто-то сказал, что “нам, русским, не достает некоторой последовательности в уме и что мы не владеем силлогизмом Запада”. Нельзя признать безусловно это резкое суждение о нашей умственности, произнесенное умом огорченным, но и нельзя также его совсем отвергнуть. Никакого нет в том сомнения, что ум наш так составлен, что понятия у нас не истекают необходимым образом одно из другого, а возникают поодиночке, внезапно, и почти не оставляют по себе следа. Мы угадываем, а не изучаем; мы с чрезвычайною ловкостью присваиваем себе всякое чужое изобретение, а сами не изобретаем; мы постепенности не знаем ни в чем; мы схватываем вдруг, но зато и многое из рук выпускаем. Одним словом, мы живем не продолжительным размышлением, а мгновенною мыслью. Но отчего это происходит? Оттого, что мы не последовательно вперед продвигались; оттого, что мы на пути нашего беглого развития иное пропускали, другое узнавали не в свое время, и таким образом очутились, сами не зная как, на том месте, на котором теперь находимся. Если же мы желаем не шутя вступить на поприще беспредельного совершенствования человечества, то мы должны непременно стараться все будущие наши понятия приобретать со всевозможною логическою строгостью и обращать всего более внимания на методу учения нашего.
Никакого нет в том сомнения, что ум наш так составлен, что понятия у нас не истекают необходимым образом одно из другого, а возникают поодиночке, внезапно, и почти не оставляют по себе следа. Мы угадываем, а не изучаем; мы с чрезвычайною ловкостью присваиваем себе всякое чужое изобретение, а сами не изобретаем; мы постепенности не знаем ни в чем; мы схватываем вдруг, но зато и многое из рук выпускаем. Одним словом, мы живем не продолжительным размышлением, а мгновенною мыслью. Но отчего это происходит? Оттого, что мы не последовательно вперед продвигались; оттого, что мы на пути нашего беглого развития иное пропускали, другое узнавали не в свое время, и таким образом очутились, сами не зная как, на том месте, на котором теперь находимся. Если же мы желаем не шутя вступить на поприще беспредельного совершенствования человечества, то мы должны непременно стараться все будущие наши понятия приобретать со всевозможною логическою строгостью и обращать всего более внимания на методу учения нашего. Тогда может быть перестанем мы хватать одни вершки, как то у нас до сих пор водилось, тогда раскроются понемногу все силы глубокомыслия и стройная дума; тогда мы научимся постигать вещи во всей их полноте и наконец сравняемся не только по наружности, но и на самом деле с народами, которые шли иными стезями и правильнее нас развивались, а может статься, и быстро перегоним их, потому что мы имеем перед ними великие преимущества, бескорыстные сердца, простодушные верования, потому что мы не удручены подобно им тяжелым прошлым, не омрачены закоснелыми предрассудками и пользуемся плодами всех их изобретений, напряжений и трудов» (II, 128–129).
Тогда может быть перестанем мы хватать одни вершки, как то у нас до сих пор водилось, тогда раскроются понемногу все силы глубокомыслия и стройная дума; тогда мы научимся постигать вещи во всей их полноте и наконец сравняемся не только по наружности, но и на самом деле с народами, которые шли иными стезями и правильнее нас развивались, а может статься, и быстро перегоним их, потому что мы имеем перед ними великие преимущества, бескорыстные сердца, простодушные верования, потому что мы не удручены подобно им тяжелым прошлым, не омрачены закоснелыми предрассудками и пользуемся плодами всех их изобретений, напряжений и трудов» (II, 128–129).
Вопреки расхожим представлениям (см., напр.: Валицкий, 2012: 53), исторический скепсис Чаадаева относительно будущего России не уменьшается, а начинает расти после 1835 года. «Апология сумасшедшего» в этом плане представляет собой не перемену взглядов и не «уступки» (вопреки, напр.: Карпович, 2012: 97), а последний значимый отголосок его настроений первой половины 1830-х годов. Все надежды на великую будущность основываются им в «Апологии…» на том же представлении о России как о не имеющей прошлого — и именно потому способной иметь будущее:
Все надежды на великую будущность основываются им в «Апологии…» на том же представлении о России как о не имеющей прошлого — и именно потому способной иметь будущее:
«Петр Великий нашел у себя только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова Европа и Запад; и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться; как бы велик ни был гений этого человека и необычайна энергия его воли, то, что он сделал, было возможно лишь среди нации, чье прошлое не указывало ей властно того пути, по которому она должна была идти, чьи традиции были бессильны создать ей будущее, чьи воспоминания смелый законодатель мог стереть безнаказанно. Если мы оказались так послушны голосу государя, звавшего нас к новой жизни, то это, очевидно, потому, что в нашем прошлом не было ничего, что могло бы оправдать сопротивление» (I, 527, ср.: I, 501, фр. 204).
Но именно в эти годы позиция Чаадаева начинает существенно меняться: его ожидания великого будущего предполагали имперское видение, универсальная монархия тем лучше могла осуществить свою задачу, что опиралась на народ, не имеющий ничего частного — и, следовательно, способный воспринять в себя всеобщее. В его кабинете висели рядом два портрета — Папы и императора Александра I [16], память которого он чтил до самой смерти [17]. В письме к А.И. Тургеневу, приходящемся на осень 1835 года, Чаадаев замечает:
В его кабинете висели рядом два портрета — Папы и императора Александра I [16], память которого он чтил до самой смерти [17]. В письме к А.И. Тургеневу, приходящемся на осень 1835 года, Чаадаев замечает:
«И почему бы я не имел права сказать и того, что Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную политику; что ее дело в мире есть политика рода человеческого [выд. нами. — А.Т.]; что Император Александр прекрасно понял это и что это составляет лучшую славу его; что Провидение создало нас слишком великими, чтоб быть эгоистами; что оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества; что все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому приходить; что в этом наше будущее, в этом наш прогресс; что мы представляем огромную непосредственность без тесной связи с прошлым мира, без какого-либо безусловного соотношения к его настоящему; что в этом наша действительная логическая данность; что, если мы не поймем и не признаем этих наших основ, весь наш последующий прогресс во веки будет лишь аномалией, анахронизмом, бессмыслицей [выд. нами. — А.Т.]» (II, 96).
нами. — А.Т.]» (II, 96).
Именно в 1835 году, с того времени, как доктрина «народности» провозглашается в качестве официальной и одновременно появляются и распространяются разные ранние изводы националистических доктрин, Чаадаев все более мрачно смотрит на происходящее и на перспективы России с точки зрения своей историософии. Отзываясь на триумфальную постановку «Скопина-Шуйского» Н. Кукольника в письме к А.И. Тургеневу от 1 мая 1835 года, он быстро переходит от возмущения по поводы драмы к обсуждению тех тенденций, которые она одновременно знаменует и поддерживает:
«В настоящую минуту у нас происходит какой-то странный процесс в умах. Вырабатывается какая-то национальность, которая, не имея возможности обосноваться ни на чем, так как для сего решительно отсутствует какой-либо материал, будет, понятно, если только удастся соорудить что-нибудь подобное, совершенно искусственным созданием. Таким образом, поэзия, искусство, все это рухнет в бездну лжи и обмана, и это в тот век, когда, в других местах, огромный анализ расправляется с последними остатками иллюзий в области понимания. В настоящее время невозможно предвидеть, куда нас это приведет; быть может, в глубине всего этого скрывается некоторое добро, которое и проявится в назначенный для сего час; возможно, что это тоже своего рода анализ, который приведет нас в конце концов к сознанию того, что мы должны искать обоснования для нашего будущего в высокой и глубокой оценке нашего настоящего положения перед лицом века, а не в некотором прошлом, которое является не чем иным, как небытием. Как бы то ни было, в ожидании того, что предначертания Провидения станут явными, это направление умов представляется мне истинным бедствием. […] Если это направление умов продолжится, мне придется проститься с моими прекрасными надеждами: можете судить, чувствую ли я себя ввиду этого счастливым. Мне, который любил в своей стране лишь ее будущее, что прикажете мне тогда делать с ней? Этой точке зрения, свободной от всяких предрассудков, от всяких эгоизмов, замедляющих еще в старом обществе конечное развитие разума, точке зрения, к которой принуждает нас самая природа вещей, этому могучему порыву, который должен был перенести нас одним скачком туда, куда другие народы могли прийти лишь путем неслыханных усилий и пройдя через страшные бедствия, этой широкой мысли, которая у других могла быть лишь результатом духовной работы, поглотившей целые века и поколения, предпочитают узкую идею, отвергнутую в настоящее время всеми нациями и повсюду исчезающую.
В настоящее время невозможно предвидеть, куда нас это приведет; быть может, в глубине всего этого скрывается некоторое добро, которое и проявится в назначенный для сего час; возможно, что это тоже своего рода анализ, который приведет нас в конце концов к сознанию того, что мы должны искать обоснования для нашего будущего в высокой и глубокой оценке нашего настоящего положения перед лицом века, а не в некотором прошлом, которое является не чем иным, как небытием. Как бы то ни было, в ожидании того, что предначертания Провидения станут явными, это направление умов представляется мне истинным бедствием. […] Если это направление умов продолжится, мне придется проститься с моими прекрасными надеждами: можете судить, чувствую ли я себя ввиду этого счастливым. Мне, который любил в своей стране лишь ее будущее, что прикажете мне тогда делать с ней? Этой точке зрения, свободной от всяких предрассудков, от всяких эгоизмов, замедляющих еще в старом обществе конечное развитие разума, точке зрения, к которой принуждает нас самая природа вещей, этому могучему порыву, который должен был перенести нас одним скачком туда, куда другие народы могли прийти лишь путем неслыханных усилий и пройдя через страшные бедствия, этой широкой мысли, которая у других могла быть лишь результатом духовной работы, поглотившей целые века и поколения, предпочитают узкую идею, отвергнутую в настоящее время всеми нациями и повсюду исчезающую. Ну что ж, пусть будет так; я больше в это вмешиваться не стану. Я громко высказал свою мысль, остальное будет делом Бога» (II, 91–93).
Ну что ж, пусть будет так; я больше в это вмешиваться не стану. Я громко высказал свою мысль, остальное будет делом Бога» (II, 91–93).
М.Ф. Орлову Чаадаев писал уже 1837 году, после «философической истории»: «Некогда я мечтал, что мне дано распространять среди них [своих друзей. — А.Т.] кое-какие святые истины, и я говорил с ними, и подчас они слушали меня. Но в один прекрасный день нагрянул ураган, самум подул; и поднялся тогда прах пустыни, забил души и заглушил мой голос. Да будет воля Твоя, о мой Боже, суды твои всегда праведны, и надежды наши всегда тщетны. А все же это был прекрасный сон и сон доброго гражданина. Почему мне не сказать этого? Я долгое время, признаться, стремился к отрадному удовлетворению увидать вокруг себя ряд целомудренных и строгих умов, ряд великодушных и глубоких душ, чтобы вместе с ними призвать милость неба на человечество и на родину. Я думал, что страна моя, юная, девственная, не испытывающая жестоких волнений, оставивших повсюду в других местах глубокие следы в умах и поныне столь часто отвращающих умы от добрых и законных путей, чтобы бросить их на пути дурные и преступные, предназначена первая провозгласить простые и великие истины, которые рано или поздно весь мир должен принять; что России выпала величественная задача осуществить раньше всех других стран все обетования христианства, ибо христианство осталось в ней незатронутым людскими страстями и земными интересами, ибо в ней оно, подобно своему божественному основателю, лишь молилось и смирилось, а потому мне представлялось вероятным, что ему здесь дарована будет милость последних и чудеснейших вдохновений [выд. нами. — А.Т.].
нами. — А.Т.].
Химеры, мой друг, химеры все это! Да совершится будущее, каково бы оно ни было, сложим руки, и будь что будет, или, склонившись перед святыми иконами, как наши благочестивые и доблестные предки, эти герои покорности, станем ждать в молчании и мире душевном, чтобы оно разразилось над нами, какое бы то ни было, доброе или злое» (II, 125–126).
Тем не менее, и в последующие почти два десятилетия, что ему оставалось жить, Чаадаев принципиально не изменил свои взгляды, лишь с возрастающим сарказмом наблюдая текущую политику и увлечения московских славянофилов и иных представителей националистических течений русской мысли. Привычно язвя, например, о защите диссертации Ю.Ф. Самарина (II, 168–171, письмо к А.И. Тургеневу от июня 1845 года) или в письме к де Сиркуру от 1854 года о росте «нашего патриотизма» и о новых министерских назначениях: «[…] все высшие административные посты в империи заняты сейчас людьми, наиболее способными помешать нам сбиться с правильного пути» (II, 269).
А о скандальной грубости и «простоте нравов» семейства московского генерал-губернатора (с 1848-го по 1859 год) А.А. Закревского (см., напр., характеристику: Чичерин, 2010: 191–192, 203) отзывался так:
«Вы знаете, что старый либерализм предыдущего царствования — бессмысленная аномалия в стране, благоговейно преданной своим государям […], искоренен у нас, слава Богу, уже давно; но, к несчастью, кое-что осталось в приемах и в языке людей, которые составляют то, что называют “хорошим обществом”. И вот, в настоящих условиях, даже это могло представлять некоторое неудобство в глазах дальновидного администратора. Итак, салоны нового генерал-губернатора, еще недавно место встреч избранного общества, вскоре лишились своих прежних завсегдатаев и наполнились новым обществом, столь же чуждым прежнему, сколько послушным благоразумным требованиям текущего дня. С этой поры там не стали знать другой свободы языка, как та, которую несет с собой нежная легкость нравов, лишенных всякой чопорной стыдливости, любезное наследство эпохи, знаменитой в современной истории Франции. Не могу передать вам все то благо, которое извлекают наши молодые люди из нового режима, который установился в доме градоначальника. В настоящее время нет ничего опаснее, как оставлять молодые умы под властью этих вкусов, слишком прилежных к ученью, где бесплодная работа мысли питается всякого рода предметами воображения, и вот любезное гостеприимство семьи нашего генерал-губернатора предложило очаровательное лекарство против этого зла. Веселая фамильярность матери семейства, пленительные манеры дочери произвели настоящий переворот в пользу правого дела в привычках нашей молодежи» (II, 270–271).
Отношение к славянофильству со стороны Чаадаева претерпело изменение во второй половине 1840-х годов, когда он убедился, что националистический поворот не является кратковременным увлечением. Тогда он попытался встроить его в свое историческое видение, сообщая парижскому корреспонденту:
«Национальная реакция продолжается по-прежнему. Если ей случается иногда слишком увлечься своими собственными созданиями, принять на себя повадку власти, возомнить себя важной барыней, то не следует за это на нее слишком сердиться. Это черта всех реакций: влюбляться в самое себя, верить слишком слепо в свою правоту, впадать во всякого рода высокомерие, в особенности когда эти реакции не встречают на своем пути серьезного противодействия, а вы знаете, что противодействие на этой почве в нашей стране почти немыслимо. Идея туземная, т.е. идея исключительно таковая, торжествует, потому что в глубине этой идеи есть правда и добро [выд. нами. — А.Т.], потому что она, естественно, должна восторжествовать вслед за тем продолжительным подчинением идеям иностранным, из которого мы выходим. Настанет день, конечно, когда новое сочетание мировых идей с идеями местными положит конец ее торжеству, а до тех пор нужно терпеть ее успехи и даже злоупотребления, которые она при этом допускает [выд. нами. — А.Т.]» (II, 185, письмо к А. де Сиркуру от 26 апреля 1846 года).
В годы Крымской войны он вновь вернется к своей однозначно негативной оценке националистических учений, именуя их (в первую очередь славянофильство) «ретроспективными утопиями» (utopies retrospectives — I, 565, ср.: Чаадаев, 1934) [18] и ставя им в вину сами катастрофические события 1853–1856 годов:
Правительство «не поощряло их, я знаю; иногда даже оно на удачу давало грубый пинок ногой наиболее зарвавшимся или наименее осторожным из их блаженного сонма [19]; тем не менее, оно было убеждено, что как только оно бросит перчатку нечестивому и дряхлому Западу, к нему устремятся симпатии всех новых патриотов, принимающих свои неоконченные изыскания, свои бессвязные стремления и смутные надежды за истинную национальную политику, равно как и покорный энтузиазм толпы, которая всегда готова подхватить любую патриотическую химеру, если только она выражена на том банальном жаргоне, какой обыкновенно употребляется в таких случаях. Результат был тот, что в один прекрасный день авангард Европы очутился в Крыму» (I, 571–572) [20].
Единственная принципиальная корректива, внесенная Чаадаевым в свою историософию в последние десятилетия, — это оценка православия. В одном из наиболее поздних фрагментов (№ 203) он переосмысливает в позитивном плане его роль — теперь смирение обращается в достоинство: «Восточная церковь, по-видимому, была предназначена совсем для другого: она должна была идти иными путями. Ее роль состояла в том, чтобы явить мощь христианства, предоставленного единственно своим силам; она в совершенстве выполняла это высокое призвание» (I, 500).
Или как он ранее, в 1845 году, писал де Сиркуру: «Наша […] церковь по существу — церковь аскетическая, как ваша по существу — социальная: отсюда равнодушие одной ко всему, что совершается вне ее, и живое участие другой ко всему на свету. Это — два полюса христианской сферы, вращающейся вокруг оси своей безусловной истины, своей действительной истины. На практике обе церкви часто обмениваются ролями, но принципы нельзя оценивать по отдельным явлениям» (II, 174). В этой поздней интерпретации нетрудно увидеть сохранение основного принципа: именно отсутствие, недостаток дают возможность предполагать великую будущность, поскольку иначе остался бы неясен сам факт существования подобного феномена. Допустить его напрасность — значило бы утверждать отсутствие смысла в течении времени, а в осмысленности прошлого Чаадаев никогда не сомневался. Собственно, из столкновения этой веры в смысл и зримой бессмыслицы российского существования, как ему казалось наряду с целым рядом других «религиозных западников» Александровской эпохи, и родилась его историософская идея.
В заключение отметим, что сам Чаадаев неоднократно подчеркивал, что «окончил все, что имел сделать, сказал все, что имел сказать» (II, 67, письмо к А.С. Пушкину от 17 июня 1831 года). Тексты, написанные им в последующие двадцать пять лет, корректируют, уточняют сказанное ранее, служат откликом на меняющуюся ситуацию, но не меняют главного, напротив, позволяют его лучше осознать — как неизменный центр посреди множества самых изменчивых суждений.
Литература
Московский сборник (2014) / Изд. подгот. В.Н. Греков. СПб.: Наука.
Переписка (2009) В.А. Жуковского и А.П. Елагиной: 1813–1853 / Сост., подгот. текста, ст. и коммент. Э.М. Жиляковой. М.: Знак.
Переписка (1982) А.С. Пушкина. В 2 т. Т. 1 / Вступ. ст. И.Б. Мушиной; сост. и коммент. В.Э. Вацуро и др. М.: Художественная литература.
Переписка (1982а) А.С. Пушкина. В 2 т. Т. 2 / Сост. и коммент. В.Э. Вацуро и др. М.: Художественная литература.
Пушкин А.С. (1935) Письма. Т. III. 1831–1833 / Под ред. и с прим. Л.Б. Модзалевского. М.; Л.: Academia.Свербеев Д.Н. (2014) Мои записки / Изд. подгот. М.В. Батищев, Т.В. Медведева; отв. ред. С.О. Шмидт. М.: Наука.Струве Г.П. (1950) Русский европеец. Материалы для биографии и характеристики князя П.Б. Козловского. Сан-Франциско: Дело.Тарасов Б.Н. (1990) Чаадаев. 2-е изд., доп. М.: Молодая гвардия.Тарасов Б.Н. (1989) Этические взгляды П.Я. Чаадаева. М.: Знание.Тарасов Б.Н. (1988) «Преподаватель с подвижной кафедры». Новое и забытое о П.Я. Чаадаеве и его современниках // Литературная учеба. 1988. № 2.Флоровский Г., прот. (1989 [1937]) Пути русского богословия. 4-е изд. / Предисл. прот. И. Мейендорфа. P.: YMCA-Press.Цимбаев Н.И. (2007) Историософия на развалинах империи. М.: Издательский дом Международного ун-та в Москве.Чаадаев П.Я. (1991) Полное собрание сочинений и избранные письма. В 2 т. / Отв. ред. З.А. Каменский. М.: Наука.Чаадаев П.Я. (1989) Статьи и письма / Сост., вступ. ст. и коммент. Б.Н. Тарасова. 2-е изд., доп. М.: Современник.Чаадаев П.Я. (1934). Неопубликованная статья / Предисл. и коммент. [кн.] Д.[И.] Шаховского // Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. Т. III–IV / Под ред. Влад. Бонч-Бруевича, Л.Б. Каменева и А.В. Луначарского. М.; Л.: Academia. С. 365–390.Чаадаев П.Я. (1914) Сочинения и письма П.Я. Чаадаева / Под ред. М.[О.] Гершензона. М.: Путь.Чичерин Б.Н. (2010) Воспоминания. В 2 т. Т. 1: Москва сороковых годов. Путешествие за границу. М.: Изд-во им. Сабашниковых.
Примечания
↑1. Об этом повороте в жизни Чаадаева сохранился известный рассказ Жихарева: «Профессор Альфонский (потом ректор Московского университета), видя его в том нестерпимом для врача положении, которое на обыкновенном языке зовется “ни в короб, ни из короба”, предписал ему “развлечение”, а на жалобы: “Куда же я поеду, с кем мне видеться, как где быть?” — отвечал тем, что лично свез его в московский английский клуб. В клубе он встретил очень много знакомых, которых и сам был доволен видеть и которые и ему обрадовались. Чаадаев, из совершенного безлюдья очутившийся в обществе, без всякого преувеличения мог быть сравнен с рыбой, из сухого места очутившейся в воде, с волком, из клетки попавшим в лес, пожалуй, с Наполеоном, из английского плена вдруг увидевшим себя свободным в Европе, во главе трехсот тысяч солдат. Побывавши в клубе, увидав, что общество удостаивает его еще вниманием, он стал скоро и заметно поправляться, хотя к совершенному здоровью никогда не возвращался. С тех пор, без дальних околичностей, он объявил профессора Альфонского человеком добродетельным […], своим спасителем, оказавшим ему услугу и одолжение не врача просто, а настоящего друга» (Жихарев, 1989: 85).
↑2. Чаадаев скончался 14 апреля 1856 года, а предваряющее рукопись воспоминаний письмо к сыну, А.Д. Свербееву, датировано автором 11 мая 1856 года (текст письма приведен в комментариях к изданию «Записок»: Свербеев, 2014: 843–844).
↑3. 23 августа 1831 года В.А. Жуковский писал А.И. Тургеневу: «Манускрипт Чаадаева он [т.е. Пушкин. —
А.Т.] давал мне читать и взял его у меня, чтобы отправить к Чаадаеву. Вероятно, что он уже и получен» (Жуковский, 1895: 258). Вопреки мнению М.И. Гиллельсона, полагавшего, что Чаадаев получил оригинал своей рукописи в августе 1831 года (Вацуро, Гиллельсон, 1986: 172), и В.В. Сапова, предположившего (на основании письма А.И. Тургенева к Пушкину от 29 октября 1831 года, из которого ясно, что Чаадаев еще рукопись не получил), что Пушкин вернул ее Чаадаеву лично в свой московский приезд в декабре 1831 года. Еще в январе 1832 года Чаадаев не располагал оригиналом, как явствует из недавно опубликованного письма А.П. Елагиной к Жуковскому от 11 января 1832 года, в котором она в числе прочего передает: «Также Чаадаев вас просит прислать его тетрадь, которую отдал вам Пушкин» (Переписка, 2009: 376).↑4. Здесь и далее все ссылки на издание: Чаадаев, 1991 — даются в тексте, римская цифра указывает номер тома, арабская — номер страницы.
↑5. Официальное постановление цензурного комитета от 31 января 1833 года см.: II, 536–538.
↑6. Исходный вариант этой интерпретации был представлен Гершензоном (Гершензон, 2000 [1908]: 441) с более поздней датировкой, 1836 года — уточнение датировки см.: Чаадаев, 1914: 196.
↑7. Получил рукопись «Философических писем» он всего за несколько дней до этого, впервые увидев Чаадаева в 1826 году. Брата Николая об этой встрече в письме от 2 июля 1831 года А.И. Тургенев извещал: «Он обнял меня нежно и в первое же свидание отдал мне часть своего сочинения, в роде Мейстера и Ламенне, и очень хорошо написанное по-французски» (II, 307).
↑8. В последующем Чаадаев подробно выскажется по этому поводу, полемизируя с И.В. Киреевским, отзываясь на слова последнего о «православном христианстве» («Письмо из Ардатова в Париж», 1845): «Что это за православное христианство? По сие время слыхали мы только о церкви православной, хотя, впрочем, в строгом смысле и это не что иное, как плеоназм, но плеоназм, по крайней мере, необходимый для того, чтобы различить церковь, почитающую себя православной, от тех церквей, которых таковыми не почитает; но какая, скажите, была нужда присваивать это прилагательное самому христианству? Разве может быть христианство не православное, т.е. ложное, а все-таки христианство? Разве в области вечного духа непременной правды есть место для какой-нибудь полуправды? Странно, как могли родиться в той именно духовной сфере, которая по праву называет себя единственно истинной,
эта несознательность мысли, эта невнятность христианского понятия, это необдуманное сочетание слов, допускающие как будто возможность христианства хотя и не истинного, однако не теряющего через то права называться христианством [выд. нами. — А.Т.]» (I, 547–548).↑9. О философии религии П.Я. Чаадаева см. сжатый, но весьма глубокий очерк: Антонов, 2013: 37–41.
↑10. Поясняя мотивы императорского решения, австрийский посланник при Петербургском дворе граф Финкельмон в донесении канцлеру Меттерниху от 7.XI.1836 писал: «Император, исходя из того, что только больной человек мог написать в таком духе о своей родине, ограничился пока распоряжением, чтобы он был взят под наблюдение двух врачей и чтобы через некоторое время было доложено о его состоянии. Поступая подобным образом, император имел явное намерение как можно скорее прекратить шум, вызванный этим письмом» (цит. по: Вацуро, Гиллельсон, 1986: 167).
↑11. На данный момент «вопрос о том, состоялось ли личное знакомство де Кюстина с Чаадаевым […] не поддается удовлетворительному решению» (Мильчина, Осповат, 2008: 961, ср.: Там же: 905).
↑12. Помимо кн. Козловского можно вспомнить, например, уже упомянутого выше кн. Ивана Гагарина, племянника С.П. Свечиной, с которой Чаадаев был также хорошо знаком и регулярно упоминал о ней в письмах к А.И. Тургеневу, интересуясь новостями о ее парижском салоне, постоянным посетителем которого был его корреспондент.
↑13. Д.Н. Свербеев вспоминал о разговорах с Чаадаевым в Берне в 1824 году, во время трехлетнего заграничного путешествия последнего: «На вечерах у меня Чаадаев, оставивший службу […] и очень недовольный собой и всеми, в немногих словах выражал свое негодование на Россию и на всех русских без исключения. Он не скрывал в своих резких выходках глубочайшего презрения ко всему нашему прошедшему и настоящему и решительно отчаивался в будущем. Он обзывал Аракчеева злодеем, высших властей военных и гражданских — взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами, все остальное — коснеющим и пресмыкающимся в рабстве» (Свербеев, 2014: 377).
↑14. Оценка того исторического феномена, который в последующем получил название «движение декабристов», у Чаадаева не двоится между текстами, предназначенными к опубликованию, и текстами частного характера. Так, в оставшемся неотправленным письме к И.Д. Якушкину от 2 мая 1836 года он аналогично интерпретировал декабристов как очередной пример, подтверждающий его оценку русского настоящего, его безосновности, данную в первом «Философическом письме…»: «Ах, друг мой, как это попустил Господь совершиться тому, что ты сделал? Как мог он тебе позволить до такой степени поставить на карту свою судьбу, судьбу великого народа, судьбу твоих друзей, и это тебе, тебе, чей ум схватывал тысячу таких предметов, которые едва приоткрываются для других ценою кропотливого изучения? Ни к кому другому я бы не осмелился обратиться с такою речью, но тебя я слишком хорошо знаю и не боюсь, что тебя больно заденет глубокое убеждение, каково бы оно ни было. Я много размышлял о России с тех пор, как роковое потрясение так разбросало нас в пространстве, и я теперь ни в чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не хватает прежде всего глубины. Мы прожили века так, или почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей; и вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина. Когда восемнадцать веков назад истина воплотилась и явилась людям, они убили ее; и это величайшее преступление стало спасением мира; но если бы истина появилась вот сейчас, среди нас, никто не обратил бы на нее никакого внимания, и это преступление ужаснее первого, потому что оно ни к чему бы не послужило» (II, 105–106).
↑15. Чтобы научиться «благоразумно жить в данной действительности», обустроить свой быт, перестав существовать так, что «в домах наших мы как будто определены на постой», Чаадаев считает возможным, только поговорив «сначала еще немного о нашей стране», добавляя: «при этом мы не отклонимся от нашей темы. Без этого предисловия вы не сможете понять, что я хочу Вам сказать» (I, 324).
↑16. А.И. Тургенев писал брату Николаю 2 июля 1831 года, увидев Чаадаева после более чем четырехлетнего затворничества: «Был я у Петра Яковлевича. Нашел его весьма изменившимся: постарел, похудел и почти весь оплешивел. […] Повел меня в свой кабинет и показал твой портрет между людьми, для него любезнейшими: импер[атором] Александром и Папою» (II, 307).
↑17. См., напр., письмо к А.Я. Булгакову от 25 июля 1853 года (II, 266).
↑18. Этот оборот впервые встречается в письме к Шеллингу от 20 мая 1842 года (II, 145). В письме к В.А. Жуковскому от 27 мая 1851 года, написанном по-русски, он, видимо, использует в качестве его русского аналога оборот «возвратное движение», «одним из ревностных служителей которого» называя К.С. Аксакова (II, 254).
↑19. Имеются в виду репрессивные меры правительства в отношении ряда славянофилов: арест в 1847 году Ф.В. Чижова, арест в 1849 году Ю.Ф. Самарина и И.С. Аксакова и их административная ссылка, цензурный запрет в 1852 году 2-го тома «Московского сборника» и фактический запрет печататься, наложенный на ведущих славянофилов, в том числе на А.С. Хомякова, К.С. и И.С. Аксакова и др. (см.: Цимбаев, 2007: 172–173; Московский сборник, 2014: 860–863, 917–920, 1048–1051).
↑20. Основное возражение в адрес славянофилов, сформулированное Чаадаевым, напоминает последующие суждения, напр., К.Н. Леонтьева: «ретроспективная утопия», национализм славянофилов стремится, как и его предшественники, убедить в том, что русский народ — такой же народ, как и другие, тогда как он не похож на них, исключителен: «История нашей страны, например, рассказана недостаточно; из этого, однако, не следует, что ее нельзя разгадать. Мысль более сильная, более проникновенная, чем мысль Карамзина, когда-нибудь это сделает. Русский народ тогда узнает, что он такое, или, вернее, то, чего в нем нет. Он принимает себя теперь за такой же народ, как и другие; тогда, я уверен, он с ужасом убедится в своем нравственном ничтожестве; он узнает, что провидение пока еще давало ему жизнь лишь для того, чтобы иметь в его лице динамическую силу в мире, и пока еще не для того, чтобы проявить себя сознательно. Тогда мы поймем, что имеем вес на земле, но еще не действовали. Подобно тому, как народы, образовавшие новое общество, были сначала призваны на мировую арену как материальная сила и заняли свое место в порядке сознательном лишь после того, как подчинились игу его закона, точно так же и мы в настоящее время представляем только силу физическую; силой нравственной мы станем тогда, когда совершим то же, что совершили они. Но когда это будет?» (I, 456, запись № 42-а).
Источник: Социологическое обозрение. 2016. Т. 15. № 3.
Восемь «Философических писем» от Петра Чаадаева
Русский философ и публицист Петр Чаадаев, создатель русской историософии, был официально объявлен сумасшедшим, целый год находился под наблюдением медиков и полиции, после чего получил статус «исцеленного», но с пожизненным запретом что-либо писать.
Все эти события произошли после публикации в 1836 году в литературно-общественном журнале («Телескоп») «Философических писем» Чаадаева. Точнее, русского перевода первого из них. Автор размышляет там о положении русского народа и его религиозном обособлении, о судьбе России и называет главные пороки русской жизни — самодержавие и крепостничество.
По его концепции, нравственность, состоящая из христианских идеалов и ценностей, — движущая сила общественного прогресса. А исторический процесс — это замысел бога, и его развитие невозможно без развития духа. Поэтому самое главное в человеке и то, чему его стоит учить, — сочетание разума и нравственности.
«Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного» (из резолюции Николая I).
Известно, что эти письма созданы в период, когда Чаадаев находился в добровольном «затворничестве» в деревне.
«Чаадаев почти три года жил по большей части отшельником. Он редко выходил из дому, мало с кем виделся. К этим немногим принадлежал Пушкин, которого судьба привела в Москву почти в одно время с ним» (М.Н. Лонгинов, опубликовано в журнале «Русский вестник», 1862).
Всего писем было восемь, написаны они были на французском языке в период с 1828 по 1830 год и адресованы «сударыне» — так автор называл свою знакомую Екатерину Панову.
«Я познакомился с госпожой Пановой в 1827 году в подмосковной, где она и муж ее были мне соседями. Там я с нею видался часто, потому что в бездомстве находил в этих свиданиях развлечение. На другой год, переселившись в Москву, куда и они переехали, продолжал я с нею видаться… Все это пишу к Вашему превосходительству, потому что в городе много говорят о моих сношениях с нею, прибавляя разные нелепости…Что касается до того, что эта несчастная женщина теперь, в сумасшествии, говорит, например, что она республиканка, что она молилась за поляков и прочий вздор, то я уверен, что если спросить ее, говорил ли я с ней когда-либо про что-нибудь подобное, то она, несмотря на свое жалкое положение, несмотря на то, что почитает себя бессмертною… конечно, скажет, что нет» (из показаний Чаадаева московскому обер-полицмейстеру Л.М. Цынскому от 7 января 1837 года, опубликованных в журнале «Мир божий», 1905).
Во время следствия Чаадаев признался, что обсуждал с ней в личных беседах разные религиозные и философские вопросы, но считает ее немного не в своем уме. И в целях ее «успокоения» придумал писать ей письма, но затем дал почитать знакомым, а тем так понравилось, что они без его разрешения отправили первый текст в «Телескоп».
А редкие встречи, на которых Чаадаев появлялся в то время, говорили о его собственном не самом радостном внутреннем состоянии.
После объявления резолюции Николая I Министром народного просвещения того века Семеном Уваровым журнал «Телескоп» был закрыт, а главного редактора Николая Надеждина отправили в ссылку.
«Философические письма» Чаадаева серьезно повлияли на развитие русской философии.
Сам автор, несмотря на запрет, в 1837 году заканчивает свою последнюю работу «Апология сумасшедшего» и надеется, что ее опубликуют хотя бы после его смерти. В этой работе он попытался «смягчить» то, о чем писал в «Философических письмах», размышляет о «толпе» и говорит свою знаменитую фразу о том, что «прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества…».
Галерея
Конец Галереи
Предлагаем почитать несколько отрывков-размышлений автора на самые разные темы из «Философических писем». Найти и заказать их можно в электронном каталоге Некрасовки.
Взгляните вокруг. Разве что-нибудь стоит прочно? Можно сказать, что весь мир в движении. Ни у кого нет определенной сферы деятельности, нет хороших привычек, ни для чего нет правил, нет даже и домашнего очага, ничего такого, что привязывает, что пробуждает ваши симпатии, вашу любовь; ничего устойчивого, ничего постоянного; все течет, все исчезает, не оставляя следов ни вовне, ни в вас.
Надо избавиться от всякого суетного любопытства, разбивающего и уродующего жизнь, и первым делом искоренить упорную склонность сердца увлекаться новинками, гоняться за злобами дня и вследствие этого постоянно с жадностью ожидать того, что случится завтра. Иначе вы не обретете ни мира, ни благополучия, а одни только разочарования и отвращение.
У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам бог весть откуда. Так как мы воспринимаем всегда лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не образуются те неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем.
Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свете.
Массы подчиняются известным силам, стоящим у вершин общества. Непосредственно они не размышляют. Среди них имеется известное число мыслителей, которые за них думают, которые дают толчок коллективному сознанию нации и приводят ее в движение. Незначительное меньшинство мыслит, остальная часть чувствует, в итоге же получается общее движение. Это справедливо для всех народов земли; исключение составляют только некоторые одичавшие расы, которые сохранили из человеческой природы один только внешний облик.
Мы лишь с грехом пополам боремся с крайностями времен года, и это в стране, о которой можно не на шутку спросить себя: была ли она предназначена для жизни разумных существ.
На мой взгляд, нет ничего более несовместимого с правильным умственным укладом, чем жажда чтения новинок. Повсюду мы встречаем людей, ставших неспособными серьезно размышлять, глубоко чувствовать вследствие того, что пищу их составляли одни только эти недолговечные произведения, в которых за все хватаются, ничего не углубив, в которых все обещают, ничего не выполняя, где все принимает сомнительную или лживую окраску и все вместе оставляет после себя пустоту и неопределенность.
Да, я свободен, могу ли я в этом сомневаться? Пока я пишу эти строки, разве я не знаю, что я властен их не писать? Если провидение и определило мою судьбу бесповоротно, какое мне до этого дело, раз его власти я не ощущаю? Но с идеей о моей свободе связана другая ужасная идея, страшное, беспощадное следствие ее — злоупотребление моей свободой и зло как его последствие.
Пора обратиться снова к вам, сударыня. Мне, признаться, трудно оторваться от этих широких горизонтов. С этой высоты открывается перед моими глазами картина, в которой почерпаю я все свои утешения; в сладостном чаянии грядущего блаженства людей мое прибежище, когда под гнетом обступающей меня печальной действительности я чувствую потребность подышать более чистым воздухом, взглянуть на более ясное небо.
Неудобный Чаадаев
- Чаадаев – один из самых неоднозначных персонажей историко-философской мысли XIX века, вокруг него существует множество мифов.
- Современные исследователи называют Чаадаева религиозным христианским философом, мистиком, первым оппозиционером и первым же западником, а также истинным патриотом.
- Фигура Петра Чаадаева стоит в центре очень многих дискуссий, споров, общественных движений. Его тексты двухсотлетней давности актуальны и сегодня.
Алексей Юдин: Как и почему до сих пор не дает нам покоя «неудобный» Чаадаев? Чаадаев Петр Яковлевич или Чаадаев-миф: с кем мы имеем дело? Как читали и что вычитывали у Чаадаева за прошедшие 200 лет?
У нас в гостях Вера Мильчина, филолог, переводчик, специалист в области русско-французских культурных связей, и Екатерина Лямина, также переводчик, филолог, культуролог и специалист по русской культуре конца XVIII – начала XIX века.
Честь представить Петра Яковлевича выпала нашему корреспонденту Ирине Мартин.
Ирина Мартин: Чаадаев – один из самых неоднозначных персонажей историко-философской мысли XIX века. Его тексты двухсотлетней давности пугающе остры и сегодня. «Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя», – заключает он в начале XIX века. И слова эти отголоском звучат в веке прошлом и нынешнем. Да и упомянутый им безъязыкий Царь-колокол до сих пор остается символом России.
В полемике или согласии с идеями, высказанными в его «Философических письмах», вырос Бакунинский анархизм и социализм Чернышевского, революционные настроения Герцена и славянофильство Хомякова.
Современные исследователи называют его религиозным христианским философом, мистиком, первым оппозиционером и первым же западником, а также истинным патриотом.
Сегодня сложно найти причины тех или иных поступков Чаадаева
Сегодня сложно найти причины тех или иных поступков Чаадаева. Даже его биограф Михаил Жихарев, знакомый с Петром Яковлевичем около 15 лет, так и не смог выяснить, почему, скажем, Чаадаев оставил военную карьеру на пике, почему вернулся в Россию через полгода после восстания декабристов, зачем опубликовал свое первое «философическое письмо» в «Телескопе», зная о последствиях. Это последнее обстоятельство особенно не дает покоя исследователям, ведь к моменту публикации первого письма Чаадаев уже весьма далеко отошел от идей, в нем изложенных.
Дамский философ без дамы сердца, денди без средств, публицист без права публикации, кем он был на самом деле – остается только гадать. Человек замкнутый и скрытный, он никому не поведал своих тайн. Это питало многочисленные сплетни еще при его жизни и создало невероятные легенды уже после его смерти. Сегодня его образ настолько неотделим от противоречивых мифов, что уже почти невозможно добраться до сколько-нибудь свободного от шелухи домыслов реального человека. А философию его, так или иначе, умудрялись приспособить под свои нужды настолько разные политические группы, что и она обросла бесчисленным количеством трактовок и смыслов.
Вера Мильчина: Я вспомнила очень известную фразу из романа Булгакова «Мастер и Маргарита», где бездарный поэт Рюхин размышляет про Пушкина: «Повезло, стрелял, стрелял в него этот белогвардеец, раздробил бедро и обеспечил бессмертие». Вот по отношению к Петру Яковлевичу в роли этого белогвардейца выступили сначала те, кто напечатал его письмо в «Телескопе».
Алексей Юдин: Я пытаюсь понять, почему в центре очень многих дискуссий, споров, мощнейших общественных движений стоит фигура Петра Чаадаева. Вот был упомянут Пушкин: известно, что между Петром Яковлевичем и Александром Сергеевичем было очень тесное интеллектуальное общение, известны письма, известно стихотворение Пушкина «Чаадаеву». И есть это финальное письмо 10 октября 1836 года, на излете пушкинской жизни, где он высказывает некоторые соображения критического плана по отношению к Петру Яковлевичу (оно не было отослано, ответа не было). Давайте попытаемся дать ответ Пушкину от имени Чаадаева. Пушкин пишет: «Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема. Однако нравы Византии никогда не были нравами Киева». Дальше про духовенство, религиозная тема: «Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все». Третье: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться». Дальше он перечисляет какие-то важные события и заканчивает так: «А Петр Великий, который один есть целая история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы?» Что бы мы ответили от лица Петра Яковлевича?
Вера Мильчина: Я не берусь отвечать за Чаадаева. Он и сам говорил и то, и противоположное. Про Византию не скажу, а про духовенство: лукавит Александр Сергеевич, говоря, что оно носит бороду, и все. Он прекрасно знал, и знали после него, что дело было не просто в том, что оно носит бороду, а в том, что духовенство, в частности низшее, было поставлено на такую роль, его не уважали. Это все описал не только маркиз де Кюстин (можно сказать, что он француз, русофоб и оклеветал), но и русские люди. Николай Иванович Тургенев написал прекрасную книгу «Россия и русские» на французском языке, там очень много про Россию. Чаадаев это знал. Он прекрасно знал, что низкого священника в поместье не посадят за стол даже с помещиками.
Алексей Юдин: Он бы стал защищать русское духовенство?
Вера Мильчина: Стал бы, наверное.
Алексей Юдин: А по поводу ничтожности отечественной истории?
Екатерина Лямина: Здесь у Пушкина была своя точка отсчета, он все-таки к тому времени уже считал себя историком. Более того, он писал беллетризованную прозу, к тому времени уже был автором двух таких текстов. Поэтому, наверное, в этом месте его письма мне слышится некоторое раздражение. Именно потому, как мне кажется, что Чаадаев писал по-французски, Пушкин сам пишет это письмо по-французски. У Чаадаева во французском дискурсе все это превращается в ряд изящных, завершенных, отточенных и, в общем, очень светских формул. Пушкин же, как мы знаем, любил историю домашним образом, поэтому Петр в «Арапе Петра Великого» у него в каком-то грязном заплатанном камзоле, а Пугачев имеет свою жестикуляцию, свои глаза…
Алексей Юдин: Чаадаев проносится сверху, он видит цивилизацию, какие-то движения, а Пушкин щупает ее руками. Но вот с чем Пушкин согласен: «Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь, что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние». А в черновике было еще жестче: «Наше современное общество столь же презренно, сколь глупо». Это действительно чаадаевская позиция, с которой соглашается Пушкин, – презрение к современному обществу, цинизм, все то, что он так изящно и пренебрежительно изъясняет по-французски?
Вера Мильчина: Это тоже концепция. И это не мешало ни Пушкину, ни потом Чаадаеву.
Идея о том, что Чаадаев всю жизнь прожил затворником, придуманная. Когда его приговорили к сидению дома, к невыезжанию, к щупанью пульса, через год он уже был уволен от всего этого, принимал у себя, бывал в других салонах, полемизировал, спорил, соглашался. Но концепция такая, что нет общественного мнения. Тут они бы, наверное, согласились.
Екатерина ЛяминаЕкатерина Лямина: Я думаю, расставляя все возможные кавычки: да, это либеральная точка зрения. И хотя Пушкин к концу 1836 года довольно сильно поправел, он гораздо больше, полагаю, отдавал должное (со всеми, опять-таки, допущениями) Николаю Павловичу в том числе, живя в Петербурге и гораздо более непосредственно наблюдая, что там происходит, чем Чаадаев, который жил во Левашовском флигеле на Новой Басманной улице. То есть в данном случае они как бы поменялись местами: сначала маленький и подрастающий Пушкин, который из лицея наблюдает супер-яппи, хиппи Чаадаева, на пике, молодого, красивого, элегантного, а теперь Чаадаев перемещается в Москву, сидит там, на него еще обрушивается эта напасть в виде щупанья пульса и объявления сумасшедшим, но он добровольно выбрал Москву, а Пушкин живет в Петербурге.
Алексей Юдин: Давайте теперь услышим подробности от Михаила Велижева, лучшего современного знатока Петра Чаадаева.
Михаил Велижев: Конечно, его фигура – мифопорождающая. Он сам довольно сильно способствовал созданию подобного рода мифологии. Для меня один из самых странных элементов в этой мифологии – это представление о нем как об одном из первых диссидентов, о том, что власть подавила несчастного Петра Яковлевича, который решил покритиковать ее публично, как следствие объявила его умалишенным, унизила, но он, тем не менее, сохранил ясность ума. История чаадаевского дела показывает, что как раз этот вердикт – назначить его умалишенным – стал результатом не объединения монолитной власти и стремлением авторитарной власти надавить на вольнодумца, а результатом глубокого конфликта внутри самих чиновников высокого ранга, которые при Николае I отвечали за идеологию. Министр народного просвещения Уваров собирался и хотел объявить Чаадаева преступником (связь его выступления с последствиями декабрьского восстания 1925 года). А Бенкендорф, начальник Третьего отделения, наоборот, по целому ряду причин предпочел подсказать императору совершенно другое решение.
Почему так существенно, что он именно сумасшедший? Сумасшедший по определению не имеет поддержки в обществе, общество может ему сочувствовать, но московское общество не разделяет точку зрения Чаадаева на православие, самодержавие и народность. Да, он испытывал невероятную фрустрацию от невозможности публичного выступления.
Известно, что после отставки в 1821 году он в 1833-м пытается вернуться на государственную службу, но делает это довольно оригинальным способом: пишет Дашкову и Бенкендорфу довольно наглые письма. Ничего не получается, потому что, разумеется, история 1821 года оказывает колоссальное влияние на его репутацию. Понятно, что во время декабрьского восстания он не был в Петербурге, но в 1826 году за ним следили, его обыскивали на границе, то есть репутация у него была не из лучших. Он не мог вернуться на службу туда, куда ему хотелось, он должен был пройти некоторый путь. Он отказался идти по этому пути, но осталась неудовлетворенная амбиция публичного говорения, известности.
Все до тех пор не знали, кто такой Петр Яковлевич, и внезапно узнали из-за колоссального скандала
В этом смысле она была абсолютно удовлетворена в 1836 году. Все до тех пор не знали, кто такой Петр Яковлевич, и внезапно узнали из-за колоссального скандала. Он, как известно, страшно струсил. Когда началась вся эта история, он сдал всех. И современники, которые слышали его в ноябре 1836 года, Денис Давыдов, Строганов, попечитель московского учебного округа (есть письма), поражались тому, как он «низко пал», обвинил во всем Надеждина, ходил по начальству и доказывал свою благонадежность.
Много кто, преимущественно в XIX веке и в ХХ тоже, эксплуатировал отдельные его выражения. Отчасти этому способствует и сама поэтика перевода чаадаевских текстов. Это не научные трактаты, а набор острых словечек, афоризмов, парадоксов, отдельных умозаключений, которые могут использоваться совершенно независимо от целого. Разумеется, дальше, как только его сочинения стали доступны в печати, многие доставали из него то, что им было необходимо. В этом смысле сама природа его сочинений подталкивала людей к тому, чтобы вырывать из контекста отдельные его красивые фразы, использовать их, думать над ними. Это происходит и сейчас.
Первое «философическое письмо» известно отдельными своими выражениями людям, которые никогда ничего не слышали ни про Чаадаева, ни про его текст: вот такой радикальный критик России, которого никогда не было ни до, не после, страшно пессимистичный и мрачный, который не видит решительно ничего хорошего. Такой мифологии, стремления к тому, чтобы вырывать его слова из контекста и применять их к современности, полно, это любят все.
Алексей Юдин: В этом комментарии Михаила Велижева прозвучала, что называется, последовательная деконструкция мифа. Но при этом в фигуре Чаадаева остается какой-то магнетизм.
Вера Мильчина: Михаил Брониславович не сказал про свою последнюю статью, где он показывает с документами в руках, что это приговорение к сумасшествию даже без медицинского осмотра, просто с точки зрения властей, было распространенной процедурой и касалось не одного Чаадаева. Более того, во многих случаях это делалось как защитная мера, то есть так же, как поступил Бенкендорф: вместо того чтобы сослать его на каторгу, посадить в тюрьму (я чуть-чуть утрирую), его объявляют сумасшедшим. А еще есть такой оттенок: там же Бенкендорф обыграл императора, потому что император, прочтя, написал, что это бессмыслица, достойная умалишенного.
Алексей Юдин: Почему так случилось: он что-то такое сказал, что нельзя было говорить, или он это сказал в какой-то неподходящий момент, или в какой-то неподходящей позе? Я процитирую Чернышевского: «Он произвольно присваивал себе должность, на которую не имел права. И такое самовольство, хотя до некоторой степени извиняемое усердием, конечно, не могло быть допущено». Это должность проповедника. Проповедничество, о котором говорит Чернышевский, это то, за что его и покарали?
Екатерина Лямина: Мне кажется, здесь имела место как раз смена позы. Все читали эти письма, они ходили из рук в руки еще до публикации. Чаадаев говорил подобные вещи в довольно большом количестве московских салонов и гостиных, и всех это устраивало.
Алексей Юдин: Почему тогда это рвануло?
Екатерина Лямина: Потому что Недеждин перевел это на русский язык. Надеждин – это горе-издатель журнала «Телескоп», очень образованный человек, профессор Московского университета, но с этим журналом он совершенно запутался, у него были неисполненные обязательства перед подписчиками, и ему нужен был какой-нибудь бум.
Вера Мильчина: Или преуспеет, или закроют, но закроют не за долги, а вроде как гонимого. Тут есть еще один момент: помимо того, что все знали эти мысли, во многом они ему не принадлежат. Недаром Александр Тургенев, очень образованный человек, называл его то «русский Местр», то «русский Балланш». Жозеф де Местр, например, много писал о том, что русские, в силу того, что они отключены от всемирной кафолической религии, отключены от истории.
Алексей Юдин: Меня заинтересовали проевропейские параллели в таком чаадаевском мифе – это глашатай, рыцарь свободы, аристократичный профиль, медаль человечества… Но при этом – упомянутый Жозеф де Местр… Здесь я вспоминаю слова писателя, историка Николая Ульянова: «Глашатай свободы, смелый обличитель реакции был учеником величайшего реакционера своего времени Жозефа де Местра. Это его философия эшафота проступает в писаниях пророка Тверского бульвара». Это справедливые слова?
Вера Мильчина: В принципе, справедливые.
Алексей Юдин: У меня сложилось восприятие Чаадаева через какую-то либеральную традицию.
Екатерина Лямина: Вы только что сказали – «глашатай свободы»: безусловно, либеральная традиция за этим стоит.
Алексей Юдин: Но при этом питался он из каких-то других источников.
Вера МильчинаВера Мильчина: Потому что он исходил из другой точки зрения. У него была концепция, что человечество может развиваться только в рамках всемирного христианства: поэтому, кстати, он не исключал Россию полностью. Нельзя говорить, что он думал про Россию только плохо, а потом испугался и после 1836 года стал говорить другое. Просто он говорил в одной перспективе, а мы читаем это в другой.
В 1842 году Александр Тургенев пишет брату: «Наш басманный философ против указа об обязанных крестьянах (а это был такой шажок к тому, чтобы крестьян освобождали, но без земли, чтобы они заключали условия с помещиками) и полагает, что рабство принадлежит к историческому существенному быту русскому и входит в состав оного, и с ним может и сам сей быт распасться». Это, к сожалению, Чаадаев настоящий.
Екатерина Лямина: Кроме того, он парадоксалист, что называется, «ради красного словца»… В салоне, в одной обстановке, в одном настроении это может прозвучать одним образом, а как дошло до дела: давай, освобождай своих крестьян, у тебя есть такая возможность – нет, не буду. Для него одно не противоречит другому.
Алексей Юдин: Осип Мандельштам говорит о Чаадаеве так: «У России нашелся для Чаадаева только один дар: нравственная свобода, свобода выбора. Никогда на Западе она не осуществлялась в таком величии, в такой чистоте и полноте». А дальше очень интересно: «Чаадаев был первым русским, в самом деле, идейно побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно. На него могли показывать с суеверным уважением, как некогда на Данте: «Этот был там, он видел – и вернулся».
Екатерина Лямина: Сплошная мифологизация.
Вера Мильчина: Давайте я вам расскажу конкретно про Россию. У Чаадаева это одна из формул, которая очень цитируется. В «Телескопе» сказано так: «Мы живем в каком-то равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте, без прошедшего и будущего». В переводе прекрасного ученого Дмитрия Шаховского это – «в плоском застое», но там нет никакого застоя, просто «в абсолютном спокойствии». Дальше Герцен это страшно амплифицировал, подчеркивал и писал сначала в книге «О развитии революционных идей в России», в 1881 году: «Чаадаев сказал России, что прошлое ее было бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого у нее нет». В «Былом и думах» это звучит так: «Он был совершенно прав, говоря, что прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет». Александр Бенкендорф сказал: «Точка зрения, с какой стоит понимать и описывать русскую историю: прошлое России было блестящее, ее настоящее более чем великолепно, а что касается ее будущего, оно превосходит все, что может представить себе самое смелое воображение». Можно подумать, что это действительно сказал Александр Бенкендорф. Но, к сожалению, мы это знаем как раз от упомянутого племянника Чаадаева Михаила Жихарева, который опубликовал это только в 1871 году, и он там ссылается на дядюшку: Петр Яковлевич ему рассказывал, что Бенкендорф сказал то-то и то-то. То есть, по-видимому, он придумал формулу, совсем отрицательную придумал Герцен, но Чаадаев выдвинул сначала в своем «философическом письме», что мы живем в полном равнодушии, но потом, очевидно, он же придумал формулу за Бенкендорфа. Это я к тому, что Чаадаев мог разворачиваться разными гранями. А эта формула (якобы Бенкендорфа) вообще, видимо, никому не принадлежит.
Алексей Юдин: У нас есть комментарий Павла Каплевича, инициатора постановки спектакля «Чаадский».
Чаадаев – провокатор, он провоцирует других на какие-то поступки, которые отвечают его устремлениям
Павел Каплевич: Мне Чаадаев интересен, во-первых, тем, что он не соглашается, во-вторых, тем, что он провокатор – он провоцирует других на какие-то поступки, которые отвечают его устремлениям, он такой определенный бациллоноситель. Просто бацилла бывает разная: у кого-то она бывает связана с социумом, у кого-то – с творчеством, у кого-то – с невозможностью жить в этих обстоятельствах, он начинает вибрировать. Он был очень ярким персонажем. Он блестящий, он интеллектуал, у него прекрасный слог, он бы мог стать писателем очень высокого уровня, но остался в тех рамках, в которых был. Мне импонирует, что он был визуалист, очень любил красивое. Считается, что дендизм в России пошел от него, он – один из самых ярких его представителей.
Это особо не изученная и не популяризированная фигура. Он очень точно выражал свое время, не случайно его так боялись. Лишний человек всегда современен, всегда есть что-то, чему он противопоставляется. Драматургический конфликт возникает, только когда что-то кому-то противопоставлено. В данном случае – Чаадаев и Чацкий. Наш спектакль – это просто одно из высказываний о роли людей, которые вознамериваются противопоставить себя большинству. Мы начинали работать три года назад. Актуальность была и тогда, постоянная тема «Горя от ума»: она не проходит, она всегда актуальна. Но мы оказались еще более актуальны, чем можно было предположить. Замышляя это, мы совершенно не предполагали того, что произошло с Кириллом Серебренниковым.
Екатерина Лямина: Это, конечно, следование пути радикальной мифологизации: Чаадаев страдает за все человечество в России, противостоит обществу. Но все, что мы тут говорили, свидетельствует о том, что никакому обществу Чаадаев не противостоял, он был идеально вписан в свое московское общество.
Вера Мильчина: Чаадаев был вписан в это общество, но одновременно продолжал спорить. Это из писем к тому же Александру Тургеневу. Он пишет про круг московских славянофилов, с которыми он виделся почти каждый день то у себя, когда они к нему приезжали, то у них (Хомяков, Самарин, Киреевский). Он с ними спорил. Вот что он пишет в 1841 году Александру Тургеневу, и это показывает, что такое чаадаевская ирония, глумливость и язвительность: «Здесь все живы и здоровы, народность преуспевает, по улицам разъезжают тройки с позвонками, лапотный элемент в полном развитии. Ежедневно делаю новые открытия, открываем славян повсюду. На днях вытолкаем из миру все не единокровное». А вот фраза из письма 1845 года: «Мы затопили у себя курную хату. Сидим в дыму, зги божьей не видать». Это не значит, что он их ненавидел или презирал, нет, он, может быть, даже что-то подобное и им говорил, но печатать это было нельзя.
Алексей Юдин: Когда я впервые в юности прочел Чаадаева, я понял, что он задел во мне какой-то нерв, и это очень важная терапевтическая работа на всю жизнь.
А как можно было бы нарисовать добродушный шарж на Чаадаева, в виде кого?
Вера Мильчина: В виде маркиза де Кюстина. В каком-то смысле они параллельны. Есть такие фигуры, которые говорят про свое время для своего времени, но это почему-то оказывается актуально для всех времен. С Кюстином, с его книжкой «Россия в 1839 году» было точно так же: он написал ее, издал, потом почему-то прошло сто лет, и Кеннан, американский историк, пишет, что эта книга замечательно объясняет нам время Сталина и Брежнева. Кюстин не был пророком, он писал то, что видел, и Чаадаев примерно так же.
Алексей Юдин: Чаадаев объясняет нам наше время?
Екатерина Лямина: Что касается истории, то нет, здесь я с ним не согласна. Что же касается того, что это плачевнейшее отсутствие гражданских институтов (и Пушкин с ним соглашается), я думаю, что это как раз можно резюмировать фразой Мандельштама: «Мы живем, под собою не чуя страны». Это именно то, о чем говорит Чаадаев.
Алексей Юдин: У меня созрел шарж: в виде какого-то доктора. Но это не терапевт, а диагност: он только обнаружил какие-то тревожные симптомы.
Вера Мильчина: Думаю, что после щупанья пульса фигура врача была бы ему неприятна.
Екатерина Лямина: Скорее это фигура путешественника или наблюдателя: возможно, через лорнет.
П. Я. Чаадаев и его «Философические письма»
«Философические письма» Петра Чаадаева – публицистические произведения, вызвавшие в царской России большой скандал. Они были написаны в 1828 – 1830 годах, причём на французском языке. В России они издавались в русском переводе; при жизни Чаадаева было опубликовано только первое письмо – в 1836 году в журнале «Телескоп». А всего писем было восемь.
Судьба первого письма
Первое и единственное опубликованное «философическое письмо» привело в неописуемый гнев министра народного просвещения Уварова и императора Николая I. Уваров сказал, что это «дерзостная бессмыслица», и приказал закрыть сам журнал. По указу императора, Чаадаев был объявлен сумасшедшим, и целый год за ним наблюдали врачи и полиция. Спустя год автор был объявлен «исцелённым» и отпущен, но вынужден был дать согласие ничего больше не писать и не публиковать. Впрочем, вскоре он написал очередное произведение – «Апология сумасшедшего», надеясь, что оно будет издано после его смерти. Это было последней работой Чаадаева.
Содержание писем
Общее содержание «Философических писем» – размышления над мировой и российской историей. Чаадаев подвергает критике существующий порядок вещей и осуждает порядки, царящие в России. Писателя волнует поиск возможности построения справедливого общества и стремление к прогрессу как научно-техническому, так и духовному.
В первом письме Чаадаев утверждает, что цель религии и всякого существования – создание справедливого общественного строя, «царства божьего». Кроме того, писатель говорит о том, что Россия, раскинувшаяся между восточным и западным мирами, не принадлежит ни одному из них. Наиболее совершённым он признавал западный мир, а «миссия» России состоит в том, чтобы преподать человечеству какой-то важный урок (очевидно – урок того, как нельзя жить).
Во втором письме автор нападает на православие. Он говорит, что оно, в отличие от западного католичества, не освободило низшие слои населения от рабства, а лишь способствовало их окончательному закабалению. Здесь же критикуется монашеский аскетизм за то, что он пренебрежительно относится к жизненным благам.
Третье письмо посвящено соотношению веры и разума. И то и другое, по его мнению, по отдельности ничего хорошего не несёт: вера без разума является пустой мечтательностью, а разум без веры не имеет необходимого подчинения; вот только под этим подчинением Чаадаев понимает стремление к всеобщему благу и прогрессу.
В четвёртом письме он рассуждает о двух физических началах – тяготении и «вержении»; второе – это сила, противоположная тяготению и являющаяся основой движения.
В пятом письме Чаадаев размышляет о материи и сознании. Он говорит, что они могут иметь как индивидуальные, так и мировые формы. Следовательно, существует некое «мировое сознание», которое представляет собой мир идей в памяти человечества.
В шестом письме приведены рассуждения о философии истории. Здесь он выделял в истории таких личностей, как Моисей и Давид.
В седьмом письме Чаадаев отдаёт должное исламу, вспоминая его заслуги в сплочении человечества и преодолении многобожия.
Наконец, восьмое письмо содержит рассуждение об истории как о «великом апокалиптическом синтезе», сущностью которого является неизбежное построение в будущем справедливого общества, основанного на едином нравственном законе.
Критика патриотизма
Помимо всего прочего, Чаадаев в своём произведении приводит основательную критику патриотизма. Он не отрицает патриотизм как таковой, но отмечает, что у него есть множество разновидностей, которые отнюдь не всегда полезны обществу. «Патриотизм самоеда, привязанного к собственной юрте», он противопоставляет «патриотизму сознательного английского гражданина». Чаадаев также справедливо отмечает, что любовь к родине зачастую приводила к взаимной ненависти между народами (и даже между представителями одного и того же народа), перерастающей в кровопролитные войны. Поэтому для Чаадаева важна не столько любовь к родине, сколько любовь к истине.
Превознося европейскую цивилизацию, автор высоко оценивает деятельность Петра I, который смог приобщить Россию к этой цивилизации. Чаадаев утверждает, что необходимо как можно скорее расправиться с «пережитками прошлого» и ещё больше сблизиться с западным миром.
Мистическая составляющая
В рассуждениях Чаадаева о преображении мира заметен некий мистический элемент. Он будто бы пытается предложить человечеству новую религию, основанную на обновлённом христианстве. В течение многих лет перед написанием «Писем» Чаадаев увлекался чтением произведений немецких мистиков, вёл уединённую жизнь и даже серьёзно заболел на этой почве, из-за чего вынужден был выехать на лечение за границу.
Западное христианство, а именно католицизм, писатель считает наиболее правильной конфессией; все же остальные, включая протестантизм и русское православие, — это уже отклонение от истины, как и всякий неевропейский общественный и культурный уклад.
Поэтому стремление Чаадаева сблизиться с европейской культурой, при всех его положительных моментах, всё-таки имеет иррациональный характер. Писатель как бы молится на Европу, а потому его утверждения слишком прямолинейны и тенденциозны. Между тем истинный смысл европейской цивилизации заключается именно в рациональном, разумном начале. И католическая религия являлась отнюдь не образцом истинной европейской духовности, а, скорее, её тормозом, силой, которую европейские мыслители постепенно преодолевали. Да и само католическое вероучение со временем менялось, приспосабливаясь к новейшим научным открытиям и новым типам общественного устройства.
Симпатии Чаадаева к католичеству оказали существенное влияние на русских интеллектуалов того времени. К примеру, под его влиянием принял католичество князь Иван Гагарин. Ходили слухи и о том, что сам Чаадаев был обращён в католическую веру.
Кем был Петр Чаадаев? | Новый современник: Записки из Центра Хэвигхерста
Остин Холл
Как Джейкоб Бирд, доктор философии. Студент факультета русской литературы в Университете штата Огайо, потчевал свою аудиторию испытаниями и невзгодами философской и литературной карьеры Питера Чаадаева, стало ясно, что Чаадаев был ключевой фигурой в развитии современной России. Лекция Берда от 5 сентября, которая является частью серии лекций на тему «Россия за рубежом», спонсируемой Центром российских и постсоветских исследований Хэвигхерста, осенью 2018 года помогла его аудитории лучше понять историческое значение Чаадаева.
«Письмо 1» Чаадаева, опубликованное в 1836 году, вместе с анализом литературы предыдущего десятилетия, такой как пьеса Александра Грибоедова « Горе от ума », показывает, что салонный менталитет начала XIX века позволил переосмыслить Россию. находился в глобальной атмосфере. Была ли Россия частью Востока? Часть Запада? Для многих россиян однозначного ответа на этот вопрос не было. Хотя многие россияне не воспользовались шансом выступить против царского государства, Бирд показал, что Чаадаев считал, что России в то время не было места в мире, потому что она была зажата между Востоком и Западом.Это утверждение стало ключом к пониманию всей лекции и точки зрения Чаадаева.
После прочтения «Политики» Джона Глэда и «Возникновение русского европейца» Лекция Берда стала еще более интригующей. Сосредоточившись на различных русских авторах, анализ Гладом литературной и салонной атмосферы начала девятнадцатого века дает более глубокое понимание в поддержку аргумента Берда о том, что Чаадаев пытался создать философию, которая могла бы привести Россию к европейской политической и экономической атмосфере.Как заявил Бирд, «Чаадаев был гегельянцем, который полагал, что человечество является единым целым, а западная цивилизация — его авангардом». [1] Берд принял этот факт и утверждал, что «Письма» Чаадаева были попыткой разъяснить россиянам их положение в мире. и что России необходимо вестернизация, чтобы создать истинный национальный имидж.
Это утверждение также подтверждается работой Раффа «Появление русского европейца». Раеф отслеживает убеждения и стратегии российских лидеров Петра Великого, Екатерины II и Павла I, чтобы показать, как правители принесли Россию в европейскую атмосферу.Через литературу, экономику и аристократические салоны интеллигенция начала открывать новую эру российского общества [2]. Как блестяще доказал Бирд, русские использовали салонную культуру времен Чаадаева для пропаганды идеалов, стратегий и даже философских идей, чтобы изменить облик Российской империи от нации без идентичности к нации с европейским характером.
Еще одно свидетельство, параллельное заявлениям Бирда о Чаадаеве, — это книга Александра Грибоедова «Горе от ума» .На протяжении всей пьесы Грибоедов высмеивает все российское общество даже за десять лет до «Письма 1» Чаадаева. Юношеский идеализм молодого главного героя Александра Андреевича Чацкого, который, как отметил Бирд, был основан на Чаадаеве, показывает стремление к изменению атмосферы статуса России по отношению к европейскому субъекту. Даже написание пьесы рифмованными ямбическими стихами — стиль, который выгодно отличал Грибоедова от его современников, — демонстрирует очарование Запада. Это напоминает автору шекспировский стиль письма, демонстрируя нежность и идеологический союз с Западом.Это преклонение перед европейскими идеалами идеально сочетается с лекцией Бирда о Чаадаеве.
Как отметил Бирд во время своей лекции, Россия меняется от того, что, по мнению Чаадаева, было нацией без идентичности — утверждение, изложенное в его «Письме 1», — к той, которая соответствует европейским тенденциям. Бирд решительно утверждал, что салонная атмосфера и сдвиг в философском мышлении заставили русских мыслителей навсегда изменить ландшафт России.
[1] Джон Глэд, «Политики», в Россия за рубежом: писатели, история, политика (Hermitage & Birchbark Press, 1999), 73.
[2] Марк Рафф, «Возникновение русского европейца», в «Россия вовлекает мир», 1453–1825 гг. , под редакцией Синтии Хайлы Уиттакер (Кембридж: издательство Гарвардского университета, 2003 г.), 124–26.
Остин Холл учится на втором курсе магистратуры в области истории.
Комментарий Михаила Велижева о русском политическом языке 1830-х годов :: ССРН
Размещено: 30 янв 2017
Дата написания: 30 января 2017 г.
Абстрактные
Данная статья направлена на исследование риторических условностей политической полемики в России XIX века.Сравним два текста, опубликованных в 1830-х годах — классическое «Первое философское письмо» Петра Чаадаева и менее известный ответ на него молодого Андрея Краевского — «Мысли о России». Сначала мы планируем сосредоточиться на изложенных ими идеях, а затем рассмотреть политический язык оппонентов. Как мы увидим, если бы их идеи были совершенно разными, Чаадаев и Краевский разделяли одну и ту же политическую идиому — язык официальной национальной идеологии. Мы постараемся продемонстрировать, что можно было использовать язык официальной идеологии не только для утверждения этой идеологии, но и, как это ни парадоксально, для начала открытых дебатов с ней.
Ключевые слова: Российская интеллектуальная история, история концепций, Российская история политической мысли и языков XIX века, Петр Чаадаев, Андрей Краевский
Классификация JEL: Z
Рекомендуемое цитирование: Предлагаемое цитирование
Велижев, Михаил, Опубликованный ответ на первое «философское письмо» Петра Чаадаева: комментарий к русскому политическому языку 1830-х годов (30 января 2017 г.).Исследовательский доклад Высшей школы экономики № WP BRP 19 / LS / 2017, доступен на SSRN: https://ssrn.com/abstract=2908005Проект MUSE — Пётр Яковлевич Чаадаев: Философские письма и апология сумасшедшего (рецензия)
494 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ в Haller Zeitung; он, вероятно, вообще не появится — он, среди прочего, имеет недостаток в том, что он слишком длинный ». В письме Штицу Нитхаммер пишет из Бамберга 23 марта 1807 г .:« Я повторяю свое настоятельное требование… как можно скорее отправить в Йену рецензию на книгу Салата, представленную профессором Гегелем, чтобы передать ее Хофрату Фойгту …. «Том содержит почти 1000 ценных примечаний, которые объясняют философские и исторические основы недавно отредактированной книги. материал. ГЕНРИ УОЛТЕРБРАН, Парк Такома, Мэриленд Питер Яковлевич Чаадаев: Философские письма и извинения сумасшедшего. Перевод с вступлением Мэри-Барбары Зельдин. (Ноксвилл: Университет Теннесси Пресс, 1969. Стр. 203. $ 7.50) Мэри-Барбара В переводе Зельдина на английский язык «Философских писем» и «Апологии сумасшедшего» загадочного русского интеллектуального лидера начала XIX века Петра Яковлевича Чаадаева впервые на английском языке представлена мысль об этой фигуре, чей небольшой корпус сочинений обращался в основном в рукописи при его жизни и ждал более ста лет после его смерти, чтобы получить их полный перевод на французском языке.Исторически Чаадаев играет важную роль посредника между западниками и славянофилами в начальный период русского интеллектуального пробуждения XIX века. Сам Чаадаев держался в стороне от любой из этих сторон, к нему обращались обе стороны, и он сам стал своего рода мучеником за интеллектуальную свободу. Его собственный взгляд на российско-западные отношения наиболее заметно включает эту проблему в богословское видение «образования человечества». С философской точки зрения Чаадаев выступает как уникальный и несколько эксцентричный синтезатор немецкого идеализма с христианской концепцией истории спасения.Возможно, самое замечательное понимание, которое можно получить, прочитав эти давно похороненные эссе, — это легкость, с которой восточно-православный христианин, сведущий в святоотеческом эллинизме, мог объединить идеи педагогики человеческого рода у Лессинга, Гердера и Шиллера и прочитать это как выражение иринейской доктрины прогрессивного развития человечества при посредничестве изначального Логоса; александрийская идея педагогики Христа в истории и евсевийская доктрина христианской универсальной империи.Поступая таким образом, этот русский мыслитель также показывает, в какой степени само немецкое идеалистическое движение основывалось на гораздо более древних синтезах христианской мысли. В процессе, однако, Чаадаев также показывает, что люди девятнадцатого века могли заново присвоить это наследие, только взяв великие верные темы откровения, Христи, церковь и Царство Божье, и переиздав их в секуляризованной, гуманистической одежде, как философия истории. Основной тезис Чаадаева состоит в том, что знание — это божественно данный депозит определенных фундаментальных изначальных идей, к которым человек не мог бы прийти с помощью своих собственных сил, а скорее имел бы отпечаток в сознании первого человека, насажденный Создателем.Чаадаев соединяет западную философскую концепцию априорного фундаментального с доктриной изначального откровения, раскрывая основу самого человека в божественном Логосе. Этот изначальный кладезь идей существовал в первом человеке только как рудиментарный «образ» Бога. Только благодаря историческому развитию человек достигает полной зрелости в этих истинах, посредством чего он достигает совершенного «подобия» Богу. Эти истины вместе с их историческим развитием передаются по исторической преемственности, которая является не церковной преемственностью, а преемственностью человеческой семьи.Эти истины периодически обновляются с появлением некоторых выдающихся личностей, которые в значительной степени служат их примером, а также некоторыми избранными народами, которые Бог назначил носителями их культуры. Евреи Ветхого Завета были носителями культуры в древности, и со времен Иисуса Христа именно христианский мир стоит за и несет развитие этой изначальной истины, поскольку она была обновлена и изложена в архетипическом совершенстве Христом. . Чаадаев резко преуменьшает роль греков в этом развитии, но делает это в манере, удивительно похожей на древних христианских апологетов, которые украли греческий огонь, чтобы искупать его…
Чаадаев Петр Яковлевич (ок. 1794–1856)
Петр Яковлевич Чаадаев был русским мыслителем и писателем. Он принадлежал к старому дворянству (отцом его матери был известный историк Михаил Михайлович Щербатов [1733–1790]). Он учился в Московском университете и участвовал в великой войне 1812 года и в последующей кампании против Наполеона Бонапарта в Европе. В 1816–1817 гг., Будучи гусарским офицером, он познакомился и подружился с Александром Сергеевичем Пушкиным (1799–1837), который в молодые годы посвятил Чаадаеву три стихотворных письма.В 1821 году Чаадаев ушел с военной службы, прервав то, что обещало стать блестящей карьерой. С 1823 по 1826 год он путешествовал по Европе (Англии, Франции, Италии, Швейцарии и Германии), где познакомился с Фридрихом Вильгельмом Йозефом фон Шеллингом и Югом Фелисите Робертом де Ламенне, религиозно-философские идеи которых произвели на него глубокое впечатление. В то время он также подружился с рядом представителей некоторых европейских религиозных сект, которые были приверженцами католического социализма.Знакомство с европейской культурой, социальным наследием и идеями спровоцировало духовный кризис в Чаадаеве: переход от деистических представлений эпохи Просвещения о Вселенной к современной версии христианства, состоящей в синкретическом союзе религии, философии, истории, социологии, естествознания. , искусство и литература.
По возвращении Чаадаев написал (с 1829 по 1831 год) свой основной труд: Lettres Философские науки . Он был написан на французском языке и состоял из восьми трактатов в форме писем, адресованных даме.Это произведение означало начало оригинальной русской философии, а также формирование нового мировоззрения Чаадаева. Здесь Чаадаев попытался разработать религиозное оправдание социального процесса. Установление «совершенного порядка на земле» возможно, по его мнению, только посредством прямого и постоянного действия «христианской истины», которая в результате непрерывного интеллектуального взаимодействия многих поколений составляет основу «универсального». -историческая традиция «в движении социальной истории и способствует» воспитанию всего человечества «(1991 Vol.1, стр. 644). По мнению Чаадаева, эта социальная идея христианства возникла, прежде всего, в католицизме. Эта идея определяла, как указывает Чаадаев в первом письме, «сферу, в которой живут европейцы и в которой только под влиянием религии человечество может выполнить свою конечную цель» (с. 652).
Из этой предпосылки Чаадаев делает вывод, что европейские успехи в области культуры, науки, права и материального прогресса были плодами католицизма как социально активной политической религии; и поэтому эти успехи могут служить отправной точкой для более высокого синтеза.Интерпретация христианства как исторически прогрессивного общественного развития стала для Чаадаева основой критики современной российской ситуации. В России Чаадаев не нашел ни «элементов», ни «эмбриональных признаков» европейского прогресса. По его мнению, причина этого заключалась в том, что, когда она первоначально отделилась от католического Запада, Россия «заблуждалась в отношении истинного духа религии»: Россия не признала «чисто историческую сторону», то есть принцип социальной трансформации, чтобы быть внутренним достоянием христианства (658).Следствием этого было то, что Россия отстала от Европы и не собрала «всех плодов» науки, культуры, цивилизации, упорядоченной жизни. Чаадаев считал, что для того, чтобы Россия достигла успехов европейского общества, ей недостаточно просто принять европейские формы развития: она должна была изменить все с самого начала, повторяя под флагом спасительной католической идеи вся история западной Европы.
Первое «Философское письмо» было опубликовано в московском журнале Телескоп (1836 г.).Эта публикация произвела на мыслящую Россию впечатление, подобное «ружейному выстрелу, раздающемуся в темной ночи» (словами Александра Ивановича Герцена, 1954–1965). После выхода в свет журнал был запрещен правительством, а его редактор-издатель Н. И. Надеждин (1804–1856) был арестован и выслан из Москвы, а сам Чаадаев был объявлен «по царскому приказу» душевнобольным. Это «Философское письмо» было единственным произведением Чаадаева, опубликованным при его жизни. Выводы Чаадаева в этом письме вызвали серьезную критику и споры в кругах российской интеллигенции.Несмотря на официальный запрет полемики вокруг « Философских писем », серьезные отклики на них поступили от Пушкина, П.А. Вяземского (1792–1878), Александра Ивановича Тургенева (1784? –1846), Филиппа Филиповича Вигеля (1786–1856), Д. П. Татищев (1974–), Шеллинг и другие. По большому счету, эти комментаторы не соглашались с Чаадаевым, но признавали правомерность и своевременность формулирования философских проблем, связанных с разгадыванием загадки «сфинкса русской жизни» (по словам Герцена).Публикация Чаадаева также вызвала серьезный раскол в российской общественной жизни, раскол, который приобрел характер спора, который в принципе никогда не мог быть разрешен.
Хотя Чаадаеву запретили публиковать свои идеи, он продолжал свои философские поиски. На обвинения в том, что он недостаточно патриотичен, он ответил статьей «L’apologie d’un fou» (Извинение сумасшедшего; написано в 1837 году, но впервые опубликовано в Париже в 1862 году), в которой, говоря о России, он утверждает что «мы призваны решать большинство проблем общественного устройства, отвечать на самые важные вопросы, волнующие человечество» (1991 Vol.1, стр. 675). Здесь он признает, что традиции православного христианства обладают неоспоримыми достоинствами и сыграли благотворную роль в формировании русского сознания. Он готов видеть призвание России в том, что «в свое время [она] предложит решение всех вопросов, вызывающих споры в Европе». В 1840-х годах дом Чаадаева в Москве стал центром крупного литературно-философского кружка.
Следуя по стопам Чаадаева, многие русские писатели и философы стали достаточно смелыми, чтобы ставить и задавать фундаментально важные, но до сих пор систематически неизученные проблемы общественного развития.Это исследование позволило уточнить представления об исторической эволюции России и оказало значительное влияние на формирование двух фундаментальных течений в русской общественной мысли: западнической ориентации (Тимофей Николаевич Грановский [1813–1855], Виссарион Григорьевича Белинского, Герцена, Константина Дмитриевича Кавелина) и славянофильской ориентации (Алексей Степанович Хомяков, Иван Васильевич Киреевский, Константин Сергеевич Аксаков [1817–1860], Ю.Ф. Самарин [1819–1876]. Сам Чаадаев нашел общий язык с представителями обоих лагерей, хотя и критиковал обоих; в разное время его приглашали писать статьи в журналы, которые занимали диаметрально противоположные позиции.
Идеи Чаадаева по философии истории оказались стимулом для таких разных мыслителей, как Хомяков, Герцен, Аполлон Алексанрович Григорьев (1822–1864), Константин Николаевич Леонтьев, Николай Яковлевич Данилевский (1822–1865) и Владимир Сергеевич Соловьев (Соловьев).По сути, эти идеи положили начало развитию самобытной русской философии.
Эстетические суждения Чаадаева отразили влияние его «единой идеи»; они подчинены выработанному им моральному идеалу. Для Чаадаева красота в искусстве неотделима от правды и добра. Художник — проводник, ведущий людей к бесконечному совершенству; в преходящем художник видит вехи на этом пути. Несколько парадоксально, но Чаадаев осудил искусство античности, в котором, как он считал, «хаотично смешаны все нравственные элементы» (1991, т.1, стр. 359). Напротив, готическое искусство было для Чаадаева «чем-то священным и небесным», служащим выражением нравственных чувств и побуждающим человека «поднять взор к небу» (с. 359). В своих тогдашних письмах Чаадаев ценил «Избранные отрывки из переписки с друзьями» (1846) Николая Васильевича Гоголя (1809–1852) (1846), в которых «среди слабых и даже греховных страниц есть страницы удивительной красоты, полные бесконечной правды» ( 1991 Том 2, с. 1991). Эстетическое суждение Чаадаева определялось его моральным кредо: «[умеренность, терпимость и любовь ко всему хорошему, в какой бы форме оно ни принималось» (с.200).
Наследие Чаадаева наиболее точно оценил Хомяков, писавший в 1860 году:
Просветленный ум, художественное чутье, благородное сердце — вот качества, которые привлекали к нему всех. Но в то время, когда казалось, что русская мысль погрузилась в тяжелый и непроизвольный сон, он был особенно ценен для нас, потому что он бодрствовал и будил других, потому что в сгущающейся темноте того времени он не позволял свету истины загореться. выходить.
См. Также Эстетическое суждение; Белинский Виссарион Григорьевич; Просвещение; Герцен Александр Иванович; Кавелин Константин Дмитриевич; Киреевский Иван Васильевич; Ламенне, Хьюг Фелисите Робер де; Леонтьев Константин Николаевич; Русская философия; Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф фон; Соловьев (Соловьев) Владимир Сергеевич.
Библиография
работ Чаадаева
Русская философия , под редакцией Джеймса М.Эди, Джеймс П. Скэнлан и Мэри-Барбара Зельдин с Джорджем Л. Клайном, 101–154. Чикаго: Quadrangle Books, 1965.
Философские письма и извинения безумца . Перевод Мэри-Барбары Зельдин. Ноксвилл: University of Tennessee Press, 1969.
Полное собрание сочинений и избранные письма . 2 тт. М .: Изд-во «Наука», 1991.
П.Я. Чаадаев: За и против. Антология (П. Я. Чаадаев: Pro et Contra.Антология). Санкт-Петербург, Россия, 1998.
сочинений о чаадаеве
Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 — ти томах (Сочинения в 30 томах). Москва: АН СССР, 1954–1965.
Хомяков А.С. Полное собрание сочинений . Москва: Университетская типография, 1900.
МакНелли, Раймонд Т. Чаадаев и его друзья: интеллектуальная история Петра Чаадаева и его русских современников .Таллахасси, Флорида: Diplomatic Press, 1971.
Москофф, Евгений А. Русский философ Чаадаев: его идеи и его эпоха . Нью-Йорк: Н.П., 1937.
Зенковский В.В. История русской философии . 2 тт. Перевод Джорджа Л. Клайна. Нью-Йорк: Columbia University Press, 1953. Первоначально опубликовано в двух томах под названием Истории русской философии (Париж, 1948–1950).
Вячеслав Кошелев (2005)
Перевод Бориса Якима
Корни философской мысли Чаадаева
Первую евроцентрическую концепцию философии истории создал Петр Чаадаев (1793–1856) .Идеал, по мнению мыслителя, лучше всего отражала средневековая христианская Европа. Чаадаев читал Канта, Гегеля и Шеллинга, но в основном он находился под влиянием французских католических философов: де Местра, де Бональда, Балланша, Шатобриана и Ламенналиса. Западничество Чаадаева представляет собой особый тип консерватизма в его обвинении в том, что российское общество лишено традиций и оснований в современной истории, отождествляемой с историей Европы. По мнению Чаадаева, русской культуре свойственна дискретность; новые идеи появляются неожиданно, не имея оснований и корней в усилиях предыдущих поколений.Это было совершенно неудовлетворительно западниками 1840-х годов, которые следовали либеральным и рационалистическим традициям 18 века. Когда в 1839 году славянофилы приняли консервативную иерархию ценностей Чаадаева, отвергнув его пессимистический взгляд на будущее России, западники, связанные с Белинским, открыто критиковали ее. Но вскоре возникла националистическая реакция на восхищение Западом. Славянофилы восхваляли самобытность русского национального духа и называли Россию отдельным миром.Одним из центральных вопросов в споре между западниками и славянофилами была роль царя-реформатора XVIII века Петра Великого. Тем не менее, хотя Чаадаев не заметил ни впечатляющего величия в российской истории, ни силы русского народа в прошлом, он стал защитником великого будущего страны. В «Апологии сумасшедшего» (1837), написанной для рассеивания напряженной атмосферы, вызванной публикацией его первого философского письма, Чаадаев выражает свое утверждение великой миссии России.По мнению мыслителя, скрытые потенциальные силы России смогут раскрыться и обнаружить себя в будущем и помочь ей занять самое высокое место в духовной жизни Европы. Чаадаев, веривший в мистическую миссию России, во второй половине своей жизни также признал величие Православия.
О соотношении фидес и отношения в творчестве Петра Чаадаева
Оболевич — «Безумец» взывает к вере и разуму 71
Герцен Александр.«Дилетантизм в науке». В избранных философских сочинениях, 15–96.
Перевод Лев Наврозов. Москва: Иностранные языки, 1956.
———. «Молодая Москва». Избранные философские труды, 507–45. Перевод Лев
Наврозов. Москва: Иностранные языки, 1956.
Иоанн Павел II. Fides et Ratio. Энциклическое письмо. 14 сентября 1998 года.
Каменский, Захар. «Петр Чаадаев». В истории русской философии: с
погоды десятого по двадцатый века под редакцией Валерия А.Кувакин, 1: 131–39.
Bualo, NY: Prometheus, 1994.
Kuznetsov, Pavel V. «Метазический нарцисс и русское молчание: П. Я. Чаадаев и
судьба лосоли в России». У Петра Чаадаева. Pro et contra: Личность и творчество
Петра Чаадаева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология, под редакцией
Александра Ермичева и Анны Златопольской, 729–52. Санкт-Петербург:
Издательство Русского Христианского Гуманитарного Университета, 1996.
Лоссе, Алексис. «Die russische Philosophie». В Елены А. Тахо-Годи, Алексей Лосев в
эпоху русской революции: 1917–1919, 191–233. М .: Модест Колеров, 2014.
Лосский Николай О. История русской философии. Нью-Йорк: Международный университет
Press, 1951.
МакНалли, Раймонд Т. «Анализ основных идей Чаадаева». В Philosophical Works
Питера Чаадаева под редакцией Раймонда Т. МакНалли и Ричарда Темпеста, 14–17.
Dordrecht: Springer, 1991.
———. «Письма Чаадаева Вяземскому». В «Золотой век русской литературы»
и должное: Избранные доклады Четвертого Всемирного конгресса по Советскому Союзу и Востоку
Европейские исследования, Харрогейт, 1990, под редакцией Дерека Огорда, 76–83. Нью-Йорк: St.
Nartin’s, 1992.
———. Чаадаев и его друзья: интеллектуальная история Петра Чаадаева и его
русских современников. Таллахасси, Флорида: дипломатический, 1971.
———. «Quelques idees glanées dans les ouvrages inédits de Pierre Čaadaev». Revue
des études slaves 55 (1983) 299–304.
———. «Значительные откровения в письмах Чаадаева к А. И. Тургеневу». Исследования в
Советском журнале 32 (1986) 321–39.
Макнелли, Рэймонд Т. и Ричард Темпест. «Комментарии и примечания к фрагментам,
,статей и другие письма». В «Философских трудах Петра Чаадаева» под редакцией
Раймонд Т.МакНелли и Ричард Темпест, 278–309. Дордрехт: Springer, 1991.
Мрувчински-Ван Аллен, Артур. Между иконой и идолом: Человек
и современное состояние в русской литературе и мысли; Чаадаев, Соловьев,
Гроссмана. Перевод Мэтью Филиппа Уилана. Евгений, Орегон: Каскад, 2013.
Оболевич, Тереза. Русская философия религии. Перевод Марии Гаврон —
Заборска. Париж: Серф, 2014.
О’Коннор, Марк.«Adveniat Regnum Tuum: Чаадаев, Мицкевич и Царство
Бога на Земле». Исследования в советском журнале 32 (1986) 397–409.
Петерсон, Дейл Э. «Цивилизация расы. Чаадаев и парадокс европоцентризма
Национализм ». Русское обозрение 56 (1997) 550–63.
Рязановский, Николай В. «О Ламенне, Чаадаеве и романтическом восстании в
Франция и Россия». Американский исторический обзор 82 (1977) 1165–86.
Сапов Вадим.«Ученики Чаадаева». В Новых идеях в Лососи. Ежегодник Философского
общества в СССР, под ред. Ивана Фролова и др., 149–63. М .: Наука, 1991.
Шаховской Дмитрий. «Письма и заметки». У Петра Чаадаева. Pro et contra: Личность
и творчество Петра Чаадаева в оценке русских мыслителей и исследователей.
Антология, под редакцией Александра Ермичева и Анны Златопольской, 517–53. Святой
Комментарий к русскому политическому языку 1830-х годов
Автор
Abstract
Целью данной статьи является исследование риторических условностей политической полемики в России XIX века.Сравним два текста, опубликованных в 1830-х годах — классическое «Первое философское письмо» Петра Чаадаева и менее известный ответ на него молодого Андрея Краевского — «Мысли о России». Сначала мы планируем сосредоточиться на изложенных ими идеях, а затем рассмотреть политический язык оппонентов. Как мы увидим, если бы их идеи были совершенно разными, Чаадаев и Краевский разделяли одну и ту же политическую идиому — язык официальной национальной идеологии. Мы постараемся продемонстрировать, что можно было использовать язык официальной идеологии не только для утверждения этой идеологии, но и, как это ни парадоксально, для начала открытых дебатов с ней.
Рекомендуемая ссылка
Скачать полный текст у издателя
Насколько нам известно, этот элемент недоступен для скачать .Чтобы узнать, доступен ли он, есть три варианты:1. Проверьте ниже, доступна ли в Интернете другая версия этого элемента.
2. Зайдите на страницу провайдера действительно ли он доступен.
3. Выполните поиск элемента с таким же названием, который был бы имеется в наличии.
Исправления
Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления, пожалуйста, укажите код этого элемента: RePEc: Hig: wpaper: 19 / ls / 2017 .См. Общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.
По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: (Шамиль Абдулаев) или (Шамиль Абдулаев). Общие контактные данные провайдера: https://edirc.repec.org/data/hsecoru.html .
Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом.Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.
У нас нет ссылок на этот товар. Вы можете помочь добавить их, используя эту форму .
Если вам известно об отсутствующих элементах, цитирующих этот элемент, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылочного элемента. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.
Обратите внимание, что исправления могут занять пару недель, чтобы отфильтровать различные сервисы RePEc.
.