Аполлон-Дионис — Год Литературы
Текст: Федор Косичкин
- Две гитары за стеной
- Жалобно заныли.
- О мотив любимый мой,
- Старый друг мой, ты ли?..
Он, он самый. Как не знать. Плох тот русский, который не любит быстрой езды. Не закусывает водку хрустящей квашеной капустой с ледком. И не знает этой бесконечной песни-страдания.
- О, говори хоть ты со мной,
- Подруга семиструнная!
- Душа полна такой тоской,
- А ночь такая лунная!
Трудно сейчас поверить, но у самого автора это были две разные песни. Но дворовые и застольные певцы давно слили их в одну – настоящий русский блюз, построенный, кстати, тоже на трех аккордах. И тоже, что характерно, уходящий глубоко в традицию угнетённого меньшинства – только не черного, а, с позволения сказать, чернявого…
«Стоит ли описывать после Льва Толстого цыганские песни, надрывавшие души не одного поколения русских людей?» – риторически вопрошал Катаев в полном риторических преувеличений «Алмазном венце». Разумеется, не стоит – и так все знают. Но не все помнят, что, может быть, и не было бы никакой «цыганщины», если бы не этот родившийся ровно двести лет назад блестящий умница и горчайший пьяница. Носящий, словно в насмешку, имя бога, тысячелетиями олицетворяющего рациональное, ясное, «аполлоническое» начало – в противоположность темной стихии Диониса, рискующего быть разорванным своими же последовательницами.
Разумеется, не стоит – и так все знают. Но не все помнят, что, может быть, и не было бы никакой «цыганщины», если бы не этот родившийся ровно двести лет назад блестящий умница и горчайший пьяница. Носящий, словно в насмешку, имя бога, тысячелетиями олицетворяющего рациональное, ясное, «аполлоническое» начало – в противоположность темной стихии Диониса, рискующего быть разорванным своими же последовательницами.
Надо признать, что вопиющие противоречия преследовали московского Аполлона с рождения. Сын титулярного советника (сам по себе этот невысокий чин взывает к известному романсу) от связи с крепостной – с которой он, впрочем, позже обвенчался, выросший в самом что ни на есть патриархальном купеческом Замоскворечье, вынужденный, буквально вынужденный окончить юрфак МГУ «первым кандидатом» (говоря по-современному – с красным дипломом, а в то время – с чином, дающим право на личное дворянство), он с ранних лет пристрастился растворять в водке ненависть к юриспруденции – а после и огорчения несчастной любви к интеллигентной барышне Антонине Фёдоровне Корш.
Леонида Визард
Антонина Корш
Кстати, дача Коршей стояла на месте пересечения Малой Калужской улицы и Малого Калужского переулка, напротив нынешнего Нескучного сада и совсем недалеко от летнего дома Тургеневых. Так что, возможно, «две гитары за стеной» юный Аполлон услышал впервые совсем неподалеку оттуда, где несколькими годами раньше еще более юный Иван испытал разочарования «Первой любви». (Хотя, надо признать, в законченный цикл они сложились позже, когда Григорьев, уже женатый, переживал приступ безнадёжной любви к другой хорошенькой юной брюнетке – Леониде Визард.)
Дальше – больше. Блестящие критические статьи, искреннее намерение «размеренно проходить жизненное поприще», солидные службы в образовательных и государственных учреждениях, даже периодическое главредство чередовались постоянными чудовищными, ничуть не романтическими загулами в пестрой компании, славной разве что тем, что позднее из нее вышел драматург Островский, импульсивными переездами из Москвы в Петербург, блужданиями по Европе, дальше почему-то в Оренбург и наконец окончательно в Петербург.
Долголетняя рыцарская любовь к Антонине разрешилась неожиданной для всех женитьбой на ее младшей и уступающей по всем статьям (и статям) сестре Лидии, мало похожей на музу и того меньше – на добродетельную жену, способную «направить на правильный путь». Скорее уж наоборот. А самое ужасное – чеканные афоризмы («Пушкин – наше всё!» – это ведь он, Аполлон!) расползлись пустыннейшими туманными рассуждениями о некоей «органической», сиречь «скрепной», как сказали бы мы сейчас (да-да, со всеми оттенками этого слова) критике, вылущить из которых рациональное зерно не под силу оказалось и братьям Достоевским, искренне к нему расположенным.
Так что к концу своей недолгой жизни блестящий публицист, лидер интеллектуального кружка «новой критики» стал просто никому не нужным сильно пьющим средней руки литератором, готовым хвататься за любую работу.
- Однако знобко… Сердца боли
- Как будто стихли… Водки, что ли?..
Грустная и символичная деталь – перед самой смертью Аполлон снова угодил в долговую тюрьму. Откуда его вызволила (буквально – выкупила) некая генеральша Бибикова, чье богатство явно превосходило ее талант: она возжелала, чтобы Григорьев «отредактировал» (переписал) какие-то ее сочинения. Увы, последний дедлайн русский дионисийствующий Аполлон сорвал не по своей вине – он умер через четыре дня после выхода «на свободу», от инсульта. Рассказывают – мгновенно, с гитарой в руках, чуть ли не взяв последний аккорд. Как бы посылая рифму другому поэту, умершему в 42 года – Владимиру Высоцкому.
- И ни церковь, и ни кабак —
- Ничего не свято!
- Нет, ребята, всё не так!
- Всё не так, ребята…
Это не Григорьев, это Высоцкий. Но это та же традиция – творчества и, главная, жизнетворчества. Впервые явно воплотившаяся именно в Григорьеве – и больше уже не уходившая.
Но это та же традиция – творчества и, главная, жизнетворчества. Впервые явно воплотившаяся именно в Григорьеве – и больше уже не уходившая.
Аполлонизм и дионисийство. Порядок и экстаз
Набившей оскомину терминологической парой стала ницшеанская дихотомия «аполлонизм» versus «дионисийство». Concepture раскрывает заслугу Ницше в создании этих ярких, обладающих огромным семантическим и герменевтическим потенциалом образов, значения и смыслы которых применимы во многих областях.
В работе «Рождение трагедии из духа музыки», написанной Ницше в 1870-1871 годах, он формулирует два основных начала, формирующих дух древнегреческой и, соотвественно, всей европейской культуры. Эти начала названы по именам двух богов – аполлоническое и дионисийское.
Дихотомией, которая характеризует эти начала, является «искусственное» (аполлоническое) и «естественное» (дионисийское). Также можно использовать оппозицию «культурное/природное».
Также можно использовать оппозицию «культурное/природное».
Аполлон – воплощение умеренности и пропорциональности, светоносный бог-покровитель искусств. Наиболее полно аполлоническое начало находит выражение в поэзии как ритмизации (структурации) бытия. Очень важно понимать этот концепт в контексте философских воззрений Ницше.
Он считал, что древние греки нашли в искусстве противоядие от бессмысленности реальности и порождаемого осознанием этого безнадёжного пессимизма. По Ницше, древнегреческое искусство – это иллюзия, сущность которой состоит в утверждении некой второй высшей реальности, скрывающейся за видимым миром и придающей ему смысл. Аполлон – бог прекрасной иллюзорности, оправдывающей действительность.
Поскольку Ницше не верил в существование трансцендентной реальности, он признавал существование только единственного доступного нам мира. И этот мир, в сущности, есть ничто иное как природа с её слепыми порывами и стихийными импульсами.
Отдаться на волю природных стремлений значит подтвердить их власть над человеком и принять во всей беспощадности отсутствие высшего смысла.
Ему противостоит Дионис – бог вина и возлияний, полная противоположность Аполлона, воплощение буйства и неукротимости природных энергий. Дионис – бог экстатического мгновения, бог бытия «здесь-и-сейчас», поэтому его стихия – это музыка, самое свободное, а потому и высшее из искусств.
Дионис не признает никаких высших реальностей, но упивается наличной действительностью. Он не знает никакой меры, ему неведомы границы и пределы. Дионис неопределен и непредсказуем как природа. И как природа он весьма жесток и беспощаден. Но именно в этой предельно напряженной позиции, не тешащей себя никакими защитными иллюзиями, Ницше видит истинную красоту и правду.
Дионис – трагическая фигура, идущая до конца в своем бытии, отдающаяся всем страстям и порывам и претерпевающая их во всей полноте. Здесь нет никаких экивоков, запасных выходов или путей отступления.
«Искусство нужно для того, чтобы не умереть от истины, потому что истина слишком ужасна. Эта истина гласит: жизнь не имеет смысла».
Девиз дионисийства иной:
«Жизнь лишена смысла, но это не повод предаваться тоске. Не надо выдумывать спасительные иллюзии и утешать себя вымыслами о лучшей участи. Лучше предаться блаженству самозабвения и экстатического восторга, раствориться в шуме жизни, отбросив всякие сомнения».
Для Ницше культурное аполлоническое начало означает отчуждение от природы (истинной реальности), убийство своих инстинктов, добровольную кастрацию воли к жизни. В дионисизме же происходит воссоединение человека с человеком и с природой на почве выхождения за пределы индивидуальности в коллективное (безличное) состояние сознания, состояние единения со всем сущим.
Эти противоположные борющиеся между собой тенденции можно выразить и на языке психоанализа. Аполлонизм – это Эрос, а дионисизм – Танатос. Можно вскрыть их и через другой аспект: аполлинизм – это сознание, а дионисизм – бессознательное. Поскольку полноценный человек не может обойтись только одним началом, идеалом личности и культуры в целом является синтез аполлонизма и дионисийства. Как отмечает Лосев: «Дионис не может существовать без Аполлона. Оргийное безумство, являясь плодоносной почвой для всякой образности, порождает из себя аполлоническое оформление. Герой, ставший дионисийским безумцем в условиях аполлонической мерности, есть титан».
Другими словами, культура возникает из природы как её антитезис, но цикл будет завершен только тогда, когда произойдет отрицание отрицания и образуется природно-культурный синтез, сознание гармонизируется с бессознательным, Эрос дополнит Танатос.
Необходимо отметить, что эти концепты Ницше не являются оригинальными понятиями. Похожие идеи выдвигались и раньше под другими именами. Заслуга Ницше (и в этом собственно состоит специфика его поэтического мышления) заключается в создании ярких, обладающих огромным семантическим и герменевтическим потенциалом образов, значения и смыслы которых применимы во многих областях: от искусства до политики.
Ницше не подходит ни к одному обычному
концепция философа. Он не только удален от
мир профессорского или донского философа,
из томов и статей, сносок и жаргона — в
кратко, от более современного образа философа. Он
столь же далек от популярного представления о мудреце:
безмятежный, прошлый страстный, умеренный и аполлонический. Но это
явно — для тех из вас, кто хочет изучить — часть
точки зрения Ницше: то есть предложить новый образ,
философ, который не является ни александрийским академиком, ни
Аполлонический, но дионисийский. Аполлонический и дионисийский термины используются
Ницше в Дионисийский, что примерно соответствует
к концепции Шопенгауэра о Воля , есть
прямо противоположен аполлоническому. Ницше считал, что обе силы присутствует в греческой трагедии, и что настоящая трагедия могла быть произведено только напряжением между ними. Он использовал называет две силы аполлоническими и дионисийскими, потому что Аполлон, как бог солнца, олицетворяет свет, ясность и форме, тогда как Дионис, как бог вина, представляет опьянение и экстаз.
[Источник: Вальтер Кауфманн, Из
От Шекспира до экзистенциализма: оригинальное исследование (Принстон: Издательство Принстонского университета, 1959), стр. | Возвращаться на лекцию | | История Путеводитель | | Copyright © 2000 Steven Kreis |
Аполлон и Дионис — Американский симфонический оркестр
Аполлон и Дионис
Леон Ботштейн
Написано для концерта «Аполлон и Дионис», состоявшегося 9 мая 2010 года в Avery Fisher Hall в Линкольн-центре.
Трудно представить себе историю западного искусства, которая не начиналась бы с наследия классического мира. В самом деле, само понятие «западный», идея последовательной культурной традиции, которая на самом деле вовсе не является последовательной, в значительной степени является результатом тщеславия, которое впервые всерьез развилось в девятнадцатом веке. Ядром этой идеи было представление о том, что современная европейская культура является прямым потомком древней Греции и Рима. Швейцарский историк Якоб Буркхардт (1818–189 гг.7), чья эпохальная книга «Культура Возрождения в Италии » (1860 г.) впервые выдвинула идею определения истории как последовательности взаимосвязанных периодов, определил «повторное открытие» классической античности как импульс для гражданского гуманизма, который был отличительная черта Возрождения. Ренессанс стал определяющей эпохой современной западной культуры. (Конечно, ирония заключается в том, что Европа до Реформации провела несколько столетий, избирательно опровергая знания древнего мира и эффективно уничтожая артефакты классического наследия. «Повторное открытие» произошло во многом благодаря европейским набегам на Египет и Аравию, большая часть знаний Древней Греции была сохранена великими арабскими учеными.) Стремление Ренессанса к преемственности с античным миром наиболее ярко проявляется в выборе Данте Вергилия в качестве проводника христианской души в 9 веке.0063 Инферно . Вергилий, символ наивысшего возможного достижения человечества до христианского откровения, держит для Данте начало нити истории.
Швейцарский историк Якоб Буркхардт (1818–189 гг.7), чья эпохальная книга «Культура Возрождения в Италии » (1860 г.) впервые выдвинула идею определения истории как последовательности взаимосвязанных периодов, определил «повторное открытие» классической античности как импульс для гражданского гуманизма, который был отличительная черта Возрождения. Ренессанс стал определяющей эпохой современной западной культуры. (Конечно, ирония заключается в том, что Европа до Реформации провела несколько столетий, избирательно опровергая знания древнего мира и эффективно уничтожая артефакты классического наследия. «Повторное открытие» произошло во многом благодаря европейским набегам на Египет и Аравию, большая часть знаний Древней Греции была сохранена великими арабскими учеными.) Стремление Ренессанса к преемственности с античным миром наиболее ярко проявляется в выборе Данте Вергилия в качестве проводника христианской души в 9 веке.0063 Инферно . Вергилий, символ наивысшего возможного достижения человечества до христианского откровения, держит для Данте начало нити истории. Данте предполагал, что его читатели будут близко знакомы с Энеидой , которая сама драматизирует преемственность между древней Троей и Римом Вергилия.
Данте предполагал, что его читатели будут близко знакомы с Энеидой , которая сама драматизирует преемственность между древней Троей и Римом Вергилия.
Буркхардт был немного похож на Вергилия в своем тезисе о том, что итальянское Возрождение было результатом повторного открытия классического наследия. Идея была столь же конструктивной, как руководство к самоопределению для девятнадцатого века, как эпос Вергилия был для августовского Рима. Ренессанс Буркхардта считается началом ранней современной культуры. Представление основывалось на предположении, что до Ренессанса существовал период, который удобно было бы назвать «Темными веками» или «Средними веками», то есть аморфным периодом между классическим и современным. Эта идея дала прекрасное происхождение нынешнему веку, чувство, которое очень хорошо соответствовало стремлениям Европы девятнадцатого века в отношении светской культуры. Буркхардт оказал огромное влияние на своих современников. Самым выдающимся современником был Фридрих Ницше (1844–1819 гг. ).00), классик, а также философ. Ницше, также композитор-любитель и пианист, прославился дружбой с Рихардом Вагнером. В конце концов он обратился к искусству и личности Вагнера в столь же запоминающейся манере с острым и проницательным сарказмом. Ницше и Буркхардт очень уважали друг друга и пересекались как постоянные ученые в Базеле.
).00), классик, а также философ. Ницше, также композитор-любитель и пианист, прославился дружбой с Рихардом Вагнером. В конце концов он обратился к искусству и личности Вагнера в столь же запоминающейся манере с острым и проницательным сарказмом. Ницше и Буркхардт очень уважали друг друга и пересекались как постоянные ученые в Базеле.
Для обоих этих мыслителей переход от Средневековья к Ренессансу означал упадок господства невежества, суеверий и иррационального и возрождение разума. Отождествление Ренессанса с началом современности само по себе было ревизионистской идеей, бросившей вызов предшествующему превосходству Просвещения восемнадцатого века как первой эпохи модерна. Просвещение восемнадцатого века было веком великого прогресса, который начался с английской Реставрации в 1660 году и стал свидетелем достижений Ньютона, Локка, Лессинга и Гёте. Период (не век) закончился в 1789 г.с Французской революцией. Просвещение было веком быстрой индустриализации и научного прогресса, развития теории демократического общественного договора и расцвета литературы. Это представляло собой ослабление власти церкви в политических делах и укрепление светского национального пространства. Отцы-основатели в Соединенных Штатах и якобинцы во Франции лелеяли представление о себе как о наследниках великих лидеров и ораторов классической Греции и Рима. Действительно, одну группу великих поэтов и писателей Британии часто называли «августанцами», а эпоху в Британии и на континенте называли эпохой неоклассицизма. В немецкоязычной Европе не было более красноречивого защитника приоритета древних, чем Иоганн Иоахим Винкельманн (1717–1768), оказавший огромное влияние на писателей и художников и создавший ложное представление о древнегреческих памятниках и зданиях как гладкий, белый и чистый. Этот идеализированный образ до сих пор присутствует в зданиях столицы нашей страны и в наших банках и библиотеках, вдохновленных греческими храмами.
Это представляло собой ослабление власти церкви в политических делах и укрепление светского национального пространства. Отцы-основатели в Соединенных Штатах и якобинцы во Франции лелеяли представление о себе как о наследниках великих лидеров и ораторов классической Греции и Рима. Действительно, одну группу великих поэтов и писателей Британии часто называли «августанцами», а эпоху в Британии и на континенте называли эпохой неоклассицизма. В немецкоязычной Европе не было более красноречивого защитника приоритета древних, чем Иоганн Иоахим Винкельманн (1717–1768), оказавший огромное влияние на писателей и художников и создавший ложное представление о древнегреческих памятниках и зданиях как гладкий, белый и чистый. Этот идеализированный образ до сих пор присутствует в зданиях столицы нашей страны и в наших банках и библиотеках, вдохновленных греческими храмами.
Век, поставивший себя на вершину исторического прогресса, девятнадцатый век, утвердив Ренессанс как начало современности, а Просвещение как своего отрочества, разработал свою собственную версию смысла своего классическое наследование, этого взгляда назад от имени настоящего. Написание истории неизбежно столь же показательно для эпохи писателя, как и для предмета писателя. В девятнадцатом веке писатели-романтики развили собственное увлечение древним миром. Но это было очарование с оттенком настойчивости, потому что современные жители древних земель, греки, турки и арабы, рассматривались как объект сострадания и снисхождения. Байрон погиб, защищая свою любимую Грецию от османов. Элгин перевез легендарные мраморы Парфенона в Британский музей на хранение от греков, которые не ценили то, что имели. То же самое Шлиман проделал с артефактами Трои, оказавшимися в Берлине (правда, с некоторыми выборочными переделками, чтобы они выглядели более идеалистически «троянскими»).
Написание истории неизбежно столь же показательно для эпохи писателя, как и для предмета писателя. В девятнадцатом веке писатели-романтики развили собственное увлечение древним миром. Но это было очарование с оттенком настойчивости, потому что современные жители древних земель, греки, турки и арабы, рассматривались как объект сострадания и снисхождения. Байрон погиб, защищая свою любимую Грецию от османов. Элгин перевез легендарные мраморы Парфенона в Британский музей на хранение от греков, которые не ценили то, что имели. То же самое Шлиман проделал с артефактами Трои, оказавшимися в Берлине (правда, с некоторыми выборочными переделками, чтобы они выглядели более идеалистически «троянскими»).
Но к середине девятнадцатого века целью стало бросить вызов самодовольному предположению о разуме и прогрессе, унаследованному от эпохи Просвещения. В отличие от предыдущего века, девятнадцатый век сместил акцент с римской эпохи Цицерона, Ливия, Вергилия и Горация на более ранние классические итерации греческих миров Гомера, Эсхила и Софокла. Если «» Гиббона «История упадка и падения Римской империи » (1776–1788 гг.) была наиболее красноречивым выражением присвоения классического прошлого восемнадцатому столетию, то «» Ницше0063 «Рождение трагедии» (1872 г.) можно считать единственным наиболее значительным отражением взглядов конца девятнадцатого века на классическое прошлое.
Если «» Гиббона «История упадка и падения Римской империи » (1776–1788 гг.) была наиболее красноречивым выражением присвоения классического прошлого восемнадцатому столетию, то «» Ницше0063 «Рождение трагедии» (1872 г.) можно считать единственным наиболее значительным отражением взглядов конца девятнадцатого века на классическое прошлое.
Следовательно, этот сдвиг также привел к смещению интереса от политики к мифологии, от благожелательного рассмотрения римской религии как аспекта гражданской жизни (возможно, сравнимого со сдержанным христианством деизма Томаса Джефферсона) к увлечению мифическими архетипами. в дохристианской классической мысли, которая могла бы дать представление о врожденной природе человечества. Это представление, конечно, было наполнено разочарованием и подозрением в отношении современного прогресса и индустриализации, которые к концу девятнадцатого века стали очевидны перед лицом беспрецедентной бедности и недовольства, вызванных торговлей и промышленностью. Могли ли греки, родина цивилизации, рассказать нам через свои мифические архетипы что-то о природе человека до того, как она была изуродована современным прогрессом?
Могли ли греки, родина цивилизации, рассказать нам через свои мифические архетипы что-то о природе человека до того, как она была изуродована современным прогрессом?
Так думал Ницше. Первоначально он определял силу греческой трагедии как действия, связанного с религиозным ритуалом. В этом ритуале лежало видение мира, не определяемое христианством. Взяв за основу греческий миф и драматический ритуал, Ницше пришел к выводу, что в человеческом духе и, следовательно, в том, как искусство возникает и воспринимается, есть две фундаментальные, но противоречивые характеристики. Греки хорошо осознавали эту двойственность. Они олицетворяли его в виде двух богов в олимпийском пантеоне. Первым из этих богов является Аполлон, бог света, обучения и музыки. Как характерологический импульс, наполняющий искусство, аполлонический есть то, что навязывает дисциплину формы, находит красоту в симметрии и пропорции, выражает утонченное чувство, изящество и разум. Именно аполлонианец возвысил человечество над зверем и управляет действиями посредством мысли, чтобы создать порядок и способствовать развитию цивилизации. Второй бог — Дионис, бог вина и экстаза. Дионис представляет иррациональное, эротическое, физическое, раскованное и безграничное. Дионис — это ненаправленная энергия, бешеная радость и абсолютная свобода со всей вытекающей из этого разрушительностью. Дионисийский импульс есть чистый инстинкт, то, что связывает человечество с природным и животным миром. Ницше использовал эти два противоборствующих архетипа, ни один из которых не может существовать без другого, чтобы изобразить человеческий фактор, наполняющий искусство как его красотой, так и его психической силой. Совершенно неудивительно, что размышления Ницше об эстетике и истории античной культуры в преображенном виде проявились в трудах Фрейда, обнаружившего в вечной борьбе дионисийское, ставшее на языке Фрейда Ид, вместилищем разума. насильственные и сексуальные импульсы (а также его истина) и аполлоническое, или рациональное, контролирующее эго, основу человеческой цивилизации.
Второй бог — Дионис, бог вина и экстаза. Дионис представляет иррациональное, эротическое, физическое, раскованное и безграничное. Дионис — это ненаправленная энергия, бешеная радость и абсолютная свобода со всей вытекающей из этого разрушительностью. Дионисийский импульс есть чистый инстинкт, то, что связывает человечество с природным и животным миром. Ницше использовал эти два противоборствующих архетипа, ни один из которых не может существовать без другого, чтобы изобразить человеческий фактор, наполняющий искусство как его красотой, так и его психической силой. Совершенно неудивительно, что размышления Ницше об эстетике и истории античной культуры в преображенном виде проявились в трудах Фрейда, обнаружившего в вечной борьбе дионисийское, ставшее на языке Фрейда Ид, вместилищем разума. насильственные и сексуальные импульсы (а также его истина) и аполлоническое, или рациональное, контролирующее эго, основу человеческой цивилизации.
Среди художников поколения Ницше и позже это мощное объяснение человеческой природы оказалось непреодолимым.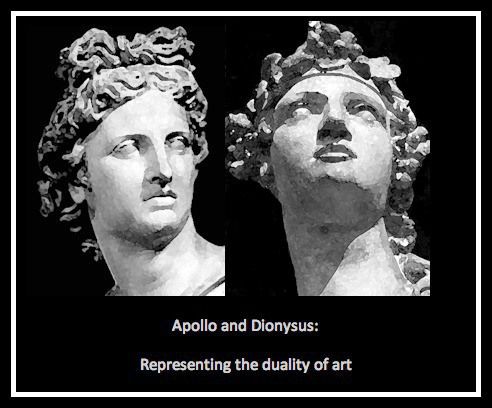 Как увлекательно предположить, что у всех нас есть первобытная сила, таящаяся в нашей душе, от которой мы защищены сознательной дисциплиной и ученым искусством цивилизации, чья истинная ценность не может отрицать неизбежную легитимность этой силы. Роберт Льюис Стивенсон утверждал, что его мастерское изображение того, что может произойти, когда нарушается баланс аполлонического и дионисийского, Доктор Джекил и мистер Хайд , был вдохновлен сном, сообщением из его собственного подсознания. Музыка была еще более благодатной ареной для исследования аполлонического и дионисийского. В конце концов, Аполлон был богом музыки, и его лира превращала звук в упорядоченные узоры красоты и симметрии. Но у Диониса также был свой священный аулус или трубка, которая доводила его последователей, менад, до неистовых оргий. Для Ницше оба импульса составляли неотъемлемые элементы музыки: красота ее формы и ее способность затрагивать первичные эмоции. Когда он восхищался Вагнером, Ницше видел в Тристан и Изольда примирение аполлонического и дионисийского, а в музыке Вагнера вообще возрождение греческого духа, который в свою очередь был отказом от моралистического христианства.
Как увлекательно предположить, что у всех нас есть первобытная сила, таящаяся в нашей душе, от которой мы защищены сознательной дисциплиной и ученым искусством цивилизации, чья истинная ценность не может отрицать неизбежную легитимность этой силы. Роберт Льюис Стивенсон утверждал, что его мастерское изображение того, что может произойти, когда нарушается баланс аполлонического и дионисийского, Доктор Джекил и мистер Хайд , был вдохновлен сном, сообщением из его собственного подсознания. Музыка была еще более благодатной ареной для исследования аполлонического и дионисийского. В конце концов, Аполлон был богом музыки, и его лира превращала звук в упорядоченные узоры красоты и симметрии. Но у Диониса также был свой священный аулус или трубка, которая доводила его последователей, менад, до неистовых оргий. Для Ницше оба импульса составляли неотъемлемые элементы музыки: красота ее формы и ее способность затрагивать первичные эмоции. Когда он восхищался Вагнером, Ницше видел в Тристан и Изольда примирение аполлонического и дионисийского, а в музыке Вагнера вообще возрождение греческого духа, который в свою очередь был отказом от моралистического христианства. Позже он изменил свое мнение о Вагнере, но не о христианстве. Нас не должно удивлять, что поколение композиторов, пойманное в эти интеллектуальные рамки, популяризированные Ницше, и боровшееся с непреодолимым наследием Вагнера, снова и снова возвращалось к этим архетипам как к источнику вдохновения и инноваций.
Позже он изменил свое мнение о Вагнере, но не о христианстве. Нас не должно удивлять, что поколение композиторов, пойманное в эти интеллектуальные рамки, популяризированные Ницше, и боровшееся с непреодолимым наследием Вагнера, снова и снова возвращалось к этим архетипам как к источнику вдохновения и инноваций.
В конце концов именно использование Ницше идеи аполлонического и дионисийского и ее поглощение современной психоаналитической теорией помогло укрепить значение этой версии классического наследия для двадцатого века. В заключительной части своего классического эссе об отношениях между протестанством и капитализмом великий социолог Макс Вебер (ярый любитель музыки) назвал затруднительное положение человека в современности «железной клеткой». В жизни не было спасения от тирании рационального действия. Ужасы Первой и Второй мировых войн подтвердили эту скептическую критику современной жизни. Музыка оставалась формой искусства, потенциально невосприимчивой к такой контролирующей рациональности.



 Это действительно одна из его ключевых концепций,
но их можно правильно понять только в контексте.
Это верно для философских терминов в целом:
идеи или формы, Бог Спинозы, идеи Беркли,
Интуиция Канта все не означает, что они означали бы
в нефилософском контексте; но вряд ли кто
предполагает, что они делают. Однако в случае с Ницше
эта ошибка является обычным явлением — конечно, потому, что немногие
другие философы, если таковые имеются, сравнялись с
яркость и многозначительность его формулировок.
Его фразы, однажды услышанные, никогда не забываются; Они
встать самостоятельно, не нуждаясь в поддержке
любого контекста; так они и зажили
независимо от намерений их сира.
Это действительно одна из его ключевых концепций,
но их можно правильно понять только в контексте.
Это верно для философских терминов в целом:
идеи или формы, Бог Спинозы, идеи Беркли,
Интуиция Канта все не означает, что они означали бы
в нефилософском контексте; но вряд ли кто
предполагает, что они делают. Однако в случае с Ницше
эта ошибка является обычным явлением — конечно, потому, что немногие
другие философы, если таковые имеются, сравнялись с
яркость и многозначительность его формулировок.
Его фразы, однажды услышанные, никогда не забываются; Они
встать самостоятельно, не нуждаясь в поддержке
любого контекста; так они и зажили
независимо от намерений их сира.  207-8.]
207-8.]