«Бессмысленные мечтания» (слова Николая II)
«Бессмысленные мечтания» – известное определение, высказанное Николаем II в отношении планов ограничения власти русского царя широкой конституцией западного образца. Эта фраза, произнесённая на приёме земских депутаций 17 января 1895 года, содержит в себе оговорку. Согласно подлинному, заранее составленному варианту речи, Николай предполагал сказать: «беспочвенные мечтания» (в смысле – не соответствующие русским национальным традициям), но от волнения ошибся. Тем не менее, именно в ошибочном варианте это выражение на все лады склонялось либеральными критиками во время и после правления Николая II – как символ его «деспотических» устремлений.
Об истории произнесения этой фразы повествует А. И. Солженицын в романе «Август Четырнадцатого» (глава 74):
…Многие отдалённые от трона и даже от столицы, подогреваемые надеждами, что над ними нет теперь твёрдой руки покойного Государя, захотели также высказывать свои мнения и иметь свою долю в управлении русскими делами. Подобные дерзкие мысли самонадеянных ораторов, чуть ли не доходящие до ограничения Государя и до конституции (в безумии говорения они не понимали, что их же самих конституция и погубит), стали высказываться на губернских земских и дворянских собраниях. Это было очень обидно, именно: что молодого монарха не считают за силу, а хотят поживиться на его первой слабости и раздёргать власть по перышкам. Но как ни был Николай молод, он понимал, что наследовал мощную силу, сильную только в своём соединении, и нельзя дать её расщеплять, ибо именно в полноте мощи она нужна огромной стране. И он собрал все свои силы и решил, что даст отпор: на приёме дворянских, земских и городских депутаций ответит им наотрез. Однако волновался как никогда в жизни. (И Аликс волновалась: достойно ли её поклониться депутациям, решила не кланяться). Стал бояться не запомнить короткую подготовленную ему речь. Но и не хотел открыто читать, а высказать как собственные свои слова, только сейчас приходящие.
Подобные дерзкие мысли самонадеянных ораторов, чуть ли не доходящие до ограничения Государя и до конституции (в безумии говорения они не понимали, что их же самих конституция и погубит), стали высказываться на губернских земских и дворянских собраниях. Это было очень обидно, именно: что молодого монарха не считают за силу, а хотят поживиться на его первой слабости и раздёргать власть по перышкам. Но как ни был Николай молод, он понимал, что наследовал мощную силу, сильную только в своём соединении, и нельзя дать её расщеплять, ибо именно в полноте мощи она нужна огромной стране. И он собрал все свои силы и решил, что даст отпор: на приёме дворянских, земских и городских депутаций ответит им наотрез. Однако волновался как никогда в жизни. (И Аликс волновалась: достойно ли её поклониться депутациям, решила не кланяться). Стал бояться не запомнить короткую подготовленную ему речь. Но и не хотел открыто читать, а высказать как собственные свои слова, только сейчас приходящие.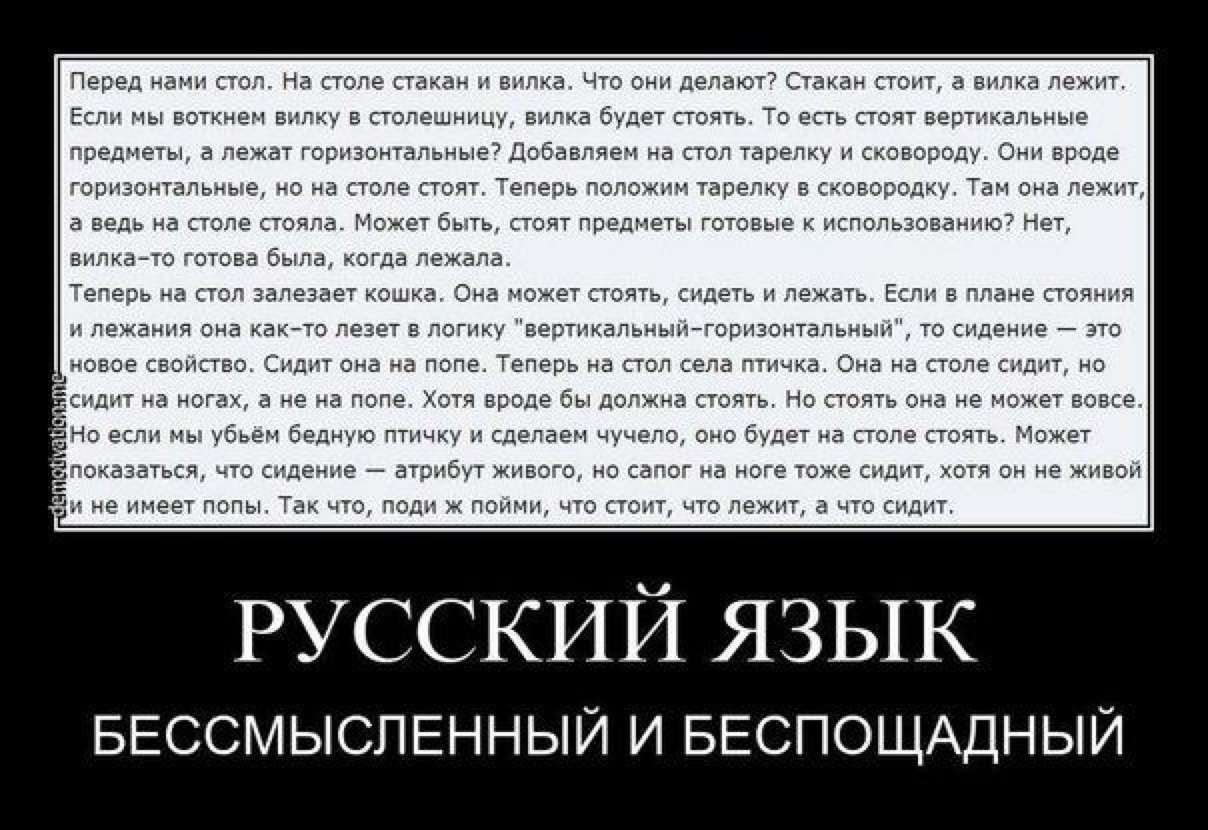 Близкие надоумили его держать записку с речью на дне фуражки, которую по церемониалу он снимет. И всё было сделано так, и произнёс ли, прочитал он всё уверенно: охранять начала самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как незабвенный родитель; но в главном месте, что некоторые земцы увлекаются беспочвенными мечтаниями об участии в делах управления, – ошибся и выговорил «бессмысленными» мечтаньями. Всё прошло хорошо, поставил их на место. (И, кажется, велика ли ошибка? – всё равно отказ. Но много лет не могли ему забыть, всё попрекали этими «бессмысленными»).
Близкие надоумили его держать записку с речью на дне фуражки, которую по церемониалу он снимет. И всё было сделано так, и произнёс ли, прочитал он всё уверенно: охранять начала самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как незабвенный родитель; но в главном месте, что некоторые земцы увлекаются беспочвенными мечтаниями об участии в делах управления, – ошибся и выговорил «бессмысленными» мечтаньями. Всё прошло хорошо, поставил их на место. (И, кажется, велика ли ошибка? – всё равно отказ. Но много лет не могли ему забыть, всё попрекали этими «бессмысленными»).
И недаром эта церемония была отмечена весьма дурным предзнаменованием: когда тверская делегация (с которой и возникли главные неприятности) подносила приветствие – из рук предводителя выпало блюдо и покатилось со звоном. Всё – на пол: хлеб – развалился, соль просыпалась. А Николай сделал помогающее услужливое движение – поднять блюдо, но ощутил, что императору это неуместно и только больше смущает всех. (И потом вспоминалось: правда, все беды начались с этого приёма, с этого блюда)…
Николай II и императрица Александра Фёдоровна (Аликс), 1896
Почти то же рассказывает об этом случае и С. С. Ольденбург в своей известнейшей монографии «Царствование императора Николая II»:
С. Ольденбург в своей известнейшей монографии «Царствование императора Николая II»:
В русском обществе восшествие на престол нового Государя породило прежде всего смутную надежду на перемены. В русской печати стали помещаться приветственные статьи по адресу молодой императрицы, в которых мимоходом высказывалось предположение, что она внесет и в русскую жизнь те начала, среди которых была воспитана. Интеллигенция считала преимущества западных государственных форм совершенно бесспорными и очевидными и была уверена, что жить при парламентарном строе – значит ценить его и любить…
На некоторых земских и дворянских собраниях звучали речи, смолкшие в царствование императора Александра III. Требование народного представительства, которое в эпоху Императора Александра II именовалось «увенчанием здания», выдвигалось снова.
И не только раздавались отдельные речи; были приняты всеподданнейшие адреса, выдвигавшие это требование в осторожных выражениях. Более радикальные земские элементы пошли рука об руку с умеренными, чтобы добиться возможно большего единодушия. Земские собрания выступали как бы ходатаями от значительного большинства русского общества. Конечно, тот шаг, о котором говорилось в земских адресах, казался ничтожным большинству интеллигенции. Ведь ее не удовлетворяли и западные конституции – достаточно для этого приглядеться к изображению иностранной жизни в русских оппозиционных газетах и «толстых журналах». Но – лиха беда начать; рассчитывали, что после первого шага быстро последуют дальнейшие.
Земские собрания выступали как бы ходатаями от значительного большинства русского общества. Конечно, тот шаг, о котором говорилось в земских адресах, казался ничтожным большинству интеллигенции. Ведь ее не удовлетворяли и западные конституции – достаточно для этого приглядеться к изображению иностранной жизни в русских оппозиционных газетах и «толстых журналах». Но – лиха беда начать; рассчитывали, что после первого шага быстро последуют дальнейшие.
Император Николай II был, таким образом, поставлен в необходимость публично исповедовать свое политическое мировоззрение. Если бы он ответил общими, неопределенными приветственными словами на пожелание о привлечении выборных земских людей к обсуждению государственных дел, это было бы тотчас истолковано, как согласие. После этого, либо пришлось бы приступить к политическим преобразованиям, которых Государь не желал, либо общество, с известным основанием, сочло бы себя обманутым.
Говорить «нет» в ответ на верноподданнические адреса всегда нелегко. Если бы та внешняя черта характера Государя, которая так раздражала министров, – неопределенный ответ, за которым следует заочный отказ – была действительно Его непреоборимым свойством, Он вероятно ответил бы и тут общими местами на адреса с конституционными пожеланиями. Но Государь не захотел вводить общество в заблуждение. Как ни оценивать отказ по существу, – прямое заявление о нем было со стороны монарха только актом политической честности.
Если бы та внешняя черта характера Государя, которая так раздражала министров, – неопределенный ответ, за которым следует заочный отказ – была действительно Его непреоборимым свойством, Он вероятно ответил бы и тут общими местами на адреса с конституционными пожеланиями. Но Государь не захотел вводить общество в заблуждение. Как ни оценивать отказ по существу, – прямое заявление о нем было со стороны монарха только актом политической честности.
В своей речи 17 января 1895 г. к земским депутациям, Государь сказал: «Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления; пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой покойный незабвенный Родитель».
Слово «беспочвенные» мечтания (которое, как утверждают, имелось в первоначальном тексте речи) лучше выражало мысль царя, и оговорка была, конечно, досадной; но дело было не в форме, а в существе.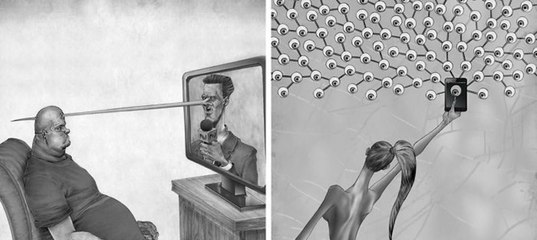 Как из манифеста 29 апреля 1881 г. Россия узнала, что преемник умерщвленного монарха решил твердо оберегать, самодержавную власть, так из этой речи молодого Государя сразу стало известно, что он в этом вопросе не намерен отступать от пути своего отца.
Как из манифеста 29 апреля 1881 г. Россия узнала, что преемник умерщвленного монарха решил твердо оберегать, самодержавную власть, так из этой речи молодого Государя сразу стало известно, что он в этом вопросе не намерен отступать от пути своего отца.
Среди разноречивого хора иностранной печати выделяется передовая статья влиятельнейшей английской газеты «Times» (18 (30) января 1895): «О русских учреждениях не следует судить с западной точки зрения, и было бы ничем иным, как дерзостью, – осуждать их за несоответствие идеям, возникшим из совершенно иных обстоятельств и из совершенно несходной истории. Судя по всем обычным признакам национального преуспеяния, самодержавная власть царя весьма подходит России; и не иностранцам, во всяком случае, подобает утверждать, что ей лучше подошло бы что-нибудь другое. Тот образ правления, о котором только что царь высказал свою решимость сохранить его, может во всяком случае развернуть историю таких достижений в государственном строительстве, с которыми его соперники не могут и претендовать сравняться. В России во всяком случае он должен быть в настоящее время признан, как основоположный факт».
В России во всяком случае он должен быть в настоящее время признан, как основоположный факт».
Русское образованное общество, в своем большинстве, приняло эту речь, как вызов себе. Русская печать из-за цензуры, конечно, не могла этого явно выразить. Характерны, однако, для этой эпохи «внутренние обозрения» толстых журналов. «Северный Вестник» (от 1 февраля того же года) в оглавлении отмечает на первом месте речь Государя к земским делегациям, затем ряд мелких событий. В тексте – приведена речь Государя: ни слова комментария; обозрение прямо переходит к очередным мелочам. «Цензурного сказать нечего» – ясно говорила редакция читателям…
В то время, как умеренно-либеральная «Русская Мысль» огорченно умалчивала об этой речи, социалистическое «Русское Богатство» писало [в феврале 1895] с явным злорадством: «С неопределенностью в душе, с тревогами, опасениями и надеждами встретило наше общество 1895-й год. Первый же месяц нового года принес разрешение всех этих неопределенностей. Высочайшая речь 17 января… была этим историческим событием, положившим конец всякой неопределенности и всем сомнениям… Царствование Императора Николая Александровича начинается в виде прямого продолжения пришлого царствования».
Высочайшая речь 17 января… была этим историческим событием, положившим конец всякой неопределенности и всем сомнениям… Царствование Императора Николая Александровича начинается в виде прямого продолжения пришлого царствования».
По поводу этой речи 17 января тотчас же стали слагаться легенды. Ее решительное содержание мало соответствовало общим представлениям о Государе. Поэтому начали утверждать, что эта речь Ему кем-то продиктована. Начали искать, «кто за этим скрывается». Гадали на Победоносцева, на министра внутренних дел И. Н. Дурново.
Германский посол фон Ведер отмечает со своей стороны (3 (15) февраля): «В начале царствования им (Императором) увлекались, превозносили все его действия и его речи до небес. Как теперь все изменилось! Начало перемен положила неожиданно резкая речь Императора к депутациям. Она составлена была не министром Дурново, как сначала думали; тот узнал только от военного министра, что император хочет говорить. Император собственноручно написал эту речь и положил ее в свою фуражку. По всей России она резко критикуется.
По всей России она резко критикуется.
Речь [о «бессмысленных мечтаниях»] 17 января развеяла надежды интеллигенции на возможность конституционных преобразований сверху. В этом отношении она послужила исходной точкой для нового роста революционной агитации, на которую снова стали находить средства.
Николай II в государственных вопросах придерживался взглядов, близких к тем, которые высказал К. Победоносцев в «Московском сборнике».
«[БЕССМЫСЛЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ]». 1895 / Лев Толстой
Знаменитая статья Толстого вызвана речью 17 января 1895 г. только что вступившего на русский престол Николая II перед депутатами от земства и дворянства, в которой он грубо «отвел» предложения о привлечении представителей народа к делам управления страной, назвав их «бессмысленными мечтаниями», и заявил, что будет «охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его незабвенный родитель». Запись в Дневнике Толстого: «Событие важное, которое, боюсь, для меня не останется без последствий, – это дерзкая речь государя».
В одном из писем отмечена его реакция: «По случаю “бессмысленных мечтаний” всеми силами стараюсь негодование заменить состраданием, но до сих пор безуспешно». И он признается, что «совсем было хотел написать письмо Николаю II по случаю его речи земствам, но почувствовал, что руководило мною не доброе чувство <…> Может быть, так и не нужно, а может быть, придет случай и время, когда потребуется» (Т. 68, c. 46).
Либеральная интеллигенция пыталась привлечь Толстого к участию в общественном протесте. Он был приглашен Д. И. Шаховским участвовать 26 января в совещании под председательством П. Н. Милюкова, где обсуждалось, как выразить протест по поводу речи царя. Собравшиеся просили Толстого написать протест от лица русской интеллигенции, чтобы выступить с ним в заграничной прессе*.
Толстой писать протест отказался, записав в Дневнике: «Все глупо и очевидно, что организация только парализует силы частных людей».
Он отказался подписать адрес от имени ученых и литераторов, просивших царя о «принятии русской литературы под сень закона <. ..> дабы русское печатное слово могло послужить славе, величию и благоденствию России» и «дать русскому народу свободу слова, совести и собраний и созвать народных представителей». В. А. Поссе, в то время редактору журнала «Новое слово», привезшему адрес в Хамовники, Толстой объяснил: «Они ему пишут, что он все может, что он может теми или другими законами и распоряжениями осчастливить свой народ. Это значит – обманывать и себя и его. Он ничего не может. Так ему и следует написать: “Ты ничего не можешь сделать, пока ты царь. Единственное, что можешь сделать для народа и для себя лично, – это отказаться от престола, перестать быть царем”». Также Толстой заметил, что напрасно его упрекают в том, что он пишет о том, как лучше устроить жизнь, не зная экономической науки, в частности того, что «открыл Карл Маркс»: «Ошибаются. Я внимательно прочел “Капитал” Маркса и готов сдать по нему экзамен»**.
..> дабы русское печатное слово могло послужить славе, величию и благоденствию России» и «дать русскому народу свободу слова, совести и собраний и созвать народных представителей». В. А. Поссе, в то время редактору журнала «Новое слово», привезшему адрес в Хамовники, Толстой объяснил: «Они ему пишут, что он все может, что он может теми или другими законами и распоряжениями осчастливить свой народ. Это значит – обманывать и себя и его. Он ничего не может. Так ему и следует написать: “Ты ничего не можешь сделать, пока ты царь. Единственное, что можешь сделать для народа и для себя лично, – это отказаться от престола, перестать быть царем”». Также Толстой заметил, что напрасно его упрекают в том, что он пишет о том, как лучше устроить жизнь, не зная экономической науки, в частности того, что «открыл Карл Маркс»: «Ошибаются. Я внимательно прочел “Капитал” Маркса и готов сдать по нему экзамен»**.
Отказался Толстой подписать и петицию петербургских и московских писателей, ученых и публицистов (114 подписей) об освобождении печати от произвола и подчинении ее лишь законодательству.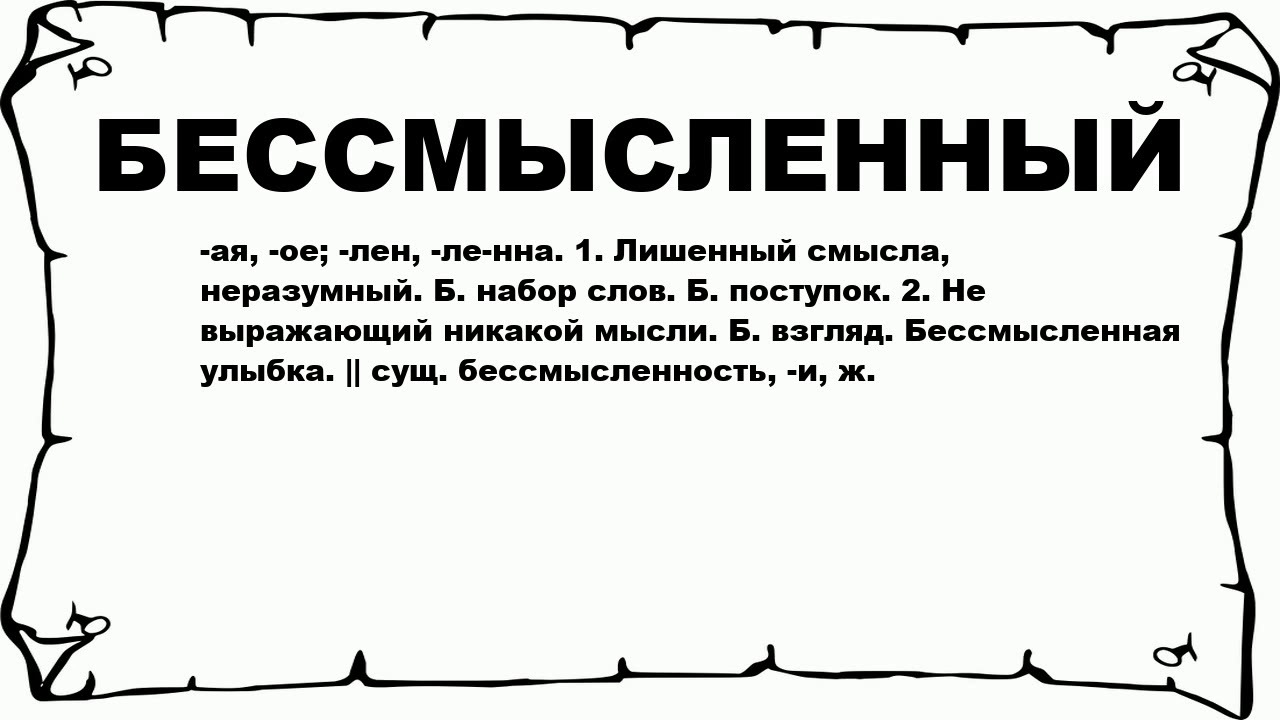
Незавершенная статья была впервые опубликована в 1917 г. в газете «Утро России» (№№ 134, 136).
ПСС, т. 31, с. 185–192.
* См.: Шаховской Д. И. Толстой и русское освободительное движение // Минувшие годы. – 1908. – № 9.
** Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. – М., 1978. – Т. 2. – С. 251-252.
Царь Николай II — IMDb
Назад- Биография
- Награды
- Общая информация
IMDbPro
Что будет со мной и со всей Россией? Я не готов быть царем. Я никогда не хотел им стать. Я ничего не знаю о бизнесе правления. Я даже не представляю, как разговаривать с министрами.
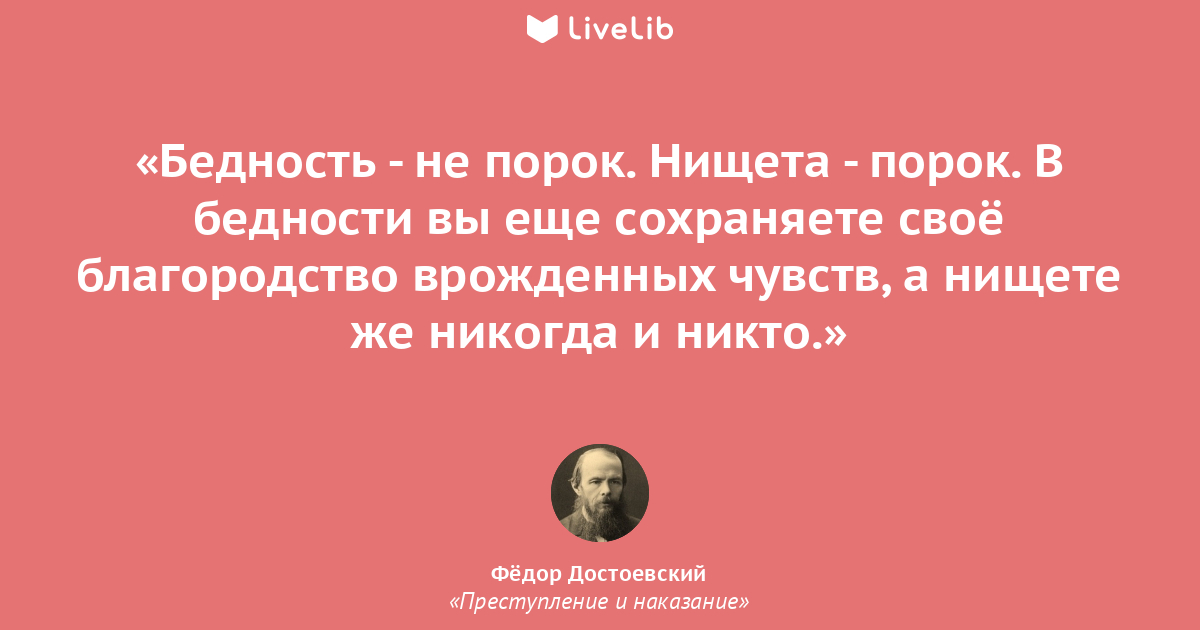
Среди людей нет справедливости.
Царская система не была обречена к 1914 году.
Утром я согрелся, сидя на крыше теплицы.
Принцип Самодержавия буду хранить так же твердо и неуклонно, как мой покойный отец.
Беспорядки и беспорядки в столицах и во многих местностях Империи Нашей наполняют сердце Наше великой и тяжелой скорбью. Благо Российского Государя неотделимо от благоденствия народного; и национальная печаль — это Его печаль.
Я никогда, ни при каких обстоятельствах не соглашусь на представительную форму правления, потому что считаю ее вредной для людей, которых Бог доверил моей заботе.
«Этот толстый Родзянко опять прислал мне какую-то чушь, на которую я даже не буду отвечать».
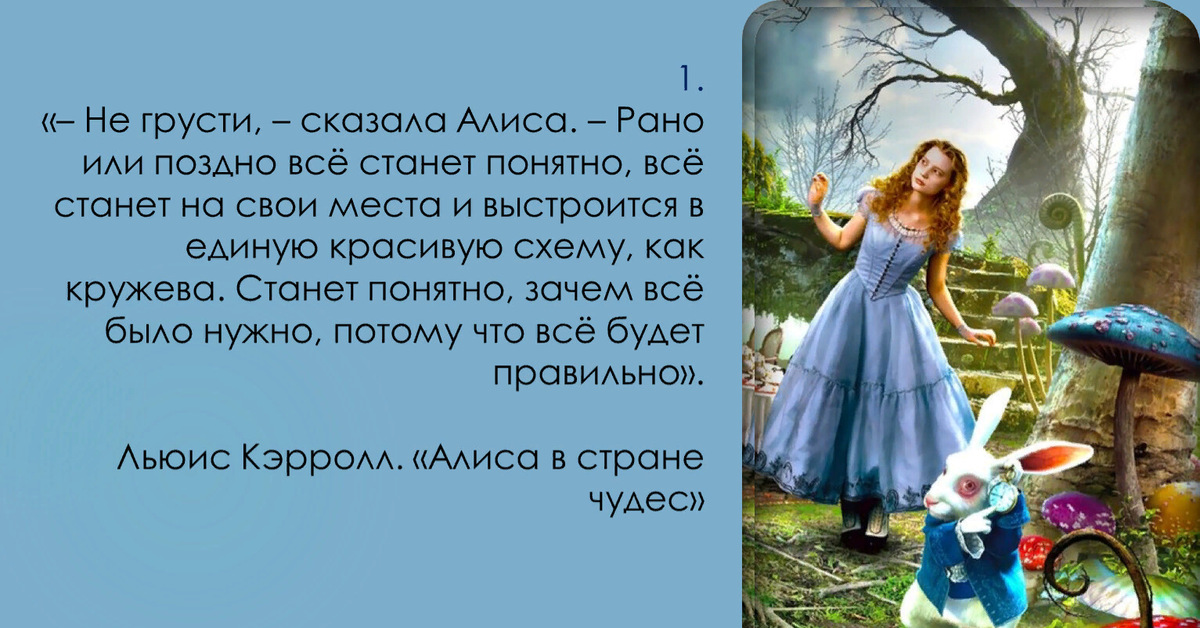 (Николай II, отвечая Родзянко в феврале 1917 г.).
(Николай II, отвечая Родзянко в феврале 1917 г.).Пока я жив, я никогда больше не доверю этому человеку (Витте) даже малейшую вещь. С меня вполне хватило прошлогоднего эксперимента. Для меня это до сих пор кошмар.
«Он просто хороший, религиозный, простодушный русский. В беде или сомнениях я люблю с ним побеседовать и после этого неизменно нахожусь в мире с самим собой.» (Николай II о Распутине).
Мнение нашего Друга [Распутина] о людях бывает иногда очень странным, как ты сам знаешь; поэтому нужно быть осторожным.
Те, кто верят, что могут участвовать в правительстве, видят бессмысленные сны.
Японцы неверные. Мощь Святой Руси сокрушит их.
Я не знаю цены вещам; У меня никогда не было причин платить за что-либо самому.

Алексей принял первую ванну после Тобольска: колено поправляется, но полностью выпрямить его пока не может. Погода теплая и приятная. У нас нет абсолютно никаких новостей извне. 9
Еще от этого человека исследовать
Недавно просмотренные
У вас нет недавно просмотрено страниц
Замечания Кливлендскому городскому клубу, 5 апреля 1968 г.
(Следующий текст взят из пресс-релиза замечаний Роберта Ф. Кеннеди.)
Роберт Ф. Кеннеди
Cleveland City Club
5 апреля 1968Это время позора и печали. Это не день для политики. Я сохранил эту единственную возможность, чтобы кратко рассказать вам об этой бессмысленной угрозе насилия в Америке, которая снова запятнала нашу землю и каждую из наших жизней.
Это не забота какой-либо одной расы. Жертвами насилия являются черные и белые, богатые и бедные, молодые и старые, известные и неизвестные.
 Они, самое главное, люди, которых любили и в которых нуждались другие люди. Никто — где бы он ни жил и чем бы ни занимался — не может быть уверен, кто пострадает от бессмысленного кровопролития. И все же это продолжается и продолжается.
Они, самое главное, люди, которых любили и в которых нуждались другие люди. Никто — где бы он ни жил и чем бы ни занимался — не может быть уверен, кто пострадает от бессмысленного кровопролития. И все же это продолжается и продолжается.Почему? К чему когда-либо приводило насилие? Что оно когда-либо создавало? Дело ни одного мученика никогда не было остановлено пулей его убийцы.
Ни одно зло еще не было исправлено бунтами и гражданскими беспорядками. Снайпер всего лишь трус, а не герой; а неуправляемая, неуправляемая толпа есть только голос безумия, а не голос народа.
Всякий раз, когда жизнь какого-либо американца без необходимости забирает другой американец, будь то во имя закона или вопреки закону, одним человеком или бандой, хладнокровно или в страсти, в результате приступа насилия или в ответ на насилие — всякий раз, когда мы рвем ткань жизни, которую другой человек мучительно и неумело соткал для себя и своих детей, вся нация деградирует.
«Среди свободных людей, — сказал Авраам Линкольн, — не может быть успешной апелляции от бюллетеня к пуле; и те, кто примет такой призыв, обязательно проиграют свое дело и оплатят расходы».
 Далекие земли. Мы прославляем убийство на экранах кино и телевидения и называем это развлечением. Мы облегчаем людям всех оттенков здравомыслия приобретение оружия и боеприпасов, которые они желают.
Далекие земли. Мы прославляем убийство на экранах кино и телевидения и называем это развлечением. Мы облегчаем людям всех оттенков здравомыслия приобретение оружия и боеприпасов, которые они желают.Слишком часто мы чтим чванство, хвастовство и обладателей силы; слишком часто мы прощаем тех, кто готов строить свою жизнь на разрушенных мечтах других. Некоторые американцы, которые проповедуют ненасилие за границей, не практикуют его дома. Некоторые, обвиняющие других в подстрекательстве к беспорядкам, сами пригласили их.
Одни ищут козлов отпущения, другие ищут заговоры, но это и так ясно; насилие порождает насилие, подавление приносит возмездие, и только очищение всего нашего общества может удалить эту болезнь из нашей души.
Ибо есть другой вид насилия, более медленный, но такой же смертоносный, разрушительный, как выстрел или бомба в ночи. Это насилие институтов; безразличие и бездействие и медленное разложение. Это насилие, поражающее бедняков, отравляющее отношения между людьми, потому что их кожа имеет разный цвет.
 Это и медленная гибель ребенка от голода, и школы без книг, и дома без тепла зимой.
Это и медленная гибель ребенка от голода, и школы без книг, и дома без тепла зимой.Это слом мужского духа, когда ему отказывают в возможности быть отцом и мужчиной среди других мужчин. И это тоже касается всех нас. Я пришел сюда не для того, чтобы предложить набор конкретных средств, и нет единого набора. Для широкого и адекватного наброска мы знаем, что нужно сделать. Когда вы учите человека ненавидеть и бояться своего брата, когда вы учите, что он низший человек из-за своего цвета кожи, своих убеждений или политики, которую он проводит, когда вы учите, что те, кто отличается от вас, угрожают вашей свободе или вашей работе или свою семью, то вы также научитесь противостоять другим не как согражданам, а как врагам, чтобы вас встречали не сотрудничеством, а завоеванием, чтобы вас покоряли и господствовали.
Наконец-то мы научимся смотреть на наших братьев как на чужаков, людей, с которыми мы делим город, но не общину, людей, связанных с нами общим жилищем, но не общими усилиями.
Мы учимся разделять только общий страх — только общее желание отступить друг от друга — только общее стремление встретить несогласие силой. На все это нет окончательных ответов.
Но мы знаем, что должны делать. Это достижение истинной справедливости среди наших сограждан. Теперь вопрос в том, какие программы мы должны стремиться реализовать. Вопрос в том, сможем ли мы найти среди самих себя и в своих сердцах то руководство человеческой целью, которое признает страшные истины нашего существования.
Мы должны признать тщетность наших ложных различий между людьми и научиться находить собственный прогресс в стремлении к прогрессу всех. Мы должны признать в себе, что собственное детское будущее нельзя строить на чужих несчастьях. Мы должны признать, что эту короткую жизнь нельзя ни облагородить, ни обогатить ни ненавистью, ни местью.
Наша жизнь на этой планете слишком коротка, а работа, которую нужно проделать, слишком велика, чтобы позволить этому духу еще процветать на нашей земле.

