Бердяев Николай Александрович | Философский факультет
6 (18) марта 1874 — 23 марта 1948.
Род. в Киеве в старинной дворянской семье. Род Бердяевых был известен со второй половины ХV в. По традиции Б. был зачислен в пажи с самого детства, а затем учился в Киевском и Владимирском кадетских корпусах. Выйдя в 1891 г. из кадетского корпуса, готовился к сдаче экзаменов на аттестат зрелости дома. В 1894 г. поступил в Киевский ун-т им. св. Владимира на естественный фак-т, через год перевелся на юридический. В студенческие годы увлекся марксизмом, вступил в революционный студенческий кружок и Киевский Союз борьбы за освобождение рабочего класса. «…Выход из мира аристократического в мир революционный – основной факт моей биографии, не только внешней, но и внутренней», — так оценил Б. это событие в своей жизни (Самопознание. Опыт филос. автобиографии. М.: 1990, с. 37). В 1897 г. был арестован за участие в демонстрации, в 1898 г. – арестован во второй раз за организацию беспорядков. После суда был выслан в Вологодскую губернию, в результате чего в 1900 г. университетское образование Б. оборвалось навсегда. Первая книга Б. «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н.К.Михайловском» (1901) содержала попытку соединения марксисткой критики общества («негативной правды») с идеализмом в философии, но, не удовлетворившись эклектичными результатами такой попытки, Б. постепенно отходит от марксизма. Значительное влияние на Б. в это время оказало общение с С.Н. Булгаковым, к-рый, тоже пережив увлечение марксизмом, обратился к религ. филос-и. Последний ссыльный год Б. провел в Житомире, после чего вернулся в Киев.
После суда был выслан в Вологодскую губернию, в результате чего в 1900 г. университетское образование Б. оборвалось навсегда. Первая книга Б. «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н.К.Михайловском» (1901) содержала попытку соединения марксисткой критики общества («негативной правды») с идеализмом в философии, но, не удовлетворившись эклектичными результатами такой попытки, Б. постепенно отходит от марксизма. Значительное влияние на Б. в это время оказало общение с С.Н. Булгаковым, к-рый, тоже пережив увлечение марксизмом, обратился к религ. филос-и. Последний ссыльный год Б. провел в Житомире, после чего вернулся в Киев.
В 1904 году Б. переехал в Петербург и вошел в редакцию религиозно-общественного журнала «Новый путь». В личной жизни Б. переезду предшествовало важное событие: он женился на Лидии Юдифовне Трушевой (1874-1945), с к-рой прожил до самой ее смерти. С 1905 г. Б. с Булгаковым редактировали продолжение «Нового пути» – журн. «Вопросы жизни».
Революция 1905-07 г. подтвердила уверенность Бердяева в том, что революционные марксистские схемы не могут привести к положительным результатам. Знаменитый сб. «Вехи» открывался статьей Б. «Филос. истина и интеллигентская правда», где Б. поставил безжалостный диагноз русск. интеллигенции: «исключительное, деспотическое господство утилитарно-морального критерия, столь же исключительное, давящее господство народолюбия и пролетаролюбия, поклонение «народу», его пользе и интересам», когда любая философская система, любое событие в культурной жизни оценивается лишь с точки зрения «полезности» освободительному движению, — все это привело к тому, что «любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине» (Вехи.
В это время Б. испытывает сильное слияние нем. мистики, в частности, учения Я.Беме о Боге как «безосновании» (Ungrund), свободе, бездне, на которой основан мир. Под влиянием этой идеи в философии Б. формулируется мысль о существовании первичной, добытийственной свободы. В одном из писем Б. писал: «…Для меня свобода находится вне Бога. В этом смысле я скорее дуалист, чем монист, хотя все эти слова неудачны»(Б. и Шестов. Переписка и воспоминания.// «Континент», Париж: 1981. №30, с. 310). Такая трактовка соотношения Бога и свободы стала основанием своеобразной теодицеи. Так как свобода не создается Богом, она коренится в Ничто, в Ungrund, то Бог-творец не может отвечать за свободу, породившую зло. Если первый этап духовной эволюции мыслителя можно считать марксистским, второй — идеалистическим, то с постановки именно этой проблемы начался третий, христианский период его духовного развития.
В 1911 г. вышла книга Б. «Философия свободы», а в 1916 г. Б. издал одну из своих «главных» книг — «Смысл творчества. Опыт оправдания человека», в к-рой и сформулировал основные положения своей экзистенциальной религиозной философии. Книга вызвала чрезвычайно неоднозначную реакцию: резкую критику В.Розанова, Д.Мережковского и А.Карташова, восторженные отзывы Л.Шестова и В.Зеньковского, а С.Левицкий назвал ее позднее «первым шедевром» Б. Первичным, ни из чего не выводимым началом, Б. объявлял свободу, к-рая является и свободой выбора между добром и злом. Свобода не м. б. ограничена никаким чуждым ей бытием, в том числе и Божьим. Бог выражает лишь светлую сторону этой свободы, и созданный им мир тоже был бы быть светел и добр. Но Бог не может принудить мир к добру, а свободный выбор человека не всегда в пользу добра. Миф о грехопадении говорит, по Б., о бессилии Бога предотвратить зло, исходящее из несотворенной им свободы. Возникает падший, греховный мир объектов вокруг нас. Мир должен пройти искушение свободой, чтобы его выбор в пользу добра был не внешним принуждением, но внутренним свободным выбором.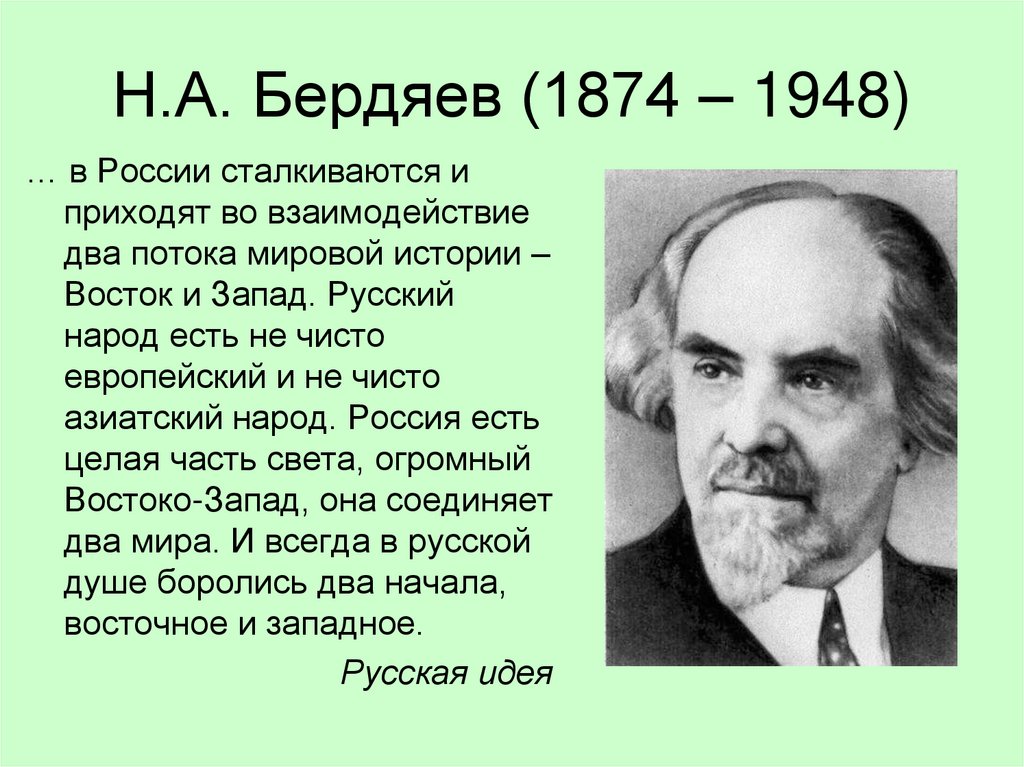

С 1912 г. в силу появления модернистских идей в его творчестве начинается отход Б. от православного кружка, сложившегося вокруг изд. «Путь». В 1913г. в газ. «Русская молва» вышла статья Б. «Гасители духа», содержавшая резкую критику действий Святейшего Синода в деле «имяславцев» на Афоне. Б. не испытывал особой симпатии к религ. движению «имяславцев», но его возмутили насильственных способы, к-рыми Синод боролся с течением. Номер газеты со статьей Б. был конфискован, а против автора было возбуждено судебное преследование по статье о богохульстве. Осуждение по этой статье каралось обычно вечным поселением в Сибири. Только в 1917 г. дело было прекращено.
Важной темой многих работ Б. была философия русской истории. Россию Б. рассматривал как место соприкосновения различных духовных традиций, как Востоко-Запад. В сб. статей «Судьба России» (1918) Б. отмечал, что «Духовные силы России не стали еще имманентны культурной жизни европейского человечества. Для западного культурного человечества Россия все еще остается.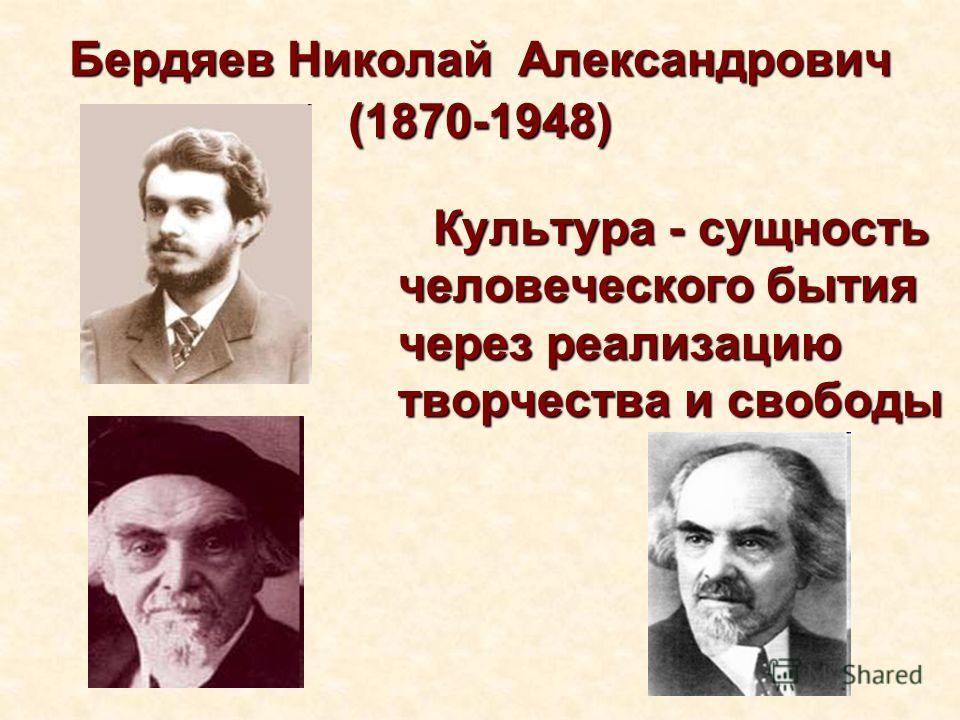
Падение самодержавия в феврале 1917 года Б. встретил восторженно, как шаг вперед по пути всемирного предназначения России. Но Октябрьскую революцию он оценил уже иначе: для него большевистский переворот стал победой разрушительного начала в русской революции. Заключение же правительством Ленина Брестского мира Б. воспринял как предательство национальных интересов и гибель «эмпирической» России. В период 1917-18 гг. им было написано более 40 статей. В это же время Б. написал еще одну работу, чрезвычайно важную для понимания его отношения к социализму, — «Философия неравенства. Письма к недругам о социальной философии» (написана в 1918 г., издана в Берлине в 1923 г.) В этой книге Б. обосновывал право на неравенство, ведь без иерархизма, без аристократического начала невозможна духовная жизнь: «Всякое творческое движение есть возникновение неравенства, возвышение, выделение качеств из бескачественной массы… От неравенства родился и мир, космос. От неравенства родился и человек… Насильственное требование уравнения… есть посягательство на разрушение космического иерархического строя» (Собр. соч., т. 4. – Paris: 1990, с. 309). Книга была резкой критикой уравнительного социализма.
воспринял как предательство национальных интересов и гибель «эмпирической» России. В период 1917-18 гг. им было написано более 40 статей. В это же время Б. написал еще одну работу, чрезвычайно важную для понимания его отношения к социализму, — «Философия неравенства. Письма к недругам о социальной философии» (написана в 1918 г., издана в Берлине в 1923 г.) В этой книге Б. обосновывал право на неравенство, ведь без иерархизма, без аристократического начала невозможна духовная жизнь: «Всякое творческое движение есть возникновение неравенства, возвышение, выделение качеств из бескачественной массы… От неравенства родился и мир, космос. От неравенства родился и человек… Насильственное требование уравнения… есть посягательство на разрушение космического иерархического строя» (Собр. соч., т. 4. – Paris: 1990, с. 309). Книга была резкой критикой уравнительного социализма.
Б. был чрезвычайно активен в первые послереволюционные годы. В начале 1918 г. у него на квартире возникла Вольная Академия духовной культуры (ВАДК), официально зарегистрированная в Моссовете через год. Академия просуществовала до 1922 г. В ВАДК читали курсы лекций А.Белый, Вяч.Иванов, С.Франк, Ф.Степун и, разумеется, сам Б. В это же время Б. много работал в правлении Всероссийского Союза писателей, около года замещая его председателя. В 1920 г. он стал проф. Московского университета, где читал курсы лекций о миросозерцании Ф.Достоевского и о философии истории на историко-филологическом факультете. Курсы лекций легли затем в основу таких работ, как «Смысл истории»(1923) и «Миросозерцание Достоевского»(1923), вышедших уже за рубежом. Тогда же Б. стал действительным членом Вольной философской ассоциации, одним из учредителей Лиги русской культуры, членом экуменического Общества соединения церквей, участвовал в работе Лавки писателей, читал публичные лекции в Политехническом музее и др. Б. был далек от реальной политической борьбы. Тем не менее, он дважды был арестован: в 1920 г. в связи с раскрытием подпольного “Тактического центра” (был допрошен лично Ф.Дзержинским и отпущен). Обыск и второй арест состоялись в 1922 г.
Академия просуществовала до 1922 г. В ВАДК читали курсы лекций А.Белый, Вяч.Иванов, С.Франк, Ф.Степун и, разумеется, сам Б. В это же время Б. много работал в правлении Всероссийского Союза писателей, около года замещая его председателя. В 1920 г. он стал проф. Московского университета, где читал курсы лекций о миросозерцании Ф.Достоевского и о философии истории на историко-филологическом факультете. Курсы лекций легли затем в основу таких работ, как «Смысл истории»(1923) и «Миросозерцание Достоевского»(1923), вышедших уже за рубежом. Тогда же Б. стал действительным членом Вольной философской ассоциации, одним из учредителей Лиги русской культуры, членом экуменического Общества соединения церквей, участвовал в работе Лавки писателей, читал публичные лекции в Политехническом музее и др. Б. был далек от реальной политической борьбы. Тем не менее, он дважды был арестован: в 1920 г. в связи с раскрытием подпольного “Тактического центра” (был допрошен лично Ф.Дзержинским и отпущен). Обыск и второй арест состоялись в 1922 г.
Годы жизни в Берлине были наполнены активной деятельностью: по инициативе Б. и при содействии Американского Христианского Союза Молодежи (YMCA) в декабре 1922г. была создана Религиозно-философская академия, продолжившая традиции ВАДК; в 1923г. для обучения эмигрантской молодежи был открыт Русский научный институт, деканом отделения к-рого стал Бердяев. Тогда же Б. вошел в совет Русского студенческого христианского движения (РСХД) – одного из самых долговечных среди многочисленных эмигрантских организаций, век к-рых зачастую был очень короток. Б. стал почетным членом совета РСХД и участвовал в его работе вплоть до 1936 г. При его участии возникло два филос. журнала — «София» и «Путь». Б. стал заметной фигурой в западноевропейских филос. кругах. Он лично познакомился с известными философами — О.Шпенглером, М.Шеллером, общеевропейскую известность принесла ему книга «Новое средневековье. Размышления о судьбе России и Европы» (1924).
журнала — «София» и «Путь». Б. стал заметной фигурой в западноевропейских филос. кругах. Он лично познакомился с известными философами — О.Шпенглером, М.Шеллером, общеевропейскую известность принесла ему книга «Новое средневековье. Размышления о судьбе России и Европы» (1924).
Б. обратился к истории средних веков. Образы средневековья — это образы монаха и рыцаря как двух разновидностей аскетической личности, сконцентрированной на своем внутреннем мире. Вместе с тем, средневековье сковывало свободу творчества, поэтому на смену ему пришел Ренессанс, к-рый Б. характеризовал как эпоху отпадения человека от Бога, что породило самонадеянность человека и человечества. Именно это, считал Б., привело к иссяканию творческих сил, более не служащих высшей, абсолютной цели. Самонадеянность человека полнее всего выразились в эпоху позднего Возрождения, когда стало складываться новое отношение человека к природе, — отношение господина и покорителя. Связано это было с вхождением машин и техники в человеческую жизнь. Б. назвал это величайшей революцией в истории человечества, радикально изменившей весь склад и ритм жизни. Машина не только покорила природу, она покорила и человека. Цивилизация развила колоссальные технические силы, которые, по замыслу, должны были обеспечить господство человека над природой. На деле же, эти технические силы властвуют над самим человеком, делают его рабом техники, убивают не только его душу, но иногда и тело. К 19 в., писал Б., наступила эпоха разочарования. Типы монаха и рыцаря с их сильной самодисциплиной уступили место типам торгаша и шофера с тем, чтобы далее уступить место типу комиссара, во имя «народа» тиранящего народ. В этом смысле, буржуазная цивилизация, считал Б., не есть нормальная форма культуры. Она является лишь затянувшимся переходом от старого средневековья, где невежество и варварство пронизывались все же христианским светом, к новому состоянию общества, в к-ром религия вновь займет подобающее ей место. Выход Бердяев видел во вступлении человечества в эпоху «нового средневековья».
Б. назвал это величайшей революцией в истории человечества, радикально изменившей весь склад и ритм жизни. Машина не только покорила природу, она покорила и человека. Цивилизация развила колоссальные технические силы, которые, по замыслу, должны были обеспечить господство человека над природой. На деле же, эти технические силы властвуют над самим человеком, делают его рабом техники, убивают не только его душу, но иногда и тело. К 19 в., писал Б., наступила эпоха разочарования. Типы монаха и рыцаря с их сильной самодисциплиной уступили место типам торгаша и шофера с тем, чтобы далее уступить место типу комиссара, во имя «народа» тиранящего народ. В этом смысле, буржуазная цивилизация, считал Б., не есть нормальная форма культуры. Она является лишь затянувшимся переходом от старого средневековья, где невежество и варварство пронизывались все же христианским светом, к новому состоянию общества, в к-ром религия вновь займет подобающее ей место. Выход Бердяев видел во вступлении человечества в эпоху «нового средневековья».
В 1924 г. Б. переехал во Францию, жил в Кламаре, пригороде Парижа, вместе с женой, ее сестрой, Е.Ю.Рапп, и их матерью. Благодаря усилиям Б. в Париже в 1924 г. открылась Религиозно-философская академия, где он читал ряд лекционных курсов («О проблемах христианства», «Об основных темах русской мысли 19 в.», «Судьба культуры», «Человек, мир и Бог» и др.), вел семинары. Сюда же в 1925 г. переехал и журн. «Путь», к-рый он редактировал вплоть до 1940г. Б. был не только редактором, но и постоянным автором «Пути»: в журнале было напечатано 87 его статей. Печатался Б. и в газетах «Дни», «Последние новости», «Русские новости», журналах «Современные записки», «Новый Град», «Вестник РСХД», «Русские записки», «Новая Россия» и др. До самой своей смерти он был редактором издательства YMCA-Press, где вышли почти все его эмигрантские книги. Б. принимал участие в работе литературного объединения «Кочевье», основал вместе с о. Сергием (Булгаковым), Г.Федотовым, И.Фондаминским и о. Василием (Зеньковским) Лигу православной культуры (1930-35).
Б. был одним из немногих мыслителей русского зарубежья, к-рый печатался не только на русском, но и на иностранных языках: почти все написанные им книги были переведены на французский, английский, немецкий. Религиозный экзистенциализм Бердяева получил отклик в среде западноевропейских мыслителей, его филос. идеи были высоко оценены Ж.Маритеном, Г.Марселем, Ж.Блоком и др. Особенно влияние Б. было заметно на философские кружки вокруг журнала «Esprit», созданного Э.Мунье в 1932 г. и положившего начало французскому персонализму. В его доме собирался «Кружок интерконфессиональных исследований», ставивший перед собой цель сближения различных церквей с участием Ж.Маритена, о. Сергия (Булгакова), Г.Федотова, Г.Флоровского, В.Моно и др. Б. в течение всей своей жизни на Западе пытался создать атмосферу взаимопонимания, соприкосновения между русской философской традицией и западноевропейской. В 1927г. книга Б. «Философия свободного духа» получила премию Французской Академии. В 1947г. Кембриджским университетом Б.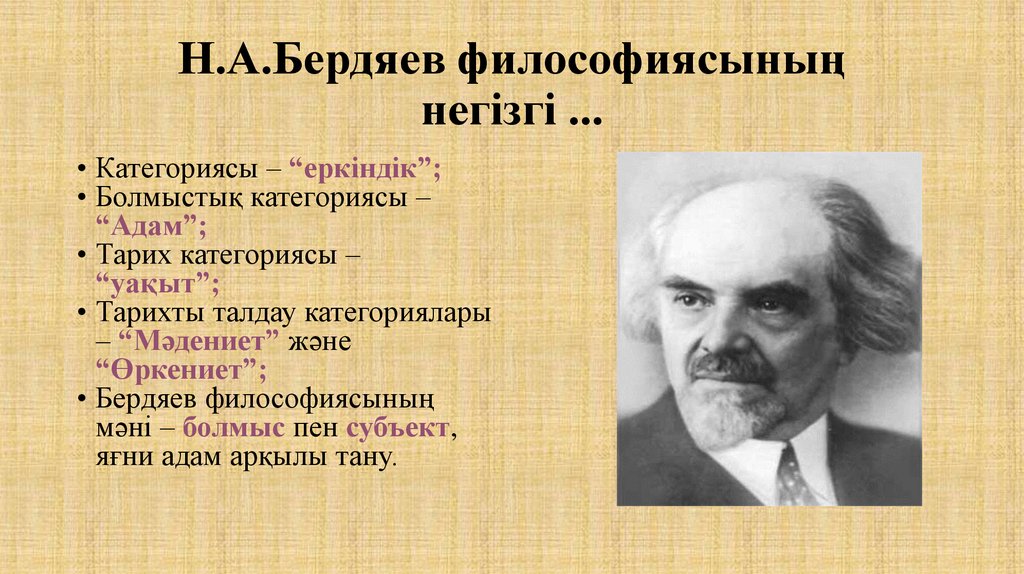 стал третьим по счету русским, к-рому было присуждено почетное звание доктора Honoris causa. Наиболее известными широкой публике книгами Б. стали его филос. автобиография «Самопознание» (1949) и «Истоки и смысл русского коммунизма» (1955).
стал третьим по счету русским, к-рому было присуждено почетное звание доктора Honoris causa. Наиболее известными широкой публике книгами Б. стали его филос. автобиография «Самопознание» (1949) и «Истоки и смысл русского коммунизма» (1955).
С начала вступления во вторую мировую войну СССР Б. занял «просоветскую» позицию, вызвав критику со стороны эмигрантской прессы. Он стал членом «Союза патриотов», считая, что нападение Гитлера на Россию надо расценивать как национальное несчастье, а не возможность свержения большевизма. Б. пытался увидеть «не только ложь, но и правду коммунизма» (статья «Правда и ложь коммунизма», опубликованная в журнале «Путь» в 1931 г., наделала много шума), считал русскую революцию «культурно-реакционной», но зато «социально-передовой», видел в Советах национальную власть. Б. остался противником коммунистического тоталитаризма в России, но не менее резко он выступал против тоталитаризма на Западе, против любого насилия над личностью. Для большинства эмиграции такая позиция Б. оказалась неприемлемой. А после опубликования книги «Русская идея»(1943), разрыв стал окончательным. Б. мало подходил под эмигрантскую «классификацию»: для правых кругов он был слишком революционен (Б. видел позитивное зерно в социалистическом идеале, не считал свершившуюся Октябрьскую революцию «случайным насилием над русской историей»). Для левых он тоже не мог быть «своим» в силу религиозного мировоззрения, индивидуализма, аристократизма. В этом смысле, Б. был одинок и независим, он не входил ни в какие политические партии и группировки.
оказалась неприемлемой. А после опубликования книги «Русская идея»(1943), разрыв стал окончательным. Б. мало подходил под эмигрантскую «классификацию»: для правых кругов он был слишком революционен (Б. видел позитивное зерно в социалистическом идеале, не считал свершившуюся Октябрьскую революцию «случайным насилием над русской историей»). Для левых он тоже не мог быть «своим» в силу религиозного мировоззрения, индивидуализма, аристократизма. В этом смысле, Б. был одинок и независим, он не входил ни в какие политические партии и группировки.
Умер Б. за письменным столом от разрыва сердца в процессе работы над книгой «Царство Духа и царство Кесаря».
Б. написал 43 книги и более 500 статей.
Основные сочинения:
- Смысл творчества. М.: 1916.
- Истоки и смысл русского коммунизма. М.: 1990.
- Судьба России. М.: 1990.
- Миросозерцание Достоевского. М.: 1993.
- Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала ХХ века.
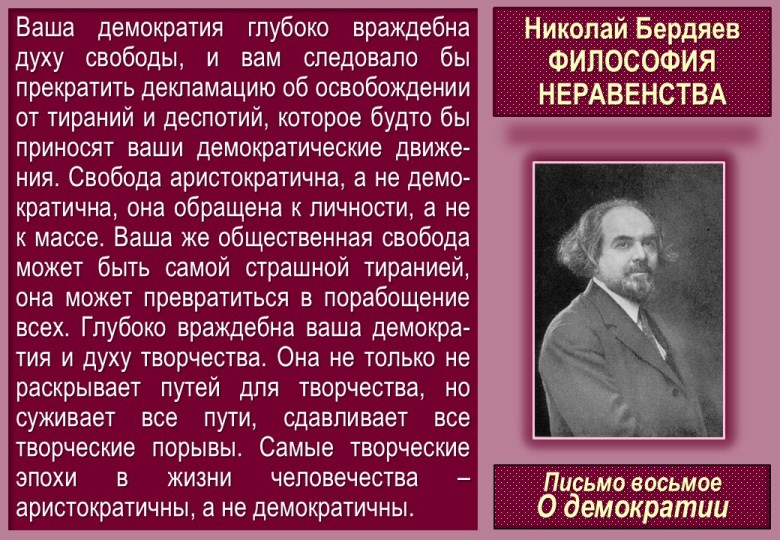 Судьба России. М.: 2000.
Судьба России. М.: 2000. - Самопознание. (Опыт филос. автобиографии). М.: 1990.
- Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. СПб: 1996.
- О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Париж: 1931.
- Константин Леонтьев. Очерк из истории русск. религ. мысли. Paris: 1926.
- Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы. М.: 1998.
- Философия неравенства. М.: 1990.
- Национализм и империализм. М.: 1917.
- Новое средневековье. Размышления о судьбе России и Европы. М.: 1991; Paris: 1931.
- Философия свободного духа. Я и мир объектов. Судьба человека в современном мире. Дух и реальность. М.: 1994.
- Опыт эсхатологической метафизики (творчество и объективация). Paris: 1947.
- О самоубийстве. Психологический этюд. М.: 1992.
- Царство духа и царство Кесаря. Париж.: 1951.
Литература:
- Н.
 А.Бердяев: pro et contra. СПб.: 1994.
А.Бердяев: pro et contra. СПб.: 1994. - Вадимов А.В. Жизнь Бердяева: Россия. Oakland: 1993.
- Волкогонова О.Д. Н.А.Б. Интеллектуальная биография. М.: 2002.
- Ермичев А.А. Три свободы Н.Бердяева. М.: 1990.
- Полторацкий Н.П. Б. и Россия. Нью-Йорк: 1967.
- Cayaard, W.Wallace. Bibliographie des etudes sur Nicolas Berdiaev. Paris: 1992.
- Klepinine, Tamara. Bibliographie des oeuvres de Nicolas Berdiaev. Paris:1978.
- Lowrie, D.A. Rebellious Profet: a Life of Nicolai Berdyaev. New York: 1960.
- Slaatte, H.A. Time, Existence and Destiny: Nicolas Berdyaev’s Philosophy of Time. New York: 1988.
Бердяев Николай Александрович (1874-1948) — ФИЛОСОФИЯ РОССИИ
Философия России
Русский религиозный и политический философ, представитель русского экзистенциализмa и персонализма. Автор оригинальной концепции философии свободы и концепции нового средневековья. (1874-1948)
«Все мое существование стояло под знаком тоски по трансцендентному»
Н.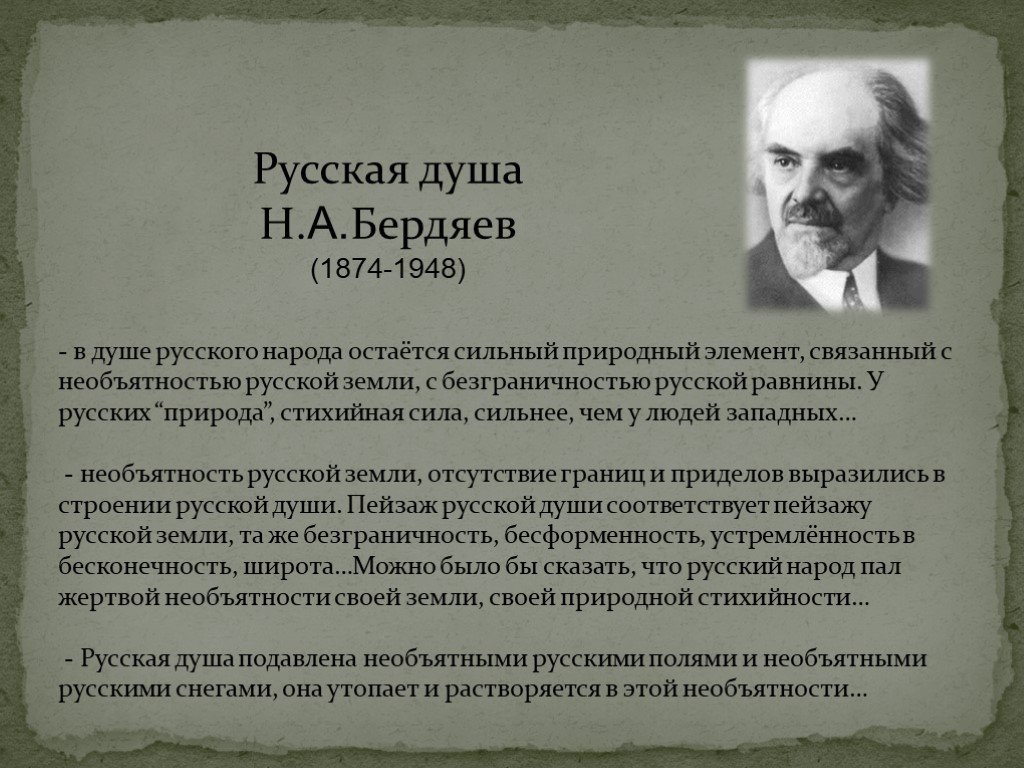 А. Бердяев
А. Бердяев
Николай Александрович Бердяев родился 6 марта 1874 г. в Киеве. Получил домашнее воспитание. Позже поступил на естественный факультет Киевского университета, а через год – на юридический. В 1897 г. за участие в студенческих беспорядках был арестован и отчислен из университета. Как крупный философ заявил о себе в статье «Борьба за идеализм» (1901 г.), а также в ряде публикаций в сборниках «Проблемы идеализма» (1902) и «Вехи» (1909 г.). После революции 1917 г. дважды попадал в тюрьму. В 1922 г. покинул Россию на «философском пароходе». Сначала жил в Берлине, в 1924 г. переехал в Париж, где прожил до самой смерти в 1948 г.
Бердяев прошел долгую творческую эволюцию: от позитивизма и марксизма к религиозному экзистенциализму и мистике.
Творчество Бердяева можно разделить на четыре периода. В первый период Бердяев выдвигает на первый план этическую проблематику. Второй период отмечен религиозно-мистическим переломом в мировоззрении. Третий период определяется акцентом на историософских вопросах (сюда же относится интерес к эсхатологии).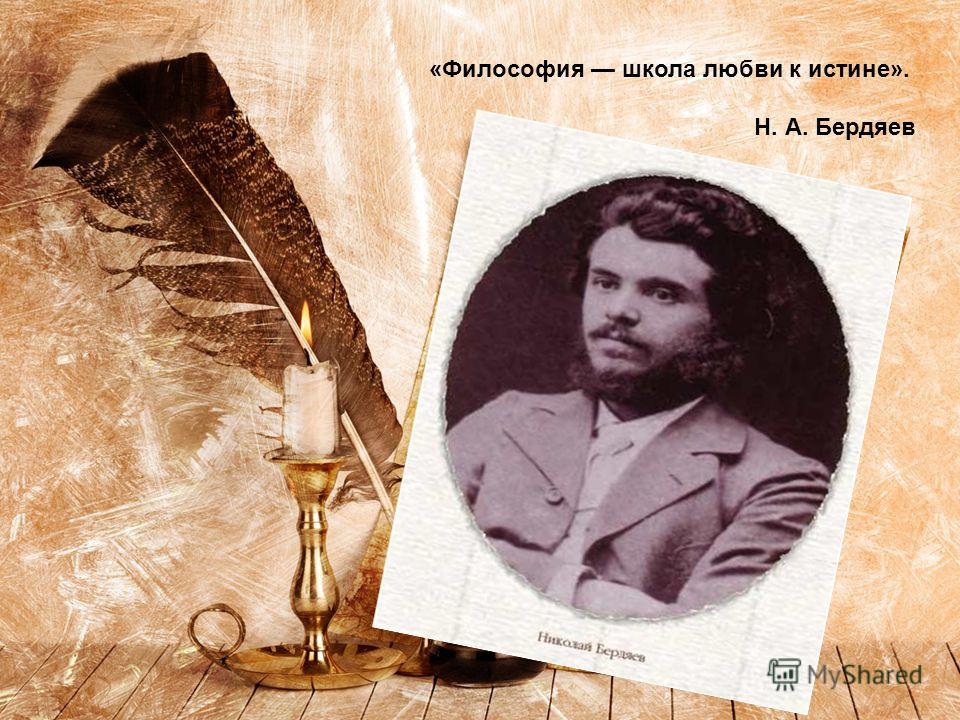 Четвертый период связан с персоналистическими идеями Бердяева.
Четвертый период связан с персоналистическими идеями Бердяева.
Свою философию Бердяев понимает как «философию субъекта, философию духа, философию свободы, философию дуалистически-плюралистическую, философию творчески-динамическую, философию персоналистическую и философию эсхатологическую». Проблематику своего творчества Бердяев оценивает следующим образом: «Моя философия есть философия духа. Дух же для меня есть свобода, творческий акт, личность, общение любви. Я утверждаю примат свободы над бытием. Бытие вторично, есть уже детерминация, необходимость, есть уже объект. Может быть, некоторые мысли Дунса Скота, более всего Я. Беме и Канта, отчасти Мен де Бирана и, конечно, Достоевского как метафизика я считаю предшествующими своей мысли, своей философии свободы».
Через все творчество Бердяева проходят следующие темы: специфическое понимание личности, оригинальная концепция свободы, проблема творчества, идея метаисторического «смысла» исторического процесса, противопоставление духа и природы, трансцендентного и имманентного.
В поздней работе «Самопознание» Бердяев написал о своей жизни:
«Я пережил мир, весь мировой и исторический процесс, все события моего времени как часть моего микрокосма, как мой духовный путь. На мистической глубине все происшедшее с миром произошло со мной. И настоящее осмысливание заключается в том, чтобы понять все происшедшее с миром как происшедшее со мной. И тут я сталкиваюсь с основным противоречием моей противоречивой натуры. С одной стороны, я переживаю все события моей эпохи, всю судьбу мира как события, происходящие со мной, как собственную судьбу, с другой стороны, я мучительно переживаю чуждость мира, далекость всего, мою неслиянность ни с чем. Если бы я писал дневник, то, вероятно, постоянно записывал в него слова: «Мне было это чуждо, я ни с чем не чувствовал слияния, опять, опять тоска по иному, по трансцендентному». Все мое существование стояло под знаком тоски по трансцендентному…
Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для моей Родины, и для всего мира. На моих глазах рушились целые миры и возникали новые. Я мог наблюдать необычайную превратность человеческих судеб. Я видел трансформации, приспособления и измены людей, и это, может быть, было самое тяжелое в жизни. Из испытаний, которые мне пришлось пережить, я вынес веру, что меня хранила Высшая Сила и не допускала погибнуть. Эпохи, столь наполненные событиями и изменениями, принято считать интересными и значительными, но это же эпохи несчастные и страдальческие для отдельных людей, для целых поколений.
На моих глазах рушились целые миры и возникали новые. Я мог наблюдать необычайную превратность человеческих судеб. Я видел трансформации, приспособления и измены людей, и это, может быть, было самое тяжелое в жизни. Из испытаний, которые мне пришлось пережить, я вынес веру, что меня хранила Высшая Сила и не допускала погибнуть. Эпохи, столь наполненные событиями и изменениями, принято считать интересными и значительными, но это же эпохи несчастные и страдальческие для отдельных людей, для целых поколений.
История не щадит человеческой личности и даже не замечает её. Я пережил три войны, из которых две могут быть названы мировыми, две революции в России, малую и большую, пережил духовный ренессанс начала XX века, потом русский коммунизм, кризис мировой культуры, переворот в Германии, крах Франции и оккупацию её победителями, я пережил изгнание, и изгнанничество мое не кончено. Я мучительно переживал страшную войну против России. И я ещё не знаю, чем окончатся мировые потрясения. Для философа было слишком много событий: я сидел четыре раза в тюрьме, два раза в старом режиме и два раза в новом, был на три года сослан на север, имел процесс, грозивший мне вечным поселением в Сибири, был выслан из своей Родины и, вероятно, закончу свою жизнь в изгнании…
Для философа было слишком много событий: я сидел четыре раза в тюрьме, два раза в старом режиме и два раза в новом, был на три года сослан на север, имел процесс, грозивший мне вечным поселением в Сибири, был выслан из своей Родины и, вероятно, закончу свою жизнь в изгнании…
С трудом выразима та положительная ценность, которая получена от общения с душой другого. С трудом выразим и скрытый трагизм жизни. Несмотря на западный во мне элемент, я чувствую себя принадлежащим к русской интеллигенции, искавшей правду. Я наследую традицию славянофилов и западников, Чаадаева и Хомякова, Герцена и Белинского, даже Бакунина и Чернышевского, несмотря на различие миросозерцаний, и более всего Достоевского и Л. Толстого, Вл. Соловьева и Н. Федорова. Я русский мыслитель и писатель. И мой универсализм, моя вражда к национализму — русская черта. Кроме того, я сознаю себя мыслителем аристократическим, признавшим правду социализма. Меня даже называли выразителем аристократизма социализма».
Основные работы Н.А. Бердяева
- «Философия свободы» (1911 г.)
- «Смысл творчества (Опыт оправдания человека)» (1916 г.)
- «Новое средневековье (Размышление о судьбе России)» (1924 г.)
- «Философия свободного духа (Проблематика и апология христианства)» (1927 г.)
- «О назначении человека (Опыт парадоксальной этики)» (1931 г.)
- «Истоки и смысл русского коммунизма» (1938 г.)
- «О рабстве и свободе человека (Опыт персоналистической философии)» (1939 г.)
- «Творчество и объективация (Опыт эсхатологической метафизики)» (1941 г.)
Список очерков о философе
- Общий очерк философии
- Борьба за идеализм
- Этическая проблема
- Оценка раннего творчества
- Новое религиозное сознание и общественность
- Философия свободы. Ч. 1
- Философия свободы. Ч. 2
- Критика кантианства
- О христианской свободе
- Смысл творчества. Ч. 1
- Смысл творчества.
 Ч. 2
Ч. 2 - Понимание философии
- Метафизика творения
- Метафизика пола и любви
- Новое Средневековье. Ч. 1
- Новое Средневековье. Ч. 2
- Истоки и смысл русского коммунизма
- Нечаев и народничество
- Ленин и коммунизм
- Коммунизм и христианство
- Я и мир объектов
- Время и объективация
- Личность и объективация
- Сущность философии
- Дух и реальность
- Русская идея
- Миросозерцание Достоевского
- Бердяев и Беме. Ч. 1
- Бердяев и Беме. Ч. 2
- Полемика с Ильиным
- Царство Духа и царство Кесаря
- Прельщение буржуазности
- Прельщение индивидуализма
- Экзистенциальный страх
- Самопознание. Ч. 1
- Самопознание. Ч. 2
- О некоторых русских философах
- Воспоминание о войне
- Рецепция наследия
Поделиться:
Серия книг «Философия России» — Н.А. Бердяев
В книге представлены избранные работы о философском наследии Н. А. Бердяева (1874–1948), написанные за последние два десятилетия главным образом отечественными авторами. Рассмотрены важнейшие стороны творчества выдающегося русского мыслителя, не потерявшие актуальность и сегодня: его экзистенциальная философия личности и свободы, философия истории и культуры, эстетика и философия искусства, онтология и эсхатология. Книга адресована специалистам и всем читателям, интересующимся русской философией и культурой.
А. Бердяева (1874–1948), написанные за последние два десятилетия главным образом отечественными авторами. Рассмотрены важнейшие стороны творчества выдающегося русского мыслителя, не потерявшие актуальность и сегодня: его экзистенциальная философия личности и свободы, философия истории и культуры, эстетика и философия искусства, онтология и эсхатология. Книга адресована специалистам и всем читателям, интересующимся русской философией и культурой.
Николай Александрович Бердяев | Русский философ
- Год рождения:
- 6 марта 1874 г. Киев
- Умер:
- 23 марта 1948 г. (74 года) Франция
- Учредитель:
- «Положить»
Просмотреть все связанные материалы →
Николай Александрович Бердяев , Бердяев также пишется Бердяев , (родился 6 марта 1874, Киев, Украина, Российская империя — умер 23, 19 марта48, Кламар, Франция), религиозный мыслитель, философ и марксист, который стал критиком реализации взглядов Карла Маркса в России и ведущим представителем христианского экзистенциализма, философской школы, которая делает упор на рассмотрение человеческого существования в христианских рамках.
Во время учебы в Киевском университете (с 1894 г.) Бердяев занимался марксистской деятельностью, за что в 1899 г. был приговорен к трем годам ссылки в Вологду, на север России. После освобождения путешествовал по Германии, вернувшись в 1904 в Россию. После очередной поездки за границу в 1907 году он переехал в Москву, где присоединился к Русской Православной Церкви. Он был в некотором роде нонконформистом, в статье нападал на Священный Синод церкви и был судим за это в 1914 году. Избежав приговора после того, как его дело было прекращено в начале русской революции (1917), он поддерживал новую режима и был назначен профессором философии Московского университета в 1920 году.
Два года спустя Бердяев был выслан из Советского Союза, когда стало ясно, что он не примет ортодоксальный марксизм. Другие изгнанники присоединились к нему в основании Академии философии и религии в Берлине в 19 г.22. В 1924 г. он перевел академию в Париж и основал там журнал « Путь » (1925–40; «Путь»), в котором критиковал русский коммунизм. Он стал известен как передовой русский эмигрант во Франции.
Он стал известен как передовой русский эмигрант во Франции.
Развивая дальше свою экзистенциалистскую философию, Бердяев был склонен отдавать предпочтение бессистемным и мистическим способам выражения логике и рациональности. Он утверждал, что истина была не продуктом рационального поиска, а результатом «света, пробивающегося из трансцендентного мира духа». Он считал, что величие человека заключается в его доле в этом мире духа и в божественной способности творить. Человеческий акт творения позволяет человеку прийти к истине, проникая в путаницу окружающей среды.
Высокочувствительный к настроениям своего времени Бердяев считал, что «противоречия новейшей истории» предвещают новую эру «богочеловеческого творчества», через которое человек сможет оживить мир. В этой вере скрыты остатки его ранней марксистской веры в то, что человек может улучшить свою судьбу. Хотя Бердяев осуждал «преступления и насилие советского строя», он утверждал, что видит признаки «богочеловеческого творения» в прогрессе, достигнутом в России после революции.
Среди его значительных работ Дух и реальность (1927; Свобода и дух ), О назначении человека (1931; Судьба человека ), Эссе метафизической эсхатологии (1946; 900 Конец), (1946; 900 Начало) Самопознание: Опыт философской автобиографии (1949; Сон и явь: Очерк автобиографии ) и Истоки и смысл русского коммунизма (1955; Происхождение русского коммунизма ).
Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас
БЕРДЯЕВ — Философы о жизни
Николай Бердяев ( 1874-1948 ) |
ТЕМЫ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ:
| 1. ЗНАЧЕНИЕ СТРАХА | 42. ЭТИКА ТВОРЧЕСТВА | 3. Я И САМОПОЗНАНИЕ Я И САМОПОЗНАНИЕ | 4. ВНУТРЕННЯЯ СВОБОДА |
Николай Бердяев (1874-1948) был видным русским религиозным философом-экзистенциалистом. В молодости он поступил учиться в Киевский университет, но стал марксистом и был исключен властями. Он стал активно заниматься интеллектуальной и революционной деятельностью, но после женитьбы оставил коммунизм и заинтересовался христианской духовностью. Он основал собственную частную академию, где читал лекции о своих идеях, а в 1920 стал профессором философии в Московском университете. Однако вскоре он был арестован советскими властями за свои антитоталитарные и религиозные взгляды и в 1922 г. выслан из СССР. Всю оставшуюся жизнь, вплоть до своей смерти в 1948 г., он жил в Германии и Франции и написал много очерков и книг.
ТЕМА 1: ЗНАЧЕНИЕ СТРАХА |
Бердяев рассматривает человека как субъекта, который не может быть полностью понят с объективной научной точки зрения. Как человеческие существа, мы способны к свободе, творчеству, любви, духовности, и мы боремся за их реализацию, часто с частичным успехом или без него. Настоящая жизнь испорчена и болезненна, и мы стремимся подняться к более высоким духовным уровням человечества. Действительно, человечество в целом вовлечено в такую борьбу, и как отдельные личности мы всегда являемся частью этой исторической борьбы. Человеческая история – это процесс, стремящийся к одухотворению.
Как человеческие существа, мы способны к свободе, творчеству, любви, духовности, и мы боремся за их реализацию, часто с частичным успехом или без него. Настоящая жизнь испорчена и болезненна, и мы стремимся подняться к более высоким духовным уровням человечества. Действительно, человечество в целом вовлечено в такую борьбу, и как отдельные личности мы всегда являемся частью этой исторической борьбы. Человеческая история – это процесс, стремящийся к одухотворению.
Следующий текст адаптирован из поздней книги Бердяева Божественное и человеческое (написана в 1944-45 гг.), глава 7: «Страх». Здесь он утверждает, что страх обесценивает нашу жизнь и тянет нас все ниже к бессознательному животному внутри нас. Но именно из-за этого он бросает нам вызов преодолеть его и открывает дверь к возможности мужества и трансцендентности. Таким образом, страх — это духовная проблема, которую мы не можем полностью решить через нашу бессознательную жизнь, даже не через нашу сознательную рациональную жизнь, а через наш «сверхсознательный» — свободный, творческий, духовный аспект нашего существа. В этом смысле он говорит в последних абзацах главы, которая является ключом ко всей главе (см. ниже):
В этом смысле он говорит в последних абзацах главы, которая является ключом ко всей главе (см. ниже):
«Обретение бесстрашия – высшее состояние человека… Факт страха связан с взаимосвязью между сознанием, подсознанием и надсознанием. Страх идет из глубины подсознания от древних истоков человека. … Только из сверхсознания приходит окончательная и решительная победа над страхом. Это триумф духа».
Таким образом, значение страха следует понимать духовно: Это необходимая часть пути к духовному преображению. Это и есть основная тема всей книги: жизнь может быть понята только как исторический процесс, направленный на преодоление ужасного человеческого состояния — его страдания и страха, его зла и насилия, угнетения, объективации и отчуждения. Это экзистенциальный процесс в том смысле, что он требует нашего личного субъективного осознания и свободного действия. Его нельзя понять с абстрактной объективной точки зрения. Точно так же и страх — не объективный психологический факт, а часть исторической борьбы за преодоление нашего низшего человеческого состояния. Таким образом, видение Бердяева динамично, «вертикально», а также социально: жизнь — это, по сути, борьба человечества в целом за переход от ужасной тьмы внизу к духовным высотам.
Таким образом, видение Бердяева динамично, «вертикально», а также социально: жизнь — это, по сути, борьба человечества в целом за переход от ужасной тьмы внизу к духовным высотам.
Среди многих определений человека мы можем включить одно, определяющее его как существо, подвергающееся испытанию страхом. И это можно сказать о каждом живом существе. Страх, который испытывают животные, ужасен. Больно смотреть в глаза испуганному животному. Страх исходит из опасного и угрожающего состояния жизни в мире. И чем ближе жизнь к совершенству, чем более она индивидуализирована, тем больше она подвергается угрозам и великим опасностям и смерти. Необходимость защищаться от опасности присутствует всегда. Организм в значительной степени устроен для защиты. Борьба за существование, которой наполнена жизнь, предполагает страх.
Ошибочно думать, что мужество и страх полностью исключают друг друга. Мужество есть не столько отсутствие страха, сколько победа над страхом […] Но везде и во всем победа над страхом остается проблемой духовной, проблемой победы над тем, что унижает человека. […]
[…]
Страх правит миром. Власть по самой своей природе использует страх. Человеческое общество было построено на страхе и, следовательно, было построено на лжи, потому что страх — отец лжи. […] Страх в жизни общества есть недоверие к человеку. А страх всегда консервативен, хотя на первый взгляд кажется иногда революционным. Страх ада в религиозной жизни, страх перед революцией или утратой имущества в общественной жизни снижает ценность всего.
Человек живет в страхе перед жизнью и в страхе перед смертью. Страх правит в жизни человека и в жизни общества. Беспокойство, неуверенность в жизни, со временем порождают страх. Но самое серьезное вот что: страх искажает мысль и прерывает познание истины. Человек стоит лицом к лицу с конфликтом между страхом и правдой. Измученный человек боится правды; он думает, что правда ранит его. Бесстрашие перед истиной есть величайшее достижение духа. Героизм и есть бесстрашие перед правдой, перед правдой и смертью.
[…]
Страх всегда имеет отношение к страданию; оно переживается как страдание, и это ужас страдания. О страдании я буду говорить в следующей главе. Но невозможно отделить страх от этого центрального факта человеческой жизни. Человека уводят от высшего мира и подчиняют низшему миру. Это неизбежно порождает страх и страдание.
Но связь с нижним миром настолько тесная, что сам высший мир начинает представляться как мир нижний. Страх и страдание, продукты низшего мира, порабощающего человека, можно переживать так, как если бы они исходили из высшего мира, который должен быть освобождающей силой. Якоб Беме (1575-1624) очень хорошо сказал, что любовь Божия действует во тьме, как горящий огонь. Страх унижает достоинство человека, достоинство свободного духа. Страх всегда считался постыдным на войне; тогда это называется трусостью.
Человек достиг стадии преодоления страха на войне; он совершил чудеса храбрости; он стал героем. Но великая трудность состоит в том, чтобы распространить это на всю остальную жизнь и особенно на жизнь духа. Нельзя слишком часто повторять, что освобождение от страха есть главная духовная задача человека. Достижение бесстрашия — высшее состояние человека, и это вопрос достижения, потому что никто не может сказать, что он вне страха.
Но великая трудность состоит в том, чтобы распространить это на всю остальную жизнь и особенно на жизнь духа. Нельзя слишком часто повторять, что освобождение от страха есть главная духовная задача человека. Достижение бесстрашия — высшее состояние человека, и это вопрос достижения, потому что никто не может сказать, что он вне страха.
Факт страха связан с взаимоотношением сознания, подсознания и сверхсознания. Страх идет из глубины подсознания от древних истоков человека. Сознание может усиливать страх, повышенное сознание связано со страхом. Только из сверхсознания приходит окончательная и решительная победа над страхом. Это триумф духа.
Говорят, что «совершенная любовь отбрасывает страх», но совершенная любовь настолько редка, что страх продолжает управлять человеческой жизнью. Страх в эротической любви очень силен; оно существует в глубине сексуальной жизни. Страх искажает человека, и в этом сложность богочеловеческого процесса [=процесса одухотворения].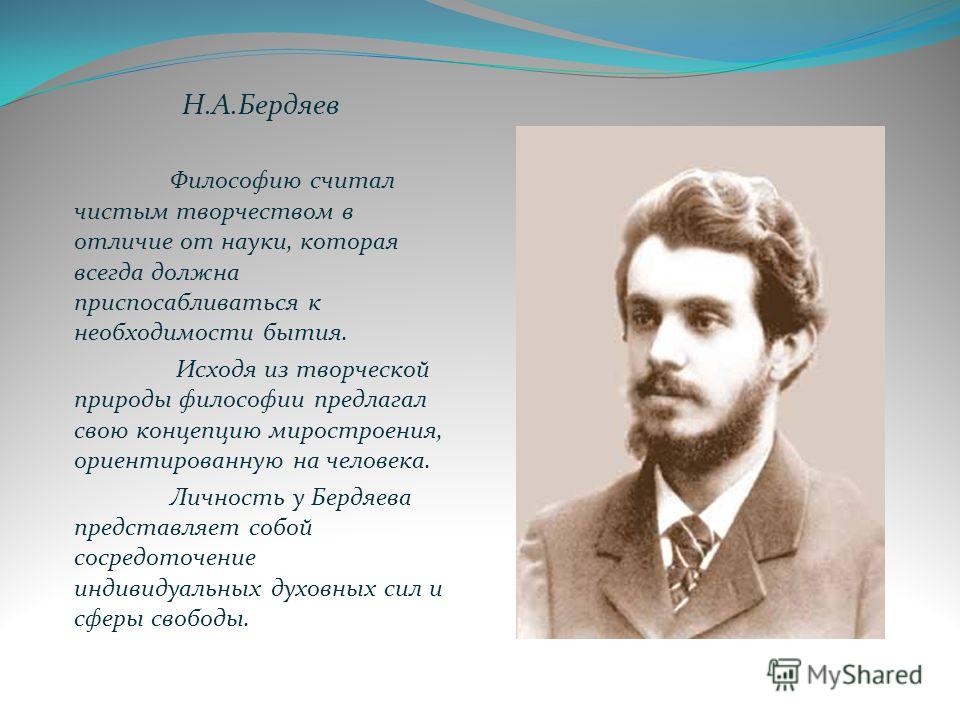
2. ТРАГЕДИЯ ТВОРЧЕСТВА |
В своих произведениях Бердяев часто подчеркивает трагическую пропасть между высотами человеческих идеалов и низменностью нашей реальной действительности, между нашим высоким призванием и нашим испорченным положением в мире. Этот трагический разрыв является центральной темой его книги «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (1931), в которой обсуждается тема этики и, в частности, его идея «Этики творчества». Такой подход к этике основан на способности человека свободно создавать образы — в искусстве, литературе и науке, а также в любви и этике. Подлинно этические решения возникают не из желания следовать моральному закону («Этика закона»), а из нашей свободы создавать этическое видение того, как реализовать свои высшие человеческие задачи.
Проблема нашего творчества заключается в трагическом разрыве между нашими страстными идеалами и их плохой реализацией в мире. В нашем сердце мы создаем высокие видения, полные духа и энтузиазма, но когда мы пытаемся реализовать их на практике, результат оказывается холодным и частичным.
В нашем сердце мы создаем высокие видения, полные духа и энтузиазма, но когда мы пытаемся реализовать их на практике, результат оказывается холодным и частичным.
Из Главы 3 Раздела 3
Творение есть величайшая тайна жизни, тайна появления чего-то нового, никогда прежде не существовавшего и ни из чего не выводимого и ничем не порожденного. Творчество предполагает небытие, являющееся источником изначальной, докосмической, предсуществующей свободы в человеке. Тайна творчества есть тайна свободы. Творчество может возникнуть только из бездонной свободы, потому что только такая свобода может породить новое, никогда не существовавшее прежде.
[…]
Творчество имеет два разных аспекта, и мы описываем его по-разному в зависимости от того, фокусируемся ли мы на одном или на другом. Это внутренний и внешний аспекты. Во-первых, есть первичный творческий акт, в котором человек стоит, так сказать, лицом к лицу с Богом; и, во-вторых, есть вторичный творческий акт, в котором он сталкивается с другими людьми в мире.
Первый аспект — это творческое зачатие, первичная творческая интуиция, в которой человек слышит в своем уме симфонию, воспринимает живописный или поэтический образ или осознает еще не выраженное открытие или изобретение. В этом первичном акте человек стоит перед Богом и не озабочен реализацией. Если мне дано знание, то это знание сначала не является настоящей книгой, написанной мной, не научным открытием, сформулированным для блага других людей, чтобы они стали частью человеческой культуры. В первую очередь это мое собственное внутреннее знание, еще неожиданное, неизвестное миру и скрытое от него. Только это и есть мое настоящее знание из первых рук, моя настоящая философия, в которой я стою лицом к лицу с тайной бытия.
Далее следует вторичный творческий акт, связанный с социальной природой человека – реализация творческой интуиции. Книга приходит для того, чтобы быть написанной. На этом этапе возникает вопрос об искусстве и технике. Первичный творческий огонь вовсе не искусство.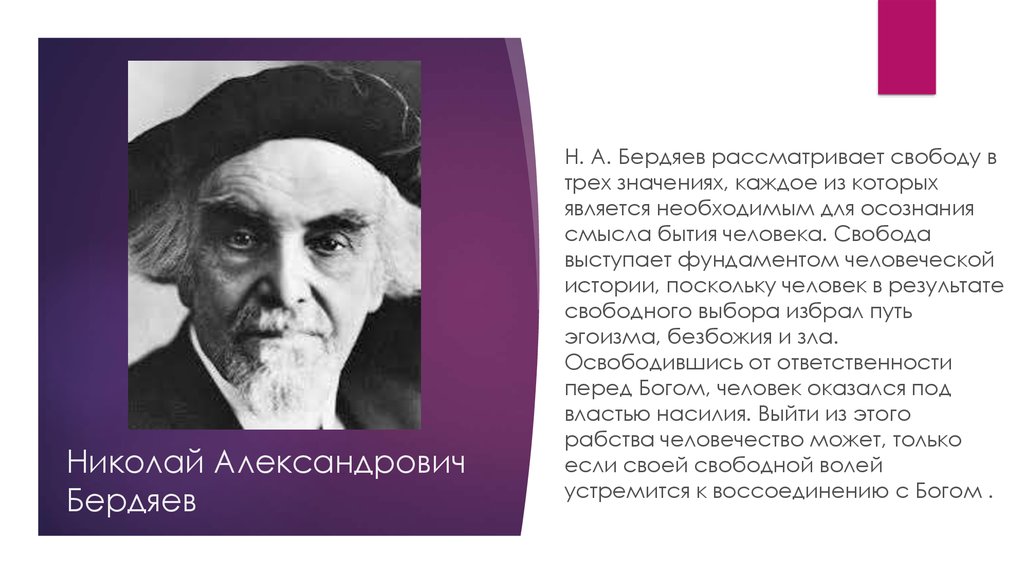 Искусство вторично, и в нем остывает творческий огонь. Искусство подчинено закону, и оно не есть взаимодействие свободы и благодати, как первичный творческий акт. Человек в реализации своей творческой интуиции ограничен миром, своим материалом, другими людьми. Все это давит на него и гасит огонь вдохновения.
Искусство вторично, и в нем остывает творческий огонь. Искусство подчинено закону, и оно не есть взаимодействие свободы и благодати, как первичный творческий акт. Человек в реализации своей творческой интуиции ограничен миром, своим материалом, другими людьми. Все это давит на него и гасит огонь вдохновения.
Всегда есть трагическое несоответствие между обжигающим жаром творческого огня, в котором зарождается художественный образ, и холодом его формального воплощения. Каждая книга, картина, статут, хорошая работа, общественное учреждение являются примером этого остывания изначального пламени. Вероятно, некоторым творцам никогда не удается найти выражение; у них есть внутренний огонь и вдохновение, но они не могут придать им форму. А между тем люди вообще думают, что творчество состоит в производстве конкретных, определенных вещей. Классическое искусство требует максимально возможного соблюдения холодных формальных законов техники.
Целью творческого вдохновения является создание новых форм жизни, но результатом являются холодные продукты цивилизации, культурные ценности, книги, картины, институты, добрые дела. Добрые дела означают остывание творческого огня любви в человеческом сердце, как философская книга есть остывание творческого огня в человеческом духе. В этом трагедия человеческого творчества и его ограниченность. Его результаты — страшное осуждение ему. Внутренний творческий акт в своем огненном порыве должен оставить тяжесть мира и «преодолеть мир». Но в своем внешнем осуществлении творческий акт подчинен власти «мира» и сдерживается ею.
Добрые дела означают остывание творческого огня любви в человеческом сердце, как философская книга есть остывание творческого огня в человеческом духе. В этом трагедия человеческого творчества и его ограниченность. Его результаты — страшное осуждение ему. Внутренний творческий акт в своем огненном порыве должен оставить тяжесть мира и «преодолеть мир». Но в своем внешнем осуществлении творческий акт подчинен власти «мира» и сдерживается ею.
2. ТВОРЧЕСКИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Для этики творчества свобода означает не принятие закона, а индивидуальное создание ценностей. […] Человек не является пассивным исполнителем законов этого мироустройства. Он творец и изобретатель. Жизнь основана на энергии, а не на законе. Действительно, можно сказать, что энергия является источником жизни. […] Этика права имеет дело с конечным: мир для нее — замкнутая система, из которой нет выхода. Этика творчества связана с бесконечным: мир для нее открыт и пластичен, без бескрайних горизонтов и возможностей прорыва в иные миры. Он преодолевает кошмар конечного, от которого нет спасения.
Он преодолевает кошмар конечного, от которого нет спасения.
[…]
Истинная жизнь есть творчество, а не [общественное] развитие, свобода, а не необходимость, творческий огонь, а не постепенное остывание и фиксация в процессе раскрытия и совершенствования. Эта истина имеет особое значение для нравственной жизни. Нравственная жизнь должна быть вечным творчеством, свободным и огненным, иначе говоря, вечной молодостью и чистотой духа. Она должна опираться на первичные интуиции, свободные от представлений о социальной среде человека, парализующих свободу его нравственных суждений. Но в реальной жизни с этой юностью духа трудно соединиться. Большинство наших моральных действий и суждений исходят не из этого первоисточника. Этика творчества есть этика не [общественного] развития, а юности и чистоты человеческого духа, и она вытекает из огненного начала жизни — свободы. Следовательно, истинная мораль — это не общественная мораль стада.
3. |
Следующий текст немного адаптирован из книги Бердяева « Одиночество и общество », написанной первоначально на русском языке в 1934 году. объекты, в которых даже мы сами превращаемся в «вещи». Результатом является человеческая изоляция и неподлинность. Чтобы преодолеть эту ситуацию, мы должны помнить, что нужно относиться к другим как к товарищам в сообществе (в отличие от анонимного общества) — через личное общение и участие, а также через соединение с божественными творческими силами внутри нас, которые являются нашей истинной природой.
Из ВТОРОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ, глава 2: Экзистенциальный субъект и объективные процессы тьма к свету. Но понимание — это не просто озарение [нашего субъективного] Бытия, это свет в сокровенных глубинах Бытия. На самом деле знание имманентно Бытию, а не Бытие знанию. […]
В глубине [нашего субъективного] Бытия есть темный иррациональный субстрат, который познание не может охватить, но его задача — осветить его. Знание витает на краю темной бездны Бытия, но оно должно оставаться ясным и ясным. Как мы уже сказали, знание находится внутри [нашего субъективного] Бытия, но то, что действительно происходит внутри [нашего субъективного] Бытия, есть выход за пределы объективного и проникновение в безмерные глубины за пределы любого данного Бытия. Функция знания состоит не в том, чтобы отражать, а в том, чтобы создавать. За каждым слоем Бытия есть более глубокий слой, и трансцендентность — единственный способ достичь этого более глубокого слоя Бытия.
Знание витает на краю темной бездны Бытия, но оно должно оставаться ясным и ясным. Как мы уже сказали, знание находится внутри [нашего субъективного] Бытия, но то, что действительно происходит внутри [нашего субъективного] Бытия, есть выход за пределы объективного и проникновение в безмерные глубины за пределы любого данного Бытия. Функция знания состоит не в том, чтобы отражать, а в том, чтобы создавать. За каждым слоем Бытия есть более глубокий слой, и трансцендентность — единственный способ достичь этого более глубокого слоя Бытия.
[…] Мы должны различать два вида познания: Прежде всего есть разумное и объективное знание, которое ограничено рамками разума и понимает только общее. И, во-вторых, есть знание, имманентное [нашему субъективному] Бытию, и через него разум может выйти за пределы общего и понять иррациональное и индивидуальное. Это знание является синонимом сообщества и участия.
Оба эти вида знания можно найти в истории человеческой мысли.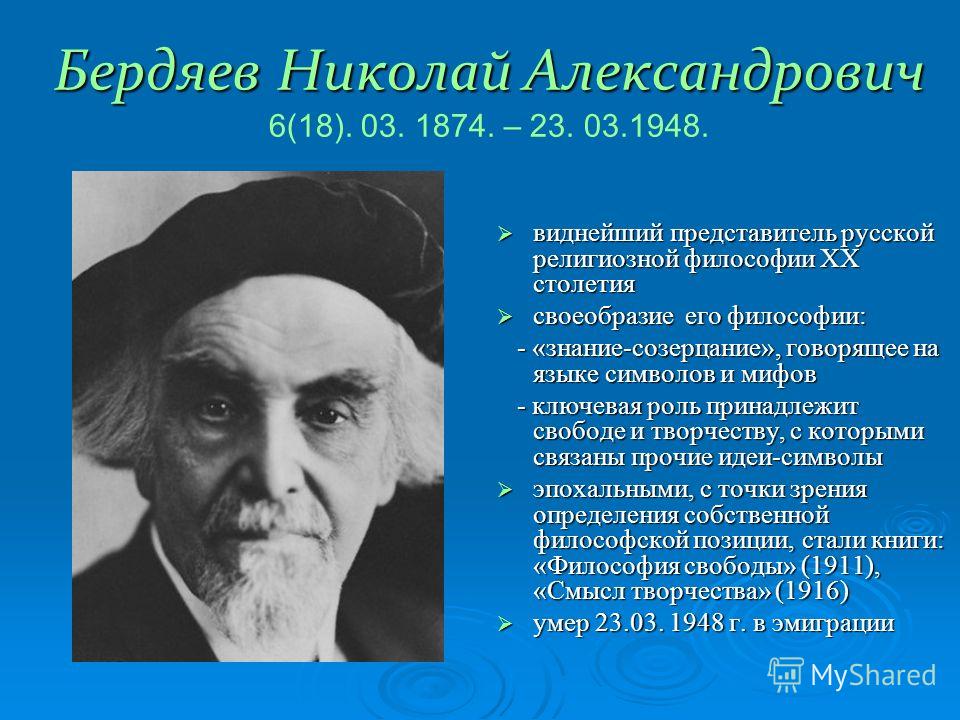 Таким образом, знание можно рассматривать с двух разных точек зрения: с точки зрения общества, объективного и общего общения между людьми; и с точки зрения сообщества, экзистенциального общения и проникновения в сердце человека. Это самая суть моей мысли. Объективное знание неизменно социально, потому что оно не в состоянии понять экзистенциальный субъект.
Таким образом, знание можно рассматривать с двух разных точек зрения: с точки зрения общества, объективного и общего общения между людьми; и с точки зрения сообщества, экзистенциального общения и проникновения в сердце человека. Это самая суть моей мысли. Объективное знание неизменно социально, потому что оно не в состоянии понять экзистенциальный субъект.
ТРЕТЬЯ МЕДИТАЦИЯ, Глава 1: Я и одиночество
[…] Я существую не потому, что думаю, а думаю потому, что существую. Неправильно говорить: «Я мыслю, следовательно, я существую», а скорее: «Я окружен со всех сторон непроницаемой бесконечностью, и поэтому я мыслю». Я, прежде всего. Самость принадлежит сфере существования.
Самость в первую очередь экзистенциальна и лишь во вторую очередь является объектом. Это синоним свободы. Сущностная природа Самости никогда не может стать объективной. Он не может стать объектом именно потому, что это Атман. Как только оно становится объектом, оно перестает быть Атманом.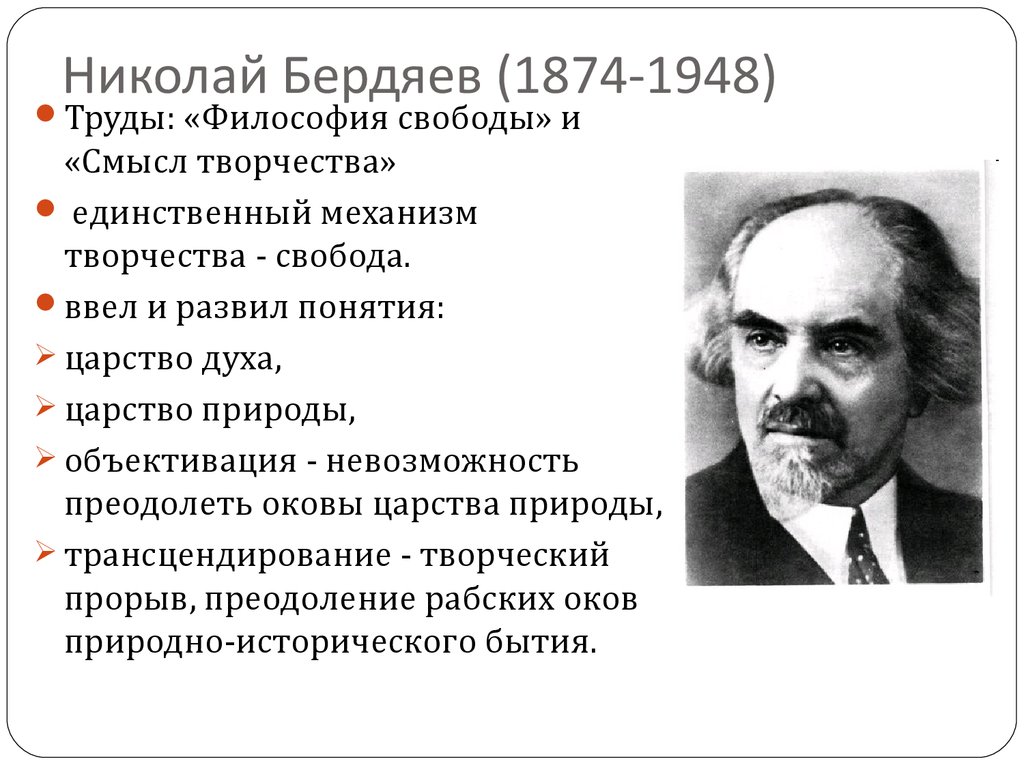
[…] Чтобы реализовать себя, Самость должна выполнить два условия: во-первых, она никогда не должна быть просто объективным или социальным инструментом. И, во-вторых, он всегда должен пытаться превзойти себя. В процессе трансцендирования себя Самость стремится выйти из своего уединения и соединиться с Другим Я, с другими Я, с Ты, со своими собратьями-людьми, с божественным миром. Нет ничего более презренного или разрушительного, чем эгоцентризм, как Я, поглощенное собой, игнорирующее другие Я, игнорирующее мир, его множественность и тотальность — словом, Я, которое не может выйти за пределы самого себя.
[…] Пока человек не чувствует себя дома в мире своего подлинного бытия, пока он видит других людей в свете этого чужого мира, он может только понимать мир и людей в ней как предметы объективированного мира необходимости. Но объективный мир никогда не может служить освобождению человека из тюрьмы его одиночества. Таким образом, применяется фундаментальная истина: никакие объективные отношения не могут помочь Атману на пути свободы и общения.

 Я И САМОПОЗНАНИЕ
Я И САМОПОЗНАНИЕ