Титульный
лист |
[В. Белинский о К. Батюшкове] Константин Николаевич Батюшков – выдающийся русский поэт начала XIX века. Лирика Батюшкова, отличающаяся пластичностью образов, поэтической силой и красотой, музыкальностью, богатством и тонкостью красок, вошла в золотой фонд русского классического искусства слова. Батюшков занимает в русской поэзии почетное место одного из крупнейших предшественников и учителей А. С. Пушкина. Большой интерес представляют прозаические и литературно-критические произведения Батюшкова. |
|
В. Г. Белинский. Литературные мечтания. <…> Впервые: Молва, 1934 (ч. VIII, /I/ – № 38). В этом очерке истории русской литературы XVIII – первой трети XIX века Белинский сопоставляет (поэзию Батюшкова с поэзией Жуковского, рассматривая их обоих как преобразователей стихотворного языка и как предшественников А. С. Пушкина. Печ. по: Белинский, I, 47–127. В. Г. Белинский. Русская литература в 1841 году. <…>  Все прочее занимает у него середину между скандинавскою элегиею и антологическими стихотворениями, потому все это как-то нерешительно, более сверкает превосходными частностями, красотою пластически художественной формы, но не целым, которое, по недостатку содержания, не могло являться в художественной замкнутости и оконченности. Батюшков явился в такое время нашей литературы, когда ни у кого не было и пречувствия о том, что такое искусство со стороны формы. Поэтому он заботился больше о гладкости и правильности того, что называли тогда «слогом», и мало заботился о виртуозности своего художественного резца, так что его пластические стихи были бессознательным результатом его художнической натуры, – и вот почему в его стихотворениях так много неточных выражений, прозаических стихов, а иногда он не чужд и растянутости и риторики. Все прочее занимает у него середину между скандинавскою элегиею и антологическими стихотворениями, потому все это как-то нерешительно, более сверкает превосходными частностями, красотою пластически художественной формы, но не целым, которое, по недостатку содержания, не могло являться в художественной замкнутости и оконченности. Батюшков явился в такое время нашей литературы, когда ни у кого не было и пречувствия о том, что такое искусство со стороны формы. Поэтому он заботился больше о гладкости и правильности того, что называли тогда «слогом», и мало заботился о виртуозности своего художественного резца, так что его пластические стихи были бессознательным результатом его художнической натуры, – и вот почему в его стихотворениях так много неточных выражений, прозаических стихов, а иногда он не чужд и растянутости и риторики.<…> Батюшков не принадлежит к числу гениальных творческих натур; но талант его до того велик, что, не будь его поэзия лишена почти всего содержания, родись он не перед Пушкиным, а после него, – он был бы одним из замечательных поэтов, которого имя было бы известно не в одной России. 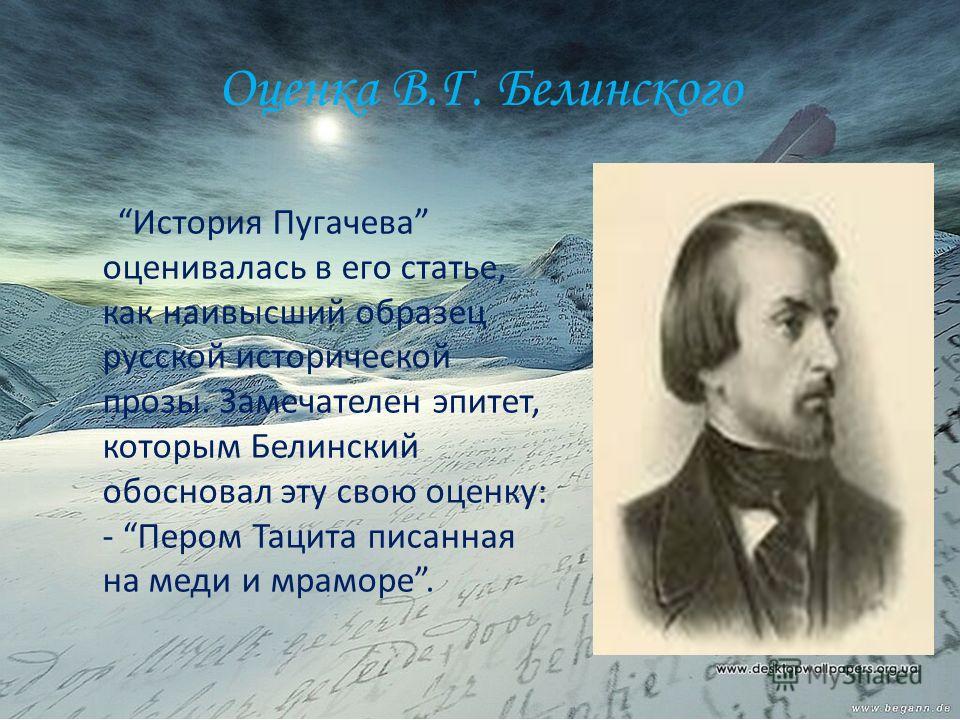 Статья В. Г. Белинского «Русская литература в 1841 году» впервые опубликована в журнале «Отечественные записки» в 1842 г. (Т. XX, № 1) без подписи. В этом втором по счету годовом обзоре русской литературы Белинский критически оценивает общий уровень текущей словесности, противопоставляя ей поэзию Батюшкова и Пушкина. Белинский подчеркивает, что «до Пушкина у нас не было поэта со стихом столь гармоническим». Печ. по: В. Г. Белинский, IV, 276–339. В. Г. Белинский. Речь о критике. <…> «Речь о критике… А. Никитенко» В. Г. Белинского впервые напечатана в журнале «Отечественные записки» в 1842 году (Т. XXIV, № 9) без подписи. Представляет собою краткую рецензию на произнесенную в Петербургском университете речь о критике экстраординарного профессора, доктора философии, литературного критика Никитенко Александра Васильевича (1804–1877). Во второй статье по поводу «Речи…» А. В. Никитенко Белинский формулирует свой взгляд на сущность и задачи литературной критики, и, обращаясь к поэзии Батюшкова, заявляет: «Батюшков внес в русскую поэзию совершенно новый для нее элемент: античную художественность. В. Г. Белинский. Статьи о Пушкине. Сочинения Александра Пушкина. <…> <…> Направление поэзии Батюшкова совсем противоположно направлению поэзии Жуковского. Если неопределенность и туманность составляют отличительный характер романтизма в духе средних веков, – то Батюшков столько же классик, сколько Жуковский романтик; ибо определенность и ясность – первые и главные свойства его поэзии. И если б поэзия его, при этих свойствах, обладала хотя бы столь же богатым содержанием, как поэзия Жуковского, – Батюшков как поэт был бы гораздо выше Жуковского. Нельзя сказать, чтоб поэзия его была лишена всякого содержания, не говоря уже о том, что она имеет свой, совершенно самобытный характер; но Батюшков как будто не сознавал своего призвания и не старался быть ему верным, тогда как Жуковский, руководимый непосредственным влечением своего духа, был верен своему романтизму и вполне исчерпал его в своих произведениях.  <…> Но Батюшков сблизился с духом изящного искусства греческого сколько по своей натуре, столько и по большему или меньшему знакомству с ним через образование. Он был первый из русских поэтов, побывавший в этой мировой студии мирового искусства; его первого поразили эти изящные головы, эти соразмерные торсы – произведения волшебного резца, исполненного благородной простоты и спокойной пластической красоты. Батюшков, кажется, знал латинский язык и, кажется, не знал греческого; неизвестно, с какого языка перевел он двенадцать пьес из греческой антологии: этого не объяснено в коротеньком предисловии к изданию его сочинений, сделанному Смирдиным [1] [Белинский имеет в виду второе издание сочинений Батюшкова, вышедшее в 1834 году в двух частях под названием «Сочинения в прозе и стихах».  ]; но приложенные к статье «О греческой антологии» французские переводы этих же самых пьес позволяют думать, что Батюшков перевел их с французского [2] [Автором статьи «О греческой антологии» был «арзамасец» С. С. Уваров, но в ее написании, по-видимому, принимал участие и Батюшков. Для этой статьи Уваров перевел с древнегреческого языка на французский ряд стихотворений, а Батюшков с этого французского перевода сделал свои переложения на русском языке.]. Это последнее обстоятельство разительно показывает, до какой степени натура и дух этого поэта были родственны эллинской музе. ]; но приложенные к статье «О греческой антологии» французские переводы этих же самых пьес позволяют думать, что Батюшков перевел их с французского [2] [Автором статьи «О греческой антологии» был «арзамасец» С. С. Уваров, но в ее написании, по-видимому, принимал участие и Батюшков. Для этой статьи Уваров перевел с древнегреческого языка на французский ряд стихотворений, а Батюшков с этого французского перевода сделал свои переложения на русском языке.]. Это последнее обстоятельство разительно показывает, до какой степени натура и дух этого поэта были родственны эллинской музе.Сокроем навсегда от зависти людей Такого стиха, как в этой пьеске, не было до Пушкина ни у одного поэта, кроме Батюшкова; мало того: можно сказать решительнее, что до Пушкина ни один поэт, кроме Батюшкова, не в состоянии был показать возможности такого русского стиха. Минутны странники, мы ходим по гробам; <…> Бросая общий взгляд на поэтическую деятельность Батюшкова, мы видим, что его талант был гораздо выше того, что сделано им, и что во всех его произведениях есть какая-то недоконченность, неровность, незрелость. С превосходнейшими стихами мешаются у него иногда стихи старинной фактуры, лучшие пьесы не всегда выдержаны и не всегда чужды прозаических и растянутых мест. «Сочинения Александра Пушкина» В. Г. Белинского впервые напечатаны в журнале «Отечественные записки», 1843, т. XXVIII, № 6, отд. V «Критика» без подписи. Во второй и третьей статьях, откуда перепечатываются отрывки, относящиеся к творчеству К. Н. Батюшкова, Белинский набрасывает очерк истории русской литературы конца XVIII – начала XIX века, дает свое определение и понимание романтизма как «вечной потребности духовной природы человека». Источник: [В. Белинский о К. Батюшкове] // Русская литература XIX века. 1800–1830 :источниковед. хрестоматия / под ред. В. Н. Аношкиной [и др.]. – М., МПУ, 1993. – С.57–63. |
|
Белинский о соотношении видов и жанров искусства
1
Одной из насущных задач эстетической теории было и остается исследование соотношения различных видов, родов и жанров искусства.
Если каждая искусствоведческая наука имеет своей целью изучение одного определенного вида искусства, то эстетическая наука, занимаясь наиболее общими закономерностями художественного творчества, способна сопоставить различные виды и жанры искусства, дабы ответить на крайне важный и в высшей степени интересный вопрос: какова структура всей сферы художественного творчества, или, иначе говоря, что объединяет и что различает виды искусства и его жанры?
Вопрос этот имеет отнюдь не чисто теоретический интерес. Определенное понимание взаимоотношения различных областей художественного творчества всегда оказывало и оказывает ныне прямое и непосредственное воздействие на творческую практику. Это отчетливо видно в наше время. Когда, например, художники исходят из довольно широко распространенного убеждения, что все виды искусства обладают одним и тем же содержанием и отличаются друг от друга только по форме, по средствам, с помощью которых это содержание раскрывается, – они и действуют в соответствии с этим убеждением, пытаясь, скажем, «перекладывать» содержание романа в форму пьесы и киносценария, на язык оперы и балета… Другие же художники, убежденные в том, что каждый вид и каждый жанр искусства имеет не только свой «язык», свои неповторимые средства, свою особую форму, но и свое собственное содержание, в корне отличное от содержания других видов и жанров художественного творчества, стремятся отгородить ту область искусства, в которой они работают, ото всех других, замкнуть ее в непробиваемых и непроницаемых стенах «чисто» живописной, «чисто» музыкальной, «чисто» кинематографической и т.
Определенное понимание взаимоотношения различных областей художественного творчества всегда оказывало и оказывает ныне прямое и непосредственное воздействие на творческую практику. Это отчетливо видно в наше время. Когда, например, художники исходят из довольно широко распространенного убеждения, что все виды искусства обладают одним и тем же содержанием и отличаются друг от друга только по форме, по средствам, с помощью которых это содержание раскрывается, – они и действуют в соответствии с этим убеждением, пытаясь, скажем, «перекладывать» содержание романа в форму пьесы и киносценария, на язык оперы и балета… Другие же художники, убежденные в том, что каждый вид и каждый жанр искусства имеет не только свой «язык», свои неповторимые средства, свою особую форму, но и свое собственное содержание, в корне отличное от содержания других видов и жанров художественного творчества, стремятся отгородить ту область искусства, в которой они работают, ото всех других, замкнуть ее в непробиваемых и непроницаемых стенах «чисто» живописной, «чисто» музыкальной, «чисто» кинематографической и т. д. выразительности. Есть, наконец, и такие художники, которым чужды обе эти односторонние концепции и которые исходят – более или менее последовательно и более или менее осознанно – из представления о диалектическом характере взаимоотношения искусств, то есть ощущают свойственное всем им противоречивое единство общего и своеобразного как в форме, так и в содержании. Такие художники понимают, что, скажем, литературное произведение должно быть не только истинно «литературным», но может обладать и «живописностью», и «пластичностью», и «музыкальностью», и «кинематографичностью», без всякого ущерба для его собственно литературных качеств и достоинств. Такие художники понимают, что влияние литературы и музыки на живопись может выражаться по-разному. Отвергая в живописи «литературщину», они не боятся насыщения картин повествовательностью и, стремясь в своих полотнах к «музыкальности», не приемлют совершаемого абстракционистами превращения картины в неизобразительную «симфонию» красочных пятен.
д. выразительности. Есть, наконец, и такие художники, которым чужды обе эти односторонние концепции и которые исходят – более или менее последовательно и более или менее осознанно – из представления о диалектическом характере взаимоотношения искусств, то есть ощущают свойственное всем им противоречивое единство общего и своеобразного как в форме, так и в содержании. Такие художники понимают, что, скажем, литературное произведение должно быть не только истинно «литературным», но может обладать и «живописностью», и «пластичностью», и «музыкальностью», и «кинематографичностью», без всякого ущерба для его собственно литературных качеств и достоинств. Такие художники понимают, что влияние литературы и музыки на живопись может выражаться по-разному. Отвергая в живописи «литературщину», они не боятся насыщения картин повествовательностью и, стремясь в своих полотнах к «музыкальности», не приемлют совершаемого абстракционистами превращения картины в неизобразительную «симфонию» красочных пятен.
Пожалуй, сказанного достаточно для того, чтобы понять, какое большое практическое значение имеет изучение эстетической наукой проблемы соотношения видов и жанров искусства. Стремление наиболее эффективно использовать возможности каждого из них в великом деле строительства художественной культуры социалистического общества и в эстетическом воспитании нашего народа должно опираться на вскрытые наукой» и верно, глубоко и тонко понимаемые объективные законы, определяющие специфику каждой области творчества и ее взаимодействие с другими областями. На строго научной основе должна покоиться наша борьба с современным буржуазным искусством, которое так часто заводит художественное творчество в формалистические тупики. Критика формализма подчас не затрагивает самых «веских» мотивов и аргументов его защитников – их хитроумной апелляции к музыке для объяснения природы поэзии и ссылок на орнамент при разговорах о живописи и скульптуре.
Вместе с тем теоретическое решение проблемы соотношения видов и жанров искусства имеет большое значение и для изучения истории художественной культуры на всех ее этапах.
Серьезным подспорьем здесь должно явиться изучение истории эстетической мысли. Целью данной статьи и является выяснение того, как понимал взаимоотношение видов и жанров искусства один из величайших представителей русской и мировой эстетической мысли – Белинский и что в этом разделе его эстетических воззрений может быть поучительным для советской эстетической науки.
2
В историю русской культуры «неистовый Виссарион» вошел как литературный критик, и его эстетические убеждения складывались на основе изучения, наиболее близкого, наиболее известного ему и наиболее любимого им вида искусства – искусства слова. Но, хотя литература всегда была основным предметом его изучения, а все остальные искусства находились на периферии его художественного внимания, Белинский отнюдь не был к ним равнодушен. Уже в самом начале своего жизненного пути, вскоре после приезда в Москву и поступления в университет, «юноша писал родителям, – отвечая на просьбы матери почаще «ходить по церквам»: «Шататься мне по оным некогда, ибо чрезвычайно много других, гораздо важнейших дел, которыми должно заниматься». И далее следовало объяснение того, что же это, собственно, за дела: «Я пошел по такому отделению, которое требует, чтобы иметь познание и толк во всех изящных искусствах» 1.
И далее следовало объяснение того, что же это, собственно, за дела: «Я пошел по такому отделению, которое требует, чтобы иметь познание и толк во всех изящных искусствах» 1.
Многое делал Белинский – особенно в петербургский период – для осуществления этой программы. Обстоятельства многотрудной его жизни не дали ему возможности достичь цели в той мере, в какой хотел он, но важно, что такую цель Белинский сознательно перед собой ставил, отчетливо понимая, что разработка эстетической теории требует знания не одной только литературы, а всех искусств. Потому-то, хотя проблема взаимоотношения видов искусства не оказывалась в центре его внимания, он не мог не размышлять над ней, не мог не искать наиболее убедительного ее решения. На этот путь его постоянно толкала прежде всего необходимость разобраться в том, почему в современной ему русской художественной культуре разные ее области развивались с разным успехом и играли неодинаковую роль в освободительном движении, в просвещении и росте революционного сознания интеллигенции. Этот мотив объясняет также, почему такое большое внимание уделял Белинский проблеме соотношения жанров в самой литературе. «Важность теоретических вопросов, – утверждал он, – зависит от их отношения к действительности» (X, 32). Именно так обстояло дело и в интересующем нас случае.
Этот мотив объясняет также, почему такое большое внимание уделял Белинский проблеме соотношения жанров в самой литературе. «Важность теоретических вопросов, – утверждал он, – зависит от их отношения к действительности» (X, 32). Именно так обстояло дело и в интересующем нас случае.
3
Уже очень давно философы и художники, теоретики искусства и критики, наблюдавшие за движением современной им художественной культуры, отмечали неравномерность развития разных ее областей и стремились понять причины этой неравномерности. Ограниченность их историко-художественных знаний, а с другой стороны, метафизический способ мышления, господствовавший в науке вплоть до XIX века, приводили к тому, что до начала прошлого столетия, точнее до «Эстетики» Гегеля, трактовка соотношения видов и жанров искусства имела абстрактно-иерархический характер: одни, области художественного творчества объявлялись более «высокими» и «совершенными», обладающими большей эстетической ценностью, чем другие. Метафизичность подобных представлений состояла, во-первых, в том, что оценка всех видов и жанров искусства основывалась на чисто количественном соотнесении их художественных возможностей, а не на выявлении качественного своеобразия каждой области творчества. Во-вторых, метафизичность эта выражалась в антиисторической абсолютизации того конкретного соотношения видов и жанров искусства, которое складывалось в современную теоретику эпоху.
Метафизичность подобных представлений состояла, во-первых, в том, что оценка всех видов и жанров искусства основывалась на чисто количественном соотнесении их художественных возможностей, а не на выявлении качественного своеобразия каждой области творчества. Во-вторых, метафизичность эта выражалась в антиисторической абсолютизации того конкретного соотношения видов и жанров искусства, которое складывалось в современную теоретику эпоху.
Одной из крупнейших заслуг Гегеля в области эстетики было то, что он показал, как в каждую эпоху меняется соотношение видов и жанров искусства. Таким образом, впервые решение этой проблемы было поставлено на почву историзма. Однако гегелевский историзм был и идеалистическим по своему духу, и непоследовательно, не до конца диалектическим. Потому Гегель не только не смог найти верного объяснения увиденной им закономерности, но, в полном противоречии со всем ходом своих рассуждений, вернулся к метафизическому пониманию литературы как «высшего искусства, поскольку она является «самым духовным» искусством, менее всех других отягощенным материальной вещественностью своей формы.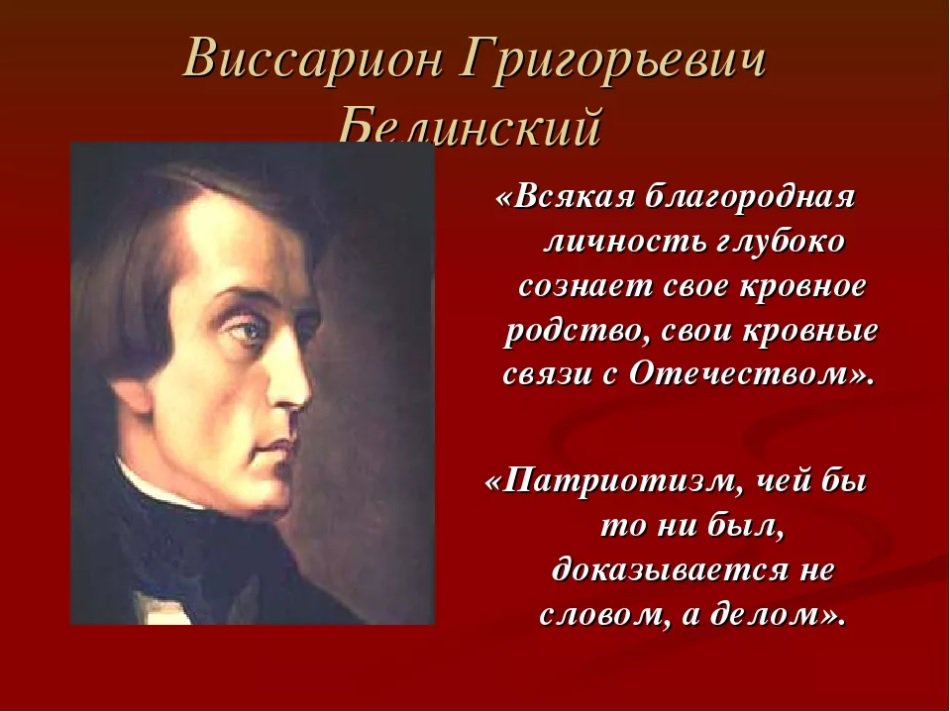
С того именно места, на котором остановился Гегель, и начинаются размышления Белинского над этой проблемой.
4
В 30-е годы, думая о том, каково соотношение разных жанров в литературе, Белинский ни разу не ставил вопроса о взаимоотношении литературы и других видов искусства. Его, видимо, вполне удовлетворяло в это время то заявление, которое он сделал в первой своей работе – в «Литературных мечтаниях», – определяя, что именно сближает все виды искусства и что их различает. Мысль Белинского сводилась к тому, что все искусства имеют общее содержание – «идею всеобщей жизни природы», отличаются же они друг от друга тем, что это общее содержание «воспроизводят» при помощи разных материальных средств – «в слове, в звуке, в чертах и красках» (I, 32).
Когда же через семь лет Белинский начал работать над сочинением, которое должно было представить его эстетические взгляды, он изложил свое понимание соотношения видов искусства значительно более обстоятельно, чем в «Литературных мечтаниях». Совершенно очевидно, что концепция Белинского, сформулированная в статье 1841 года «Разделение поэзии на роды и виды», сложилась у него под явным влиянием гегелевской эстетики.
Совершенно очевидно, что концепция Белинского, сформулированная в статье 1841 года «Разделение поэзии на роды и виды», сложилась у него под явным влиянием гегелевской эстетики.
Рассматривая искусство как единство духовного содержания и материальной формы, Белинский заключал, что форма эта не только выражает содержание, но и «сковывает» – в силу ее материальности – возможности его наиболее полного, многогранного, адекватного воплощения. Потому, чем большую роль играет «вещественная» стихия в форме искусства, тем беднее, уже, ограниченнее его выразительные возможности, и, напротив, чем менее «вещественна» форма, тем шире раскрываются духовно-познавательные способности искусства. Определяя ценность каждого вида искусства с помощью такого критерия, Белинский, как и Гегель, должен был, естественно, вознести искусство слова над всеми другими и оттеснить архитектуру на нижнюю ступеньку «лестницы» искусств. Архитектура, говорит здесь Белинский, «это еще не искусство в полном значении, а только стремление, первый шаг к искусству». За архитектурой на этой «лестнице» следует скульптура, еще выше стоит живопись, за ней – музыка, поэзия же «есть высший род искусства» (V, 7 – 9).
За архитектурой на этой «лестнице» следует скульптура, еще выше стоит живопись, за ней – музыка, поэзия же «есть высший род искусства» (V, 7 – 9).
Через несколько лет, когда Белинский полностью освободился от влияния эстетики Гегеля и стал на прочные материалистические позиции в философии и в эстетике, он сохранил все же верность «иерархическому» пониманию взаимоотношения видов искусства. «Определить поэзию, – писал он в 1845 году в рецензии на «Опыт истории русской литературы» А. Никитенко, – значит определить искусство вообще, т. е. столько же определить и архитектуру, и скульптуру, и живопись, и музыку, сколько и поэзию, потому что последняя от первых разнится не сущностью, а способом выражения» (IX, 158). Однако вслед за этим суждением сразу же следовала весьма существенная оговорка:
«Правда, этот способ, т. е. слово, делает ее (речь идет о поэзии. – М. К.) выше всех других искусств и производит целый круг эстетических законов, только ей одной свойственных и всякому другому искусству чуждых» (там же).
Что же это за законы? Оказывается, речь идет все о той же гегелевской максимальной «духовности» литературы: «Ее памятники прочнее, несокрушимее, вековечнее, потому что она, по сущности своей, духовнее других искусств, менее зависит от материальных средств» (IX, 152).
С этих же позиций рассматривал Белинский и внутренние соотношения художественных ценностей в пределах самих пространственных искусств. Не раз повторял он, что живопись более «духовна» но своему содержанию, чем скульптура.
- В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, Изд. АН СССР, М. 1956, стр. 35. Все дальнейшие ссылки на это издание даются в тексте.[↩]
Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.
Уже подписаны? Авторизуйтесь для доступа к полному тексту.
Белинский Виссарион Григорьевич | Encyclopedia.com
(1811–1848), русский литературный критик, чьи рамки эстетического суждения почти два столетия влияли на российские и советские критические стандарты; он установил симбиотические отношения между писателем и критиком, чье творческое взаимодействие он считал инструментом социального самопознания.
Отец Белинского был морским врачом, мать — дочерью моряка, что сделало будущего критика разночинцем (человек смешанного происхождения). Он родился в крепости Свеаборг (сегодня Суоменлинна, Финляндия) и провел детство в городке Чембар (Пензенская область), где его отец работал уездным врачом. Белинский поступил в Московский университет в 1829 г., но был исключен в 1832 г. из-за слабого здоровья и репутации возмутителя спокойствия. Часто находясь на грани нищеты и завися от поддержки преданных друзей, Белинский стал критиком журналов Николая Ивановича Надеждина, Телескоп 9.0006 и Молва, в 1834 году. Его обширный дебют, Литературные мечты: Элегия в прозе (Литературные грезы: Элегия в прозе), состоял из десяти глав. На этом этапе понимание литературы Белинским отличалось высоким идеализмом, вдохновленным Фридрихом Шиллером, а также понятием народности ( народность ), что означало необходимость «идеи народа» во всяком художественном произведении. Эта концепция была заимствована у немецкого Volkstuemlichkeit 9.0006, разработанный Иоганном Готфридом Гердером и Фридрихом Вильгельмом Шеллингом.
Эта концепция была заимствована у немецкого Volkstuemlichkeit 9.0006, разработанный Иоганном Готфридом Гердером и Фридрихом Вильгельмом Шеллингом.
Участие Белинского с 1833 г. в московском гегелевском кружке Николая Владимировича Станкевича, а также его близкая дружба с Михаилом Александровичем Бакуниным заставили его к 1837 г. сделать радикальный шаг к безусловному признанию всякой действительности разумной. Однако привычная склонность Белинского к крайностям превратила его интерпретацию диалектического рационализма Георга Вильгельма Фридриха Гегеля в пассивное принятие всего существующего, даже крепостного права и царского строя. Такой фатализм проявился в обзорах и рецензиях Белинского для журнала Андрея Александровича Краевского Отечественные записки (Отечественные записки), отдел критики которого он возглавлял с 1839 г. В дальнейшем, в начале 1840-х гг., во взглядах Белинского наметился более сбалансированный синтез утопических устремлений и реалистических норм, о чем свидетельствуют его работы для Николая «Современник » («Современник») Алексеевича Некрасова и Ивана Ивановича Панаева, журнал, нанявший его в 1846 году.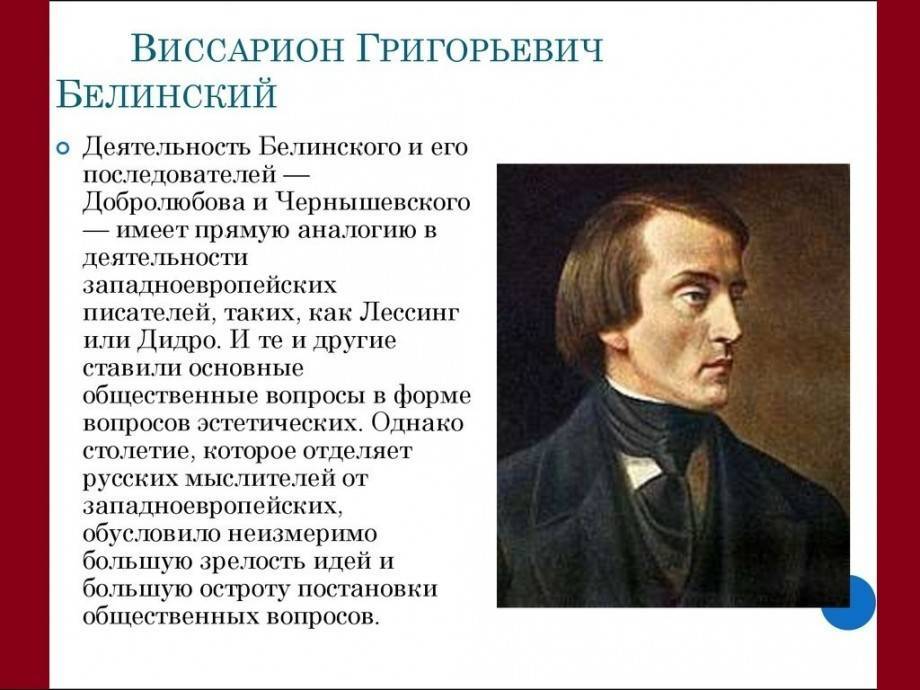 , подружившись и глубоко влияя на многих из них. В 1846 году он ввел критический термин Natural School, , тем самым предоставляя группе писателей направление и платформу для самоидентификации. Даже те, кто не разделял его сильных либеральных убеждений, трепетали перед его порядочностью, честностью и самоотверженностью. Страстный, бескомпромиссный характер Белинского вызывал столкновения, порождавшие крупные интеллектуальные споры. Например, в своем знаменитом письме Николаю Васильевичу Гоголю, написанном 15 июля 1847 года, критик упрекал этого некогда столь обожаемого писателя за его мистицизм и консерватизм; затем письмо широко распространилось в сотнях нелегальных экземпляров.
, подружившись и глубоко влияя на многих из них. В 1846 году он ввел критический термин Natural School, , тем самым предоставляя группе писателей направление и платформу для самоидентификации. Даже те, кто не разделял его сильных либеральных убеждений, трепетали перед его порядочностью, честностью и самоотверженностью. Страстный, бескомпромиссный характер Белинского вызывал столкновения, порождавшие крупные интеллектуальные споры. Например, в своем знаменитом письме Николаю Васильевичу Гоголю, написанном 15 июля 1847 года, критик упрекал этого некогда столь обожаемого писателя за его мистицизм и консерватизм; затем письмо широко распространилось в сотнях нелегальных экземпляров.
В последние годы своей жизни Белинский пытался создать теорию литературных жанров и общефилософские определения сущности и функции искусства. После его ранней смерти от туберкулеза его имя стало синонимом догматизма и антиэстетического утилитаризма. И все же эта репутация в значительной степени незаслуженна; ибо оно явилось результатом канонизации критика либеральными и марксистскими идеологами. Тем не менее уже в первых своих работах Белинский проявлял некоторую склонность к упрощению и систематизации любой ценой, часто сводя сложные сущности к бинарным понятиям (например, классическое противопоставление формы и содержания). Действительно, Белинский мало времени уделял вопросам литературного языка, редко занимаясь подробным текстологическим анализом. Однако и его теории, и их эволюция были упрощены как его советскими эпигонами, так и их западными антагонистами.
Тем не менее уже в первых своих работах Белинский проявлял некоторую склонность к упрощению и систематизации любой ценой, часто сводя сложные сущности к бинарным понятиям (например, классическое противопоставление формы и содержания). Действительно, Белинский мало времени уделял вопросам литературного языка, редко занимаясь подробным текстологическим анализом. Однако и его теории, и их эволюция были упрощены как его советскими эпигонами, так и их западными антагонистами.
Белинский, несомненно, сформировал многие взгляды на русскую литературу, которые остаются преобладающими, в том числе канон авторов и шедевров. Например, именно он защитил роман Лермонтова 1840 года « Героев нашего времени » как смелое новаторское произведение и признал высший талант Федора Достоевского. (При этом он ставил Вальтера Скотта и Жорж Санд выше Пушкина). Белинский, первый крупный профессиональный русский литературовед, стоял у истоков русской литературоцентричной культуры с ее высшими социальными и этическими требованиями. Его аскетическая личность и стремление к мученичеству стали архетипическими для миссионерского духа русской интеллигенции. Наконец, Белинский определил идеальный образ русского писателя как светского пророка, долг которого откликаться на чаяния людей и указывать им путь к лучшему будущему.
Его аскетическая личность и стремление к мученичеству стали архетипическими для миссионерского духа русской интеллигенции. Наконец, Белинский определил идеальный образ русского писателя как светского пророка, долг которого откликаться на чаяния людей и указывать им путь к лучшему будущему.
См. также: Достоевский Федор Михайлович; Гоголь, Николай Васильевич; интеллигенция; Крылов Иван Андреевич; Лермонтов, Михаил Юрьевич; Пушкин, Александр Сергеевич; тургенев иван сергеевич
Боуман Герберт. (1969). Виссарион Белинский: Исследование истоков социальной критики в России. Нью-Йорк: Рассел и Рассел.
Террас, Виктор. (1974). Белинский и русское литературоведение: наследие органической эстетики. Мэдисон: Издательство Висконсинского университета.
Питер Роллберг
Виссарион Белинский | Журнал «Ловкий Додж»
Я Виссарион Белинский, и жил я с 1811 по 1848 год, каких-то тридцать семь лет. Я вам, быть может, неизвестен и не так изящен, как мои предшественники в этих «фальшивых письмах». Я предлагаю это как введение, а не извинение.
Я предлагаю это как введение, а не извинение.
Я привык, что меня считают ничтожным и неотесанным. Видите ли, я, сын бедного провинциального доктора, был первым представителем простого сословия России девятнадцатого века, возвысившим свой голос в художественном и интеллигентском мире. Я не мог полагаться ни на одну аристократическую фамилию, чтобы проложить себе путь в ученые круги Москвы и Санкт-Петербурга. У меня был только мой голос — часто кричащий от негодования и одновременно задыхающийся от болезни — и идеал — уже прочно заложенный во мне и будущая цель для многих после меня — и своим голосом и своими мыслями я указывал русской литературе на дорога, которая приведет к Достоевскому, Толстому, Чехову, Пастернаку и Солжинецину.
Я просил, чтобы литература участвовала в жизни людей: описывала, понимала и искала; что литература образует мощное течение в русле непрекращающейся социальной борьбы моей страны, а не прогулочный катер, лениво скользящий наверху и направляющийся к берегу, когда вода становится слишком быстрой. Даже если бы автор мог говорить только шепотом, опасаясь репрессий, я хотел, чтобы от этого шепота звучал гром.
Даже если бы автор мог говорить только шепотом, опасаясь репрессий, я хотел, чтобы от этого шепота звучал гром.
К сожалению, слишком большая часть литературы, с которой я столкнулся, была покрыта гнилой слюной «рептильной прессы», как мы называли самоуверенных пустошей официальной литературы, призывавшей народ довольствоваться малой едой и еще меньшим свободу — потому что царь так сильно любил их и знал, что для них хорошо! Орнаментщики, религиозные мошенники, профессиональные знатоки — все пробирались к ногам царя, чтобы льстиво восхвалять его безграничную мудрость. О, как мне хотелось вырвать языки всем этим подхалимам! — чтобы голос человечества, чуткого к своему народу художника впервые прозвучал в моей стране.
Однажды я опубликовал письмо писателю моего времени Николаю Гоголю. Этот человек когда-то обрисовал убожество нашего народа, ужасное воздействие нашей беззаботной системы на кротких и смиренных, — теперь он взялся писать извинения за царя. Я написал свое письмо, чтобы быстро и яростно осудить его, чтобы дать ему понять, что другие все еще чувствуют чувствительность к стремлениям человечества, к которым он — из-за возраста, жадности или слабости — стал черствым. Но мое письмо, когда о нем узнали другие, подверглось репрессии. А когда задорный юноша прочитал ее вслух перед закрытым кругом, какой-то марионеток выдал его тайной полиции и отправил в суровые лагеря Сибири. Этого человека, много страдавшего за соприкосновение с моими взглядами, звали Федор Достоевский. . .
Но мое письмо, когда о нем узнали другие, подверглось репрессии. А когда задорный юноша прочитал ее вслух перед закрытым кругом, какой-то марионеток выдал его тайной полиции и отправил в суровые лагеря Сибири. Этого человека, много страдавшего за соприкосновение с моими взглядами, звали Федор Достоевский. . .
Так что не думайте, что лишение свободы в России — выдумка Советов. Единственное, что они добавили к удушению свободы слова и мысли в моей стране, — это использование технологий. У них теперь есть магнитофоны, а также виляющие языки. Не исчезла и «пресмыкающаяся пресса». Он до сих пор процветает в бюрократических болотах, порицая истинных художников, которым часто приходится эмигрировать, чтобы найти более высокую, нетронутую почву.
Но во всей суматохе истории моей страны за последние два столетия осталась литература, выражающая пыл, агонию, надежду народа. Как редактор, рецензент и критик, я возвышал свой голос в унисон с этими страстными художниками — даже после того, как мой голос стал скрипеть от чахотки, и когда я часто был вынужден прерываться на полуслове, потому что вместо этого кровь приливала к моим губам. слов, которые я искал. я умер до сорока; но мое наследие засело в сердцах многих, когда русский народ и его художники боролись за свободу от романовского самодержавия, прыгали из огня в огонь и начинали заново свою извечную борьбу, на этот раз против гнета Советская «династия».
слов, которые я искал. я умер до сорока; но мое наследие засело в сердцах многих, когда русский народ и его художники боролись за свободу от романовского самодержавия, прыгали из огня в огонь и начинали заново свою извечную борьбу, на этот раз против гнета Советская «династия».
Итак, я возникла из несчастливой истории моей страны, чтобы поговорить с вами в вашей стране относительной свободы, свободы, надеюсь, которая не тратится по пустякам, пока не будет потрачена вся. Не смущайтесь мнением тех, кто сказал, что именно потому, что русские серьезно относятся к своей литературе, правители всегда должны пресекать подрывные материалы, и что в вашей стране никто не слушает художника, поэтому правительству не о чем беспокоиться. что сказано. Мне трудно поверить, что литература может быть настолько бессильной и игнорируемой вашим обществом. У вас тоже были случаи, когда литература и другие формы искусства оказывали влияние на отношение многих ваших людей. Вы тоже вылили негодование перед вами на печатной странице.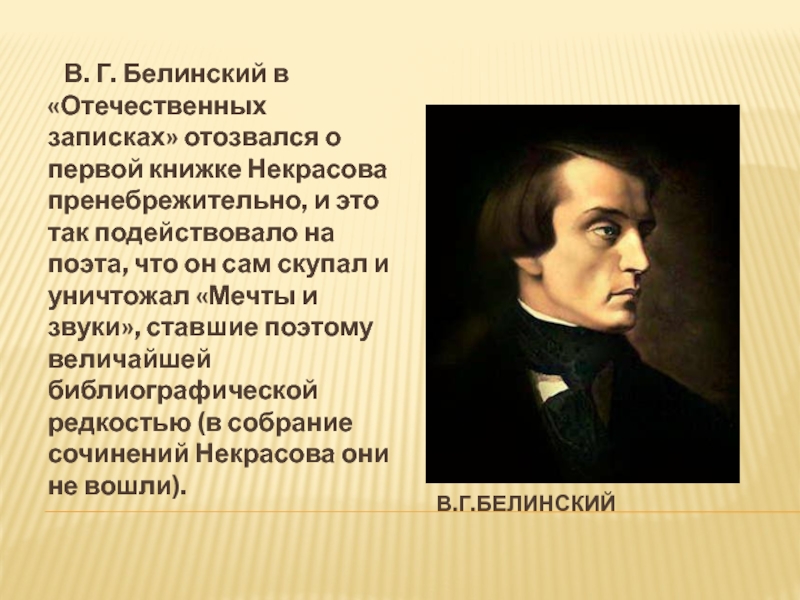 Вы тоже слышали песни убитых.
Вы тоже слышали песни убитых.
Таким образом, я чувствую, что многие читатели вашего журнала желают большего, чем просто умные и забавные сочетания слов. Они могут не претендовать на эрудицию или объективность в своих взглядах на искусство — но вы только посмотрите на их яростные мнения! Когда человек чувствителен и развивается, то это состояние не столько глупого и откровенного невежества, сколько того факта, что искусство течет через всех нас, влияет на всех нас, и хотя мы не изучаем его систематически, мы знаем закономерности, которые порадуйте нас и посланиями, которые действительно способны проникнуть в наши души.
Я надеюсь, что ваше издание дойдет до этих людей. Пусть ваша литература будет интегративной, а не фрагментарной. Пусть художники не становятся такими изолированными в перспективе, как в мое время была пропасть между художником и аристократом. Пусть ваши различные стили выражения дополняют друг друга, поскольку они тянутся от сознания отдельных художников к их интерпретаторам.
Позвольте себе стать мечтой посреди дремлющей культуры. Интервал свечения в темноте. Позвольте себе быть достаточно значительными, чтобы вас вспомнили, когда спящий проснется. Пусть ваша энергия будет достаточно жизненной, чтобы ее можно было использовать на следующий день.
А если и ты дремлешь, что тогда? Что, если писатели вашего времени не предлагают новых перспектив, не высвобождают новых чувств, не исследуют новых путей? Как редакторы журнала, вы из Artful Dodge должны поощрять и бороться за то, чтобы заручиться поддержкой художественных голосов, циркулирующих вокруг вас. И эти благодатные творческие силы должны предложить свои услуги, чтобы сделать ваше издание ярким. Только они могут заставить вашу публикацию звучать правдоподобно еще долго после того, как ее нота будет сыграна.
С тех пор, как я покинул царство живых, я больше не так яростно поддерживаю тот или иной философский товар. Но я по-прежнему твердо убежден, что для того, чтобы художник выжил, он должен определенным образом удовлетворять потребности своих рецепторов.



 И потому мечтательность у него заменяется задумчивостию, фантазм – радужными образами фантазии; читая его, вы чувствуете себя на почве действительности и в сфере действительности. Кажется, как будто в грациозных созданиях Батюшкова русская поэзия хотела явить первый результат своего развития примирением действительного, но одностороннего направления Державина, с односторонне мечтательным направлением Жуковского.
И потому мечтательность у него заменяется задумчивостию, фантазм – радужными образами фантазии; читая его, вы чувствуете себя на почве действительности и в сфере действительности. Кажется, как будто в грациозных созданиях Батюшкова русская поэзия хотела явить первый результат своего развития примирением действительного, но одностороннего направления Державина, с односторонне мечтательным направлением Жуковского.


 Изящное сладострастие – вот пафос его поэзии. Правда, в любви его, кроме страсти и грации, много нежности, а иногда много грусти и страдания; но преобладающий элемент его всегда – страстное вожделение, увенчиваемое всею негою, всем обаянием исполненного поэзии и грации наслаждения.
Изящное сладострастие – вот пафос его поэзии. Правда, в любви его, кроме страсти и грации, много нежности, а иногда много грусти и страдания; но преобладающий элемент его всегда – страстное вожделение, увенчиваемое всею негою, всем обаянием исполненного поэзии и грации наслаждения. ..> Всем трем поэтам Италии он посвятил по одной прозаической статье, где излил свой восторг к ним, как критик [4] [Имеются в виду две (а не три) статьи Батюшкова – «Ариост и Тасс» и «Петрарка» (обе – 1815 г.).]. Особенно замечательно, что он как будто гордится, словно заслугою, открытием, которое удалось ему при многократном чтении Тассо: он нашел многие места и целые стихи Петрарки в «Освобожденном Иерусалиме», что, по его мнению, доказывает любовь и уважение Тассо к Петрарке.
..> Всем трем поэтам Италии он посвятил по одной прозаической статье, где излил свой восторг к ним, как критик [4] [Имеются в виду две (а не три) статьи Батюшкова – «Ариост и Тасс» и «Петрарка» (обе – 1815 г.).]. Особенно замечательно, что он как будто гордится, словно заслугою, открытием, которое удалось ему при многократном чтении Тассо: он нашел многие места и целые стихи Петрарки в «Освобожденном Иерусалиме», что, по его мнению, доказывает любовь и уважение Тассо к Петрарке. ..
.. В его поэтическом призвании Греция борется с Италиею, а юг с севером, ясная радость с унылою думою, легкомысленная жажда наслаждения вдруг сменяется мрачным, тяжелым сомнением, и тирская багряница эпикурейца робко прячется под власяницу сурового аскетика. Отсюда происходит, что поэзия Батюшкова лишена общего характера, и если можно указать на ее пафос, то нельзя не согласиться, что этот пафос лишен всякой уверенности в самом себе и часто походит на контрабанду, с опасением и боязнию провозимую через таможню пиэтизма и морали. Батюшков был учителем Пушкина в поэзии, он имел на него такое сильное влияние, он передал ему; почти готовый стих, – а между тем что представляют нам творения самого этого Батюшкова? Кто теперь читает их, кто восхищается ими? В них все принадлежит своему времени, почти ничего нет для нашего. Артист, художник по призванию по натуре и по таланту, Батюшков неудовлетворителен для нас и с эстетической точки зрения. Откуда же эти противоречия? Где причина их? – Не трудно дать ответ на этот вопрос.
В его поэтическом призвании Греция борется с Италиею, а юг с севером, ясная радость с унылою думою, легкомысленная жажда наслаждения вдруг сменяется мрачным, тяжелым сомнением, и тирская багряница эпикурейца робко прячется под власяницу сурового аскетика. Отсюда происходит, что поэзия Батюшкова лишена общего характера, и если можно указать на ее пафос, то нельзя не согласиться, что этот пафос лишен всякой уверенности в самом себе и часто походит на контрабанду, с опасением и боязнию провозимую через таможню пиэтизма и морали. Батюшков был учителем Пушкина в поэзии, он имел на него такое сильное влияние, он передал ему; почти готовый стих, – а между тем что представляют нам творения самого этого Батюшкова? Кто теперь читает их, кто восхищается ими? В них все принадлежит своему времени, почти ничего нет для нашего. Артист, художник по призванию по натуре и по таланту, Батюшков неудовлетворителен для нас и с эстетической точки зрения. Откуда же эти противоречия? Где причина их? – Не трудно дать ответ на этот вопрос.
 Жуковский сделал несравненно больше для своей сферы, чем Батюшков для своей, – это правда; но не должно забывать, что Жуковский, раньше Батюшкова начав действовать, и теперь еще не сошел с поприща поэтической деятельности; а Батюшков умолк навсегда с 1819 года, тридцати двух лет от роду… Заслуги Жуковского и теперь перед глазами всех и каждого; имя его громко и славно и для новейших поколений; о Батюшкове большинство знает теперь понаслышке и по воспоминанию; но если немногие прекрасные стихотворения его уже не читаются и не перечитываются теперь, то имени учителя Пушкина в поэзии достаточно для его славы; а если в двух томах его сочинений еще нет бессмертия, – оно тем не менее сияет в истории русской поэзии…
Жуковский сделал несравненно больше для своей сферы, чем Батюшков для своей, – это правда; но не должно забывать, что Жуковский, раньше Батюшкова начав действовать, и теперь еще не сошел с поприща поэтической деятельности; а Батюшков умолк навсегда с 1819 года, тридцати двух лет от роду… Заслуги Жуковского и теперь перед глазами всех и каждого; имя его громко и славно и для новейших поколений; о Батюшкове большинство знает теперь понаслышке и по воспоминанию; но если немногие прекрасные стихотворения его уже не читаются и не перечитываются теперь, то имени учителя Пушкина в поэзии достаточно для его славы; а если в двух томах его сочинений еще нет бессмертия, – оно тем не менее сияет в истории русской поэзии… В данных статьях Белинский рассматривает поэзию Батюшкова как явление переходное, как ранний этап романтизма, называя в то же время иногда Батюшкова неоклассиком. Вместе с тем Белинский обнаруживает в сочинениях Батюшкова «греческий романтизм» и говорит о том, что Батюшков был «первый из русских поэтов, побывавший в этой мировой студии мирового искусства». Печ. по: Белинский, VI, 113–218.
В данных статьях Белинский рассматривает поэзию Батюшкова как явление переходное, как ранний этап романтизма, называя в то же время иногда Батюшкова неоклассиком. Вместе с тем Белинский обнаруживает в сочинениях Батюшкова «греческий романтизм» и говорит о том, что Батюшков был «первый из русских поэтов, побывавший в этой мировой студии мирового искусства». Печ. по: Белинский, VI, 113–218.