НЕДОРОСЛЬ Д. И. Фонвизина: диалог о счастливой семейной жизни
НЕДОРОСЛЬ Д. И. Фонвизина: диалог о счастливой семейной жизни
Что помним мы из Недоросли Д И Фонвизина, что проходили в школе (кто в 9 классе, кто в 8-м)? Все точно помнят бссмертную фразу оболтуса Простакова: «Не хочу учиться, хочу жениться!»
С радостью напомним вам еще один диалог из произведения. В прошлый раз мы жирным выделяли особенно красивые фразы, особенно точные. Здесь можно большую часть диалога выделить сплошь…
Дядя беседует с племянницей, которую в конце выдаст замуж за достойного человека, которого и она сама любит:
Софья. Ваши наставления, дядюшка, составят все мое благополучие. Дайте мне правила, которым я последовать должна. Руководствуйте сердцем моим. Оно готово вам повиноваться.
Стародум. С радостью подам тебе мои советы. Слушай меня с таким вниманием, с какою искренностию я говорить буду. Ты теперь в тех летах, в которых душа наслаждаться хочет всем бытием своим, разум хочет знать, а сердце чувствовать. Ты входишь теперь в свет, где первый шаг решит часто судьбу целой жизни, где всего чаще первая встреча бывает: умы, развращенные в своих понятиях, сердца, развращенные в своих чувствиях. О мой друг!
Ты теперь в тех летах, в которых душа наслаждаться хочет всем бытием своим, разум хочет знать, а сердце чувствовать. Ты входишь теперь в свет, где первый шаг решит часто судьбу целой жизни, где всего чаще первая встреча бывает: умы, развращенные в своих понятиях, сердца, развращенные в своих чувствиях. О мой друг!
Софья. Все мое старание употреблю заслужить доброе мнение людей достойных. Да как мне избежать, чтоб те, которые увидят, как от них я удаляюсь, не стали на меня злобиться? Не можно ль, дядюшка, найти такое средство, чтоб мне никто на свете зла не пожелал?
Стародум. Дурное расположение людей, не достойных почтения, не должно быть огорчительно. Знай, что зла никогда не желают тем, кого презирают; а обыкновенно желают зла тем, кто имеет право презирать. Люди не одному богатству, не одной знатности завидуют: и добродетель также своих завистников имеет.
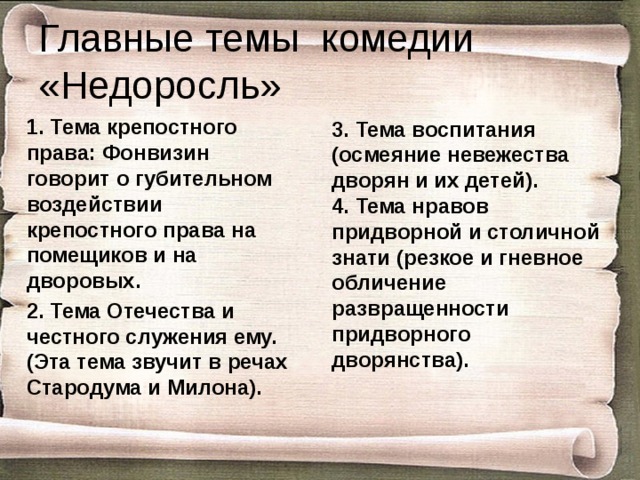
Софья. Возможно ль, дядюшка, чтоб были в свете такие жалкие люди, в которых дурное чувство родится точно оттого, что есть в других хорошее? Добродетельный человек сжалиться должен над такими несчастными.
Стародум. Они жалки, это правда; однако для этого добродетельный человек не перестает идти своей дорогой. Подумай ты сама, какое было бы несчастье, ежели б солнце перестало светить для того, чтоб слабых глаз не ослепить.
Софья. Да скажите ж мне, пожалуйста, виноваты ли они? Всякий ли человек может быть добродетелен?
Стародум. Поверь мне, всякий найдет в себе довольно сил, чтоб быть добродетельну. Надобно захотеть решительно, а там всего будет легче не делать того, за что б совесть угрызала.
Софья. Кто ж остережет человека, кто не допустит до того, за что после мучит его совесть?
Стародум. Кто остережет? Та же совесть. Ведай, что совесть всегда, как друг, остерегает прежде, нежели как судья наказывает.
Софья.
 Так поэтому надобно, чтоб всякий порочный человек был действительно презрения достоин, когда делает он дурно, знав, чтó делает. Надобно, чтоб душа его очень была низка, когда она не выше дурного дела.
Так поэтому надобно, чтоб всякий порочный человек был действительно презрения достоин, когда делает он дурно, знав, чтó делает. Надобно, чтоб душа его очень была низка, когда она не выше дурного дела.Стародум. И надобно, чтоб разум его был не прямой разум, когда он полагает свое счастье не в том, в чем надобно.
Софья. Мне казалось, дядюшка, что все люди согласились, в чем полагать свое счастье. Знатность, богатство…
Стародум. Так, мой друг! И я согласен назвать счастливым знатного и богатого. Да сперва согласимся, кто знатен и кто богат. У меня мой расчет. Степени знатности рассчитаю я по числу дел, которые большой господин сделал для отечества, а не по числу дел, которые нахватал на себя из высокомерия; не по числу людей, которые шатаются в его передней, а по числу людей, довольных его поведением и делами. По моему расчету, не тот богат, который отсчитывает деньги, чтоб прятать их в сундук, а тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтоб помочь тому, у кого нет нужного.

Софья. Как это справедливо! Как наружность нас ослепляет! Мне самой случалось видеть множество раз, как завидуют тому, кто у двора ищет и значит…
Стародум. А того не знают, что у двора всякая тварь что-нибудь да значит и чего-нибудь да ищет; того не знают, что у двора все придворные и у всех придворные. Нет, тут завидовать нечему: без знатных дел знатное состояние ничто.
Софья. Конечно, дядюшка! И такой знатный никого счастливым не сделает, кроме себя одного.
Стародум. Как! А разве тот счастлив, кто счастлив один? Знай, что, как бы он знатен ни был, душа его прямого удовольствия не вкушает. Вообрази себе человека, который бы всю свою знатность устремил на то только, чтоб ему одному было хорошо, который бы и достиг уже до того, чтоб самому ему ничего желать не оставалось. Ведь тогда вся душа его занялась бы одним чувством, одною боязнию: рано или поздно сверзиться.
Софья.
 Вижу, какая разница казаться счастливым и быть действительно. Да мне это непонятно, дядюшка, как можно человеку все помнить одного себя? Неужели не рассуждают, чем один обязан другому? Где ж ум, которым так величаются?
Вижу, какая разница казаться счастливым и быть действительно. Да мне это непонятно, дядюшка, как можно человеку все помнить одного себя? Неужели не рассуждают, чем один обязан другому? Где ж ум, которым так величаются?Стародум. Чем умом величаться, друг мой! Ум, коль он только что ум, самая безделица. С пребеглыми умами видим мы худых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену уму дает благонравие. Без него умный человек — чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости ума. Это легко понять всякому, кто хорошенько подумает. Умов много, и много разных. Умного человека легко извинить можно, если он какого-нибудь качества ума и не имеет. Честному человеку никак простить нельзя, ежели недостает в нем какого-нибудь качества сердца. Ему необходимо все иметь надобно. Достоинство сердца неразделимо. Честный человек должен быть совершенно честный человек.
Софья. Ваше изъяснение, дядюшка, сходно с моим внутренним чувством, которого я изъяснить не могла.
 Я теперь живо чувствую и достоинство честного человека, и его должность.
Я теперь живо чувствую и достоинство честного человека, и его должность.Стародум. Подумай, что такое должность. Это тот священный обет, которым обязаны мы всем тем, с кем живем и от кого зависим. Если б так должность исполняли, как об ней твердят, всякое состояние людей оставалось бы при своем любочестии и было б совершенно счастливо. Дворянин, например, считал бы за первое бесчестие не делать ничего, когда есть ему
Софья. Возможно ль так себя унизить?
Стародум. У каждого свои должности. Посмотрим, как они исполняются, каковы, например, большею частию мужья нынешнего света, не забудем, каковы и жены. Возьмем в пример несчастный дом, каковых множество, где жена не имеет никакой сердечной дружбы к мужу, ни он к жене доверенности; где каждый с своей стороны своротили с пути добродетели.
 Вместо искреннего и снисходительного друга, жена видит в муже своем грубого и развращенного тирана. С другой стороны, вместо кротости, чистосердечия, свойств жены добродетельной, муж видит в душе своей жены одну своенравную наглость, а наглость в женщине есть вывеска порочного поведения. Оба стали друг другу в несносную тягость. Оба ни во что уже ставят доброе имя, потому что у обоих оно потеряно. Можно ль быть ужаснее их состояния? Дети, несчастные их дети, при жизни отца и матери уже осиротели. Отец, не имея почтения к жене своей, едва смеет их обнять, едва смеет отдаться нежнейшим чувствованиям человеческого сердца. Невинные младенцы лишены также и горячности матери. Она, недостойная иметь детей, уклоняется их ласки, видя в них или причины беспокойств своих, или упрек своего развращения. И какого воспитания ожидать детям от матери, потерявшей добродетель? Как ей учить их благонравию, которого в ней нет? В минуты, когда мысль их обращается на их состояние, какому аду должно быть в душах и мужа и жены!
Вместо искреннего и снисходительного друга, жена видит в муже своем грубого и развращенного тирана. С другой стороны, вместо кротости, чистосердечия, свойств жены добродетельной, муж видит в душе своей жены одну своенравную наглость, а наглость в женщине есть вывеска порочного поведения. Оба стали друг другу в несносную тягость. Оба ни во что уже ставят доброе имя, потому что у обоих оно потеряно. Можно ль быть ужаснее их состояния? Дети, несчастные их дети, при жизни отца и матери уже осиротели. Отец, не имея почтения к жене своей, едва смеет их обнять, едва смеет отдаться нежнейшим чувствованиям человеческого сердца. Невинные младенцы лишены также и горячности матери. Она, недостойная иметь детей, уклоняется их ласки, видя в них или причины беспокойств своих, или упрек своего развращения. И какого воспитания ожидать детям от матери, потерявшей добродетель? Как ей учить их благонравию, которого в ней нет? В минуты, когда мысль их обращается на их состояние, какому аду должно быть в душах и мужа и жены!Софья.
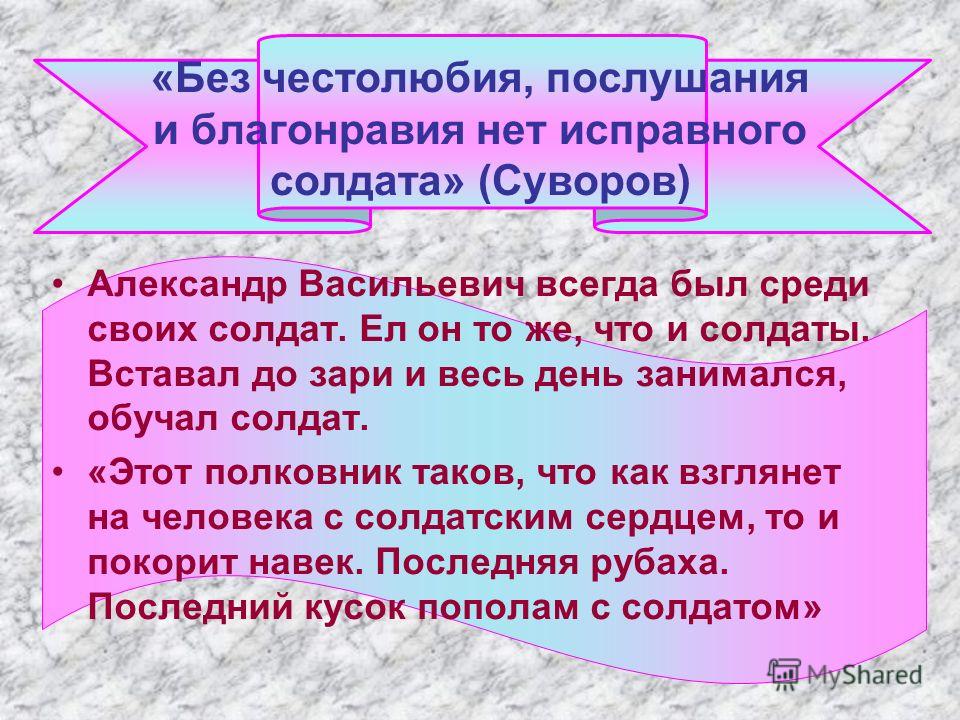 Ах, как я ужасаюсь этого примера!
Ах, как я ужасаюсь этого примера!Стародум. И не дивлюся: он должен привести в трепет добродетельную душу. Я еще той веры, что человек не может быть и развращен столько, чтоб мог спокойно смотреть на то, что видим.
Стародум. Оттого, мой друг, что при нынешних супружествах редко с сердцем советуют. Дело о том, знатен ли, богат ли жених? Хороша ли, богата ли невеста? О благонравии вопросу нет. Никому и в голову не входит, что в глазах мыслящих людей честный человек без большого чина — презнатная особа; что добродетель все заменяет, а добродетели ничто заменить не может.
Софья. Да как достойного мужа не любить дружески?
Стародум. Не имей ты к мужу своему любви, которая на дружбу походила б. Имей к нему дружбу, которая на любовь бы походила. Это будет гораздо прочнее. Тогда после двадцати лет женитьбы найдете в сердцах ваших прежнюю друг к другу привязанность. Муж благоразумный! Жена добродетельная! Что почтеннее быть может! Надобно, мой друг, чтоб муж твой повиновался рассудку, а ты мужу, и будете оба совершенно благополучны.

Софья. Все, что вы ни говорите, трогает сердце мое…
Браво, браво, БРАВО!!! Даже добавлять ничего не станем. Тот самый случай, о котором наша учительница по литературе говорила, что лучше автора не скажешь.
Денис Иванович Фонвизин (1745-1792)
Предыдущие материалы «Недоросль» Д. И. Фонвизина:
1. ДИАЛОГ О СОВЕСТИ И ЕЕ МЕСТЕ В ЖИЗНИ http://rahmon17.livejournal.com/108729.h
2. ДИАЛОГ О ЛЮБВИ И СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ http://rahmon17.livejournal.com/110521.h
3. ДИАЛОГ О НЕУСТРАШИМОСТИ http://rahmon17.livejournal.com/140108.html
4. ДИАЛОГ О ГОСУДАРЕ, ЛЬСТЕЦАХ И БЛАГОНРАВИИ http://rahmon17.livejournal.com/140851.html
Недоросль — страница 12
Софья.Вижу, какая разница казаться счастливым и быть действительно. Да мне это непонятно, дядюшка, как можно человеку все помнить одного себя? Неужели не рассуждают, чем один обязан другому? Где ж ум, которым так величаются? Стародум. Чем умом величаться, друг мой! Ум, коль он только что ум, самая безделица. С пребеглыми умами видим мы худых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену уму дает благонравие. Без него умный человек – чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости ума. Это легко понять всякому, кто хорошенько подумает. Умов много, и много разных. Умного человека легко извинить можно, если он какого-нибудь качества ума и не имеет. Честному человеку никак простить нельзя, ежели недостает в нем какого-нибудь качества сердца. Ему необходимо все иметь надобно. Достоинство сердца неразделимо. Честный человек должен быть совершенно честный человек. Софья. Ваше изъяснение, дядюшка, сходно с моим внутренним чувством, которого я изъяснить не могла. Я теперь живо чувствую и достоинство честного человека и его должность.
Стародум. Должность! А, мой друг! Как это слово у всех на языке, и как мало его понимают! Всечасное употребление этого слова так нас с ним ознакомило, что, выговоря его, человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует, когда, если б люди понимали его важность, никто не мог бы вымолвить его без душевного почтения. Подумай, что такое должность. Это тот священный обет, которым обязаны мы всем тем, с кем живем и от кого зависим. Если б так должность исполняли, как об ней твердят, всякое состояние людей оставалось бы при своем любочестии и было б совершенно счастливо. Дворянин, например, считал бы за первое бесчестие не делать ничего, когда есть ему столько дела: есть люди, которым помогать; есть отечество, которому служить. Тогда не было б таких дворян, которых благородство, можно сказать, погребено с их предками. Дворянин, недостойный быть дворянином! Подлее его ничего на свете не знаю. Софья. Возможно ль так себя унизить? Стародум. Друг мой! Что сказал я о дворянине, распространим теперь вообще на человека.
У каждого свои должности. Посмотрим, как они исполняются, каковы, например, большею частию мужья нынешнего света, не забудем, каковы и жены. О мой сердечный друг! Теперь мне все твое внимание потребно. Возьмем в пример несчастный дом, каковых множество, где жена не имеет никакой сердечной дружбы к мужу, ни он к жене доверенности; где каждый с своей стороны своротили с пути добродетели. Вместо искреннего и снисходительного друга, жена видит в муже своем грубого и развращенного тирана. С другой стороны, вместо кротости, чистосердечия, свойств жены добродетельной, муж видит в душе своей жены одну своенравную наглость, а наглость в женщине есть вывеска порочного поведения. Оба стали друг другу в несносную тягость. Оба ни во что уже ставят доброе имя, потому что у обоих оно потеряно. Можно ль быть ужаснее их состояния? Дом брошен. Люди забывают долг повиновения, видя в самом господине своем раба гнусных страстей его. Имение растощается: оно сделалось ничье, когда хозяин его сам не свой. Дети, несчастные их дети, при жизни отца и матери уже осиротели.
Отец, не имея почтения к жене своей, едва смеет их обнять, едва смеет отдаться нежнейшим чувствованиям человеческого сердца. Невинные младенцы лишены также и горячности матери. Она, недостойная иметь детей, уклоняется их ласки, видя в них или причины беспокойств своих, или упрек своего развращения. И какого воспитания ожидать детям от матери, потерявшей добродетель? Как ей учить их благонравию, которого в ней нет? В минуты, когда мысль их обращается на их состояние, какому аду должно быть в душах и мужа и жены! Софья. Ах, как я ужасаюсь этого примера! Стародум. И не дивлюся: он должен привести в трепет добродетельную душу. Я еще той веры, что человек не может быть и развращен столько, чтоб мог спокойно смотреть на то, что видим. Софья. Боже мой! Отчего такие страшные несчастии!.. Стародум. Оттого, мой друг, что при нынешних супружествах редко с сердцем советуют. Дело в том, знатен ли, богат ли жених? Хороша ли, богата ли невеста? О благонравии вопросу нет. Никому и в голову не входит, что в глазах мыслящих людей честный человек без большого чина – презнатная особа; что добродетель все заменяет, а добродетели ничто заменить не может.
Признаюсь тебе, что сердце мое тогда только будет спокойно, когда увижу тебя за мужем, достойным твоего сердца, когда взаимная любовь ваша… Софья. Да как достойного мужа не любить дружески? Стародум. Так. Только, пожалуй, не имей ты к мужу своему любви, которая на дружбу походила б. Имей к нему дружбу, которая на любовь бы походила. Это будет гораздо прочнее. Тогда после двадцати лет женитьбы найдете в сердцах ваших прежнюю друг к другу привязанность. Муж благоразумный! Жена добродетельная! Что почтеннее быть может! Надобно, мой друг, чтоб муж твой повиновался рассудку, а ты мужу, и будете оба совершенно благополучны. Софья. Все, что вы ни говорите, трогает сердце мое… Стародум (c нежнейшею горячностию). И мое восхищается, видя твою чувствительность. От тебя зависит твое счастье. Бог дал тебе все приятности твоего пола. Вижу в тебе сердце честного человека. Ты, мой сердечный друг, ты соединяешь в себе обоих полов совершенства. Ласкаюсь, что горячность моя меня не обманывает, что добродетель… Софья.
Ты ею наполнил все мои чувства. (Бросаясь целовать его руки.) Где она?.. Стародум (целуя сам ее руки). Она в твоей душе. Благодарю Бога, что в самой тебе нахожу твердое основание твоего счастия. Оно не будет зависеть ни от знатности, ни от богатства. Все это прийти к тебе может; однако для тебя есть счастье всего этого больше. Это то, чтоб чувствовать себя достойною всех благ, которыми ты можешь наслаждаться… Софья. Дядюшка! Истинное мое счастье то, что ты у меня есть. Я знаю цену… Явление III Те же и камердинер. Камердинер подает письмо Стародуму. Стародум. Откуда? Камердинер. Из Москвы, с нарочным. (Отходит.) Стародум (распечатав и смотря на подпись). Граф Честан. А! (Начиная читать, показывает вид, что глаза разобрать не могут.) Софьюшка! Очки мои на столе, в книге. Софья (отходя). Тотчас, дядюшка. Явление IV Стародум. Стародум (один). Он, конечно, пишет ко мне о том же, о чем в Москве сделал предложение. Я не знаю Милона; но когда дядя его мой истинный друг, когда вся публика считает его честным и достойным человеком… Если свободно ее сердце… Явление V Стародум и Софья.
Софья (подавая очки). Нашла, дядюшка. Стародум (читает). «…Я теперь только узнал… ведет в Москву свою команду… Он с вами должен встретиться… Сердечно буду рад, если он увидится с вами… Возьмите труд узнать образ мыслей его». (В сторону.) Конечно. Без того ее не выдам… «Вы найдете… Ваш истинный друг…» Хорошо. Это письмо до тебя принадлежит. Я сказывал тебе, что молодой человек, похвальных свойств, представлен… Слова мои тебя смущают, друг мой сердечный. Я это и давеча приметил и теперь вижу. Доверенность твоя ко мне… Софья. Могу ли я иметь на сердце что-нибудь от вас скрытое? Нет, дядюшка. Я чистосердечно скажу вам… Явление VI Те же, Правдин и Милон. Правдин. Позвольте представить вам господина Милона, моего истинного друга. Стародум (в сторону). Милон! Милон. Я почту за истинное счастие, если удостоюсь вашего доброго мнения, ваших ко мне милостей… Стародум. Граф Честан не свойственник ли ваш? Милон. Он мне дядя. Стародум. Мне очень приятно быть знакому с человеком ваших качеств. Дядя ваш мне о вас говорил.
Он отдает вам всю справедливость. Особливые достоинствы… Милон. Это его ко мне милость. В мои леты и в моем положении было бы непростительное высокомерие считать все то заслуженным, чем молодого человека ободряют достойные люди. Правдин. Я наперед уверен, что друг мой приобретет вашу благосклонность, если вы его узнаете короче. Он бывал часто в доме покойной сестрицы вашей… Стародум оглядывается на Софью. Софья (тихо Стародуму и в большой робости). И матушка любила его, как сына. Стародум (Софье). Мне это очень приятно. (Милону.) Я слышал, что вы были в армии. Неустрашимость ваша… Милон. Я делал мою должность. Ни леты мои, ни чин, ни положение еще не позволили мне показать прямой неустрашимости, буде есть во мне она. Стародум. Как! Будучи в сражениях и подвергая жизнь свою… Милон. Я подвергал ее, как прочие. Тут храбрость была такое качество сердца, какое солдату велит иметь начальник, а офицеру честь. Признаюсь вам искренно, что показать прямой неустрашимости не имел я еще никакого случая, испытать же себя сердечно желаю.
Стародум. Я крайне любопытен знать, в чем же полагаете вы прямую неустрашимость? Милон. Если позволите мне сказать мысль мою, я полагаю истинную неустрашимость в душе, а не в сердце. У кого она в душе, у того, без всякого сомнения, и храброе сердце. В нашем военном ремесле храбр должен быть воин, неустрашим военачальник. Он с холодною кровью усматривает все степени опасности, принимает нужные меры, славу свою предпочитает жизни; но что всего более – он для пользы и славы отечества не устрашается забыть свою собственную славу. Неустрашимость его состоит, следственно, не в том, чтоб презирать жизнь свою. Он ее никогда и не отваживает. Он умеет ею жертвовать. Стародум. Справедливо. Вы прямую неустрашимость полагаете в военачальнике. Свойственна ли же она и другим состояниям? Милон. Она добродетель; следственно, нет состояния, которое ею не могло бы отличиться. Мне кажется, храбрость сердца доказывается в час сражения, а неустрашимость души во всех испытаниях, во всех положениях жизни. И какая разница между бесстрашием солдата, который на приступе отваживает жизнь свою наряду с прочими, и между неустрашимостью человека государственного, который говорит правду государю, отваживаясь его прогневать.
Судья, который, не убояся ни мщения, ни угроз сильного, отдал справедливость беспомощному, в моих глазах герой. Как мала душа того, кто за безделицу вызовет на дуэль, перед тем, кто вступится за отсутствующего, которого честь при нем клеветники терзают! Я понимаю неустрашимость так… Стародум. Как понимать должно тому, у кого она в душе. Обойми меня, друг мой! Извини мое простосердечие. Я друг честных людей. Это чувство вкоренено в мое воспитание. В твоем вижу и почитаю добродетель, украшенную рассудком просвещенным. Милон. Душа благородная!.. Нет… не могу скрывать более моего сердечного чувства… Нет. Добродетель твоя извлекает силою своею все таинство души моей. Если мое сердце добродетельно, если стоит оно быть счастливо, от тебя зависит сделать его счастье. Я полагаю его в том, чтоб иметь женою любезную племянницу вашу. Взаимная наша склонность… Стародум (к Софье, с радостью). Как! Сердце твое умело отличить того, кого я сам предлагал тебе? Вот мой тебе жених…
Старейшая добродетель в мире по Judith Martin | Статьи
Всякий раз, когда возникает состязание между этикетом и общепризнанными добродетелями, этикет проигрывает. Вряд ли кто-то станет оспаривать положение о том, что мораль важнее простых манер, а утверждение о том, что от этикета можно и нужно отказаться ради высшего блага, обычно делается и принимается в повседневной жизни.
Вряд ли кто-то станет оспаривать положение о том, что мораль важнее простых манер, а утверждение о том, что от этикета можно и нужно отказаться ради высшего блага, обычно делается и принимается в повседневной жизни.
«Я беспокоюсь о здоровье людей» — типичное объяснение, предлагаемое кем-то, кто увещевает других, иногда даже незнакомцев в ресторанах, что то, что они едят, вредно для них. Моральная добродетель преданности благополучию других якобы стирает правило этикета, запрещающее заниматься чужими делами.
«Вы хотите, чтобы я был честен, не так ли?» стал стандартным ответом любого, кто ругает друзей за то, что они ужасно выглядят, демонстрируют дурной вкус, устраивают скучные вечеринки или фальшиво поют. Хотя эти заявления запрещены этикетом, который классифицирует их как оскорбления, они якобы допустимы, когда переквалифицированы в морально добродетельные правдивые сообщения.
«Это важнее», — заявит активист, когда его призывают защищать ругань прохожих за то, что они носят меховые или кожаные пальто, или ругать кофеманов за использование пенопластовых чашек. Моральная ценность его дела в интересах животных или окружающей среды рассматривается как превалирующая над запретом этикета против унижения людей.
Моральная ценность его дела в интересах животных или окружающей среды рассматривается как превалирующая над запретом этикета против унижения людей.
Поскольку выражение своих чувств стало считаться добродетелью (под такими названиями, как напористость или самоуважение, которые предполагают похвальную силу характера), просто поддаться желанию сказать или сделать что-то можно считать добродетелью причина отмены требований этикета. Обычным оправданием для игнорирования правила этикета против любопытства является простое признание любопытства. В тех редких случаях в наши дни, когда кто-то, задающий личные вопросы, облагается налогом на вторжение в частную жизнь, правонарушитель указывает, что он просто «интересуется» или «интересуется», сколько другой заплатил за его дом, почему он пользуется инвалидной коляской или он планирует развестись. Оправданием практически любого некультурного поведения детей, в том числе раздражающего других людей и порчи их имущества, является их проявление не только самовыражения, но и творческого духа.
Даже бездействию можно придать моральный аспект, оправдывающий игнорирование требований этикета. Такие упущения, как непосещение умирающих или присутствие на похоронах, а также не отправка благодарственных писем в обмен на гостеприимство, услуги или подарки, когда-то воспринимались как свидетельство грубости, предположительно вызванной эгоизмом или ленью. Теперь пояснения («Я хочу помнить его таким, каким он был»; «Похороны вызывают у меня мурашки по коже»; «Я ненавижу писать письма»; «Люди должны делать что-то просто потому, что хотят, а не потому, что ждут благодарности») подразумевают, что есть добродетель в акте отказа позволить ожиданиям этикета возобладать над личными неприязнями. Действительно, эти объяснения подразумевают, что любой, кто ожидает, что это отвращение к обязанностям этикета будет преодолено, проявляет недостаток сострадания и уважения.
По странному стечению обстоятельств принуждение к вежливому поведению стало считаться добродетелью, избавляющей любого, кто этим занимается, от необходимости быть вежливым.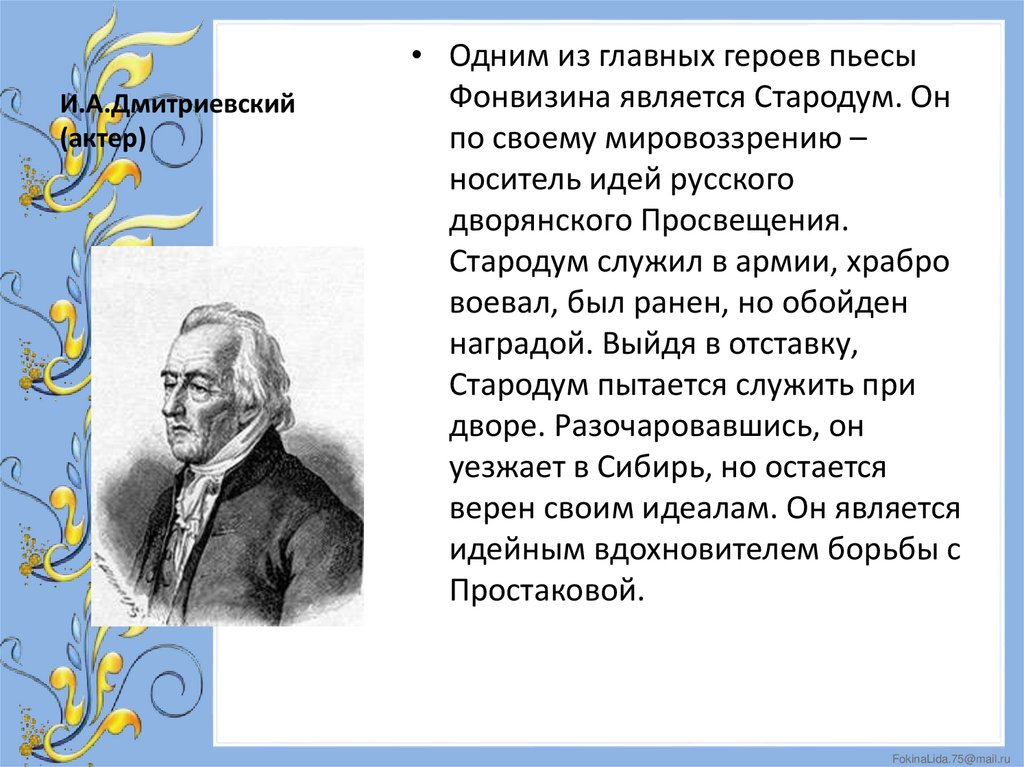 Новый набор этикетных линчевателей, которые замечают такие нарушения этикета, как курение в присутствии некурящих без их разрешения или отказ проявлять дорожные знаки внимания другим водителям, с гордостью сообщают о том, что использовали непристойности и угрозы, чтобы заставить нарушителей «следить за своими манерами».
Новый набор этикетных линчевателей, которые замечают такие нарушения этикета, как курение в присутствии некурящих без их разрешения или отказ проявлять дорожные знаки внимания другим водителям, с гордостью сообщают о том, что использовали непристойности и угрозы, чтобы заставить нарушителей «следить за своими манерами».
Даже среди тех, кто утверждает, что ценит хорошие манеры (что часто оказывается означающим, что они не любят, когда с ними обращаются грубо, не обязательно желая вести себя вежливо), широко распространено мнение, что упадок этикета — это проблема, с которой нужно бороться. только после того, как будет решен комплекс более серьезных социальных проблем.
Но что, если упадок этикета является одной из самых серьезных социальных проблем, из которой другие серьезные социальные проблемы вытекают лишь как эпифеномены?
На протяжении большей части записанной истории богословы и философы превозносили благопристойность и правильное социальное поведение как добродетели, родственные морали.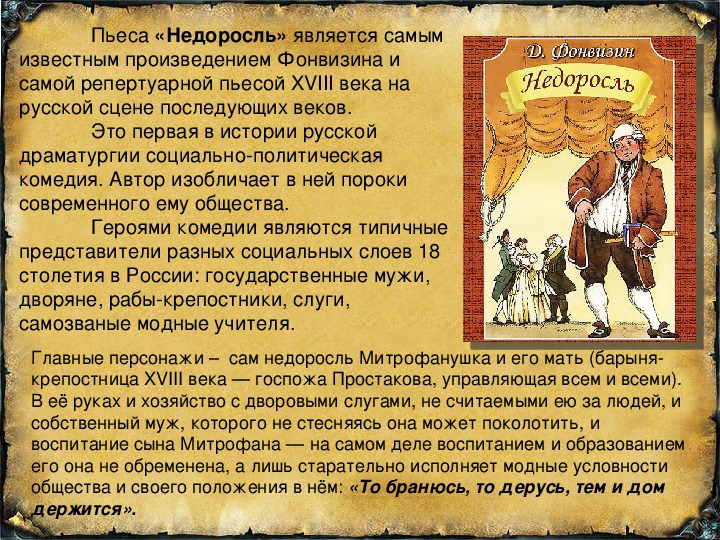 В основном в этом столетии они стали рассматривать этикет в лучшем случае как ненужную излишество; в худшем случае они объявили это грехом. Лицемерие — это осуждающий ярлык, который теперь прикрепляется к любому вежливому запрету, который скрывает искреннее мнение или сдерживает праведный порыв к действию.
В основном в этом столетии они стали рассматривать этикет в лучшем случае как ненужную излишество; в худшем случае они объявили это грехом. Лицемерие — это осуждающий ярлык, который теперь прикрепляется к любому вежливому запрету, который скрывает искреннее мнение или сдерживает праведный порыв к действию.
Но я бы сказал, что соблюдение этикета далеко не слабая и необязательная добродетель и уж тем более не грех, а древнейшая социальная добродетель и незаменимый партнер нравственности. Этикет не является венцом хорошего поведения в высших слоях стратифицированного общества, а является первой необходимостью цивилизации.
С незапамятных времен этикет использовался для установления принципов социальной добродетели, а также правил, символов и ритуалов цивилизованной жизни. Исторически он предшествовал изобретению закона как ограничения индивидуального поведения для общего блага, что, несомненно, сделало этикет старейшим средством сдерживания насилия после страха возмездия.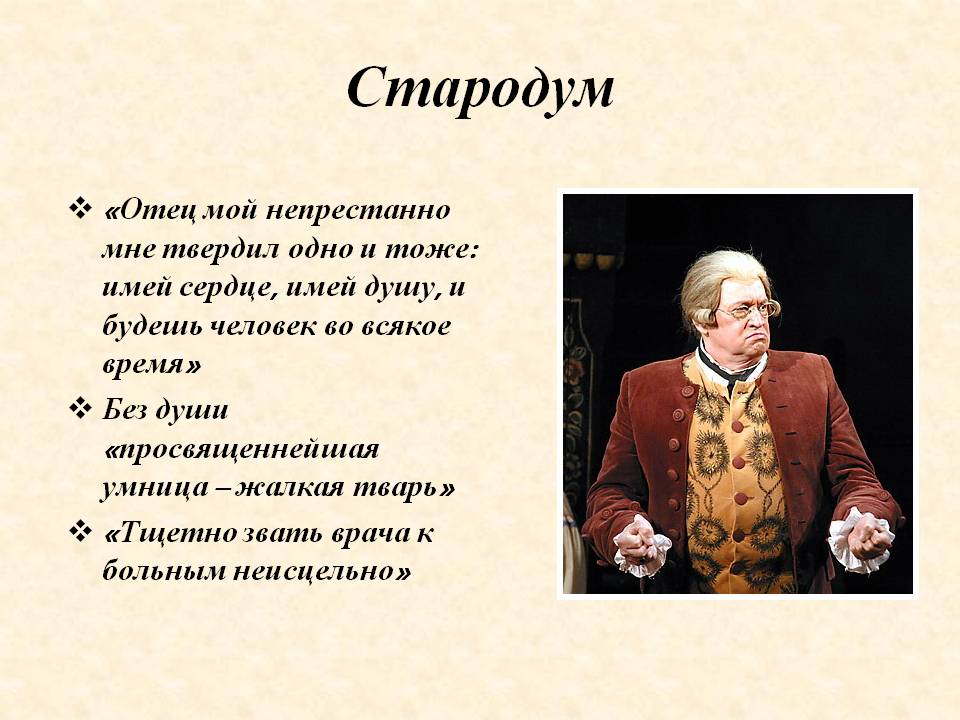 В развитии она еще предшествует обучению нравственным понятиям в социализации детей.
В развитии она еще предшествует обучению нравственным понятиям в социализации детей.
Свидетельства доисторической практики этикета, такие как совместное питание и церемониальное захоронение мертвых, служили для определения цивилизации в ее самых ранних проявлениях. Тем не менее, существует широко распространенное мнение, что этикет возник из желания викторианских бездельников испортить личные удовольствия, подавить свободы, достигнутые в эпоху Просвещения, и усилить власть богатых снобов над пролетариатом.
Это представление игнорирует неопровержимые доказательства того, что этикет существует в первобытных обществах в той же степени — и часто в более жестких формах, чем — в индустриальных обществах. Современные романтики склонны пренебрегать этикетными традициями своей собственной современной культуры, в то же время сентиментально относясь к аналогичным обычаям в тех культурах, которые они считают более аутентичными. Но в современном американском обществе обряды этикета среди молодежи и бедняков гораздо более изощренны (например, в отношении дресс-кода, системы старшинства, жестов приветствия и способов обращения в городских уличных бандах), чем среди богатых, которые все чаще отказывались от тех аспектов этикета, которые имеют жизненно важное значение на улицах.
Нравы и манеры не противоречат друг другу, а дополняют друг друга, а иногда и перекрывают друг друга части ансамбля фундаментальных убеждений и потребностей, которых мы придерживаемся просто потому, что мы рациональные агенты, наделенные практическим разумом. Моральные убеждения включают такие понятия, как долг, обязанность, ответственность и святость личности, а манеры включают такие убеждения и потребности, как общественная гармония, культурная согласованность и достоинство человека. Этика и этикет относятся к наборам императивов, управляющих социальным поведением, которые получают свой авторитет как рациональные предписывающие системы из морали и манер соответственно.
Следовательно, совершение убийства, нарушающего святость человека, безнравственно, а причинение унижения, нарушающего достоинство человека, — невоспитанно. Но такие добродетели, как сострадание, уважение и терпимость, являются общими для морали и нравов и, следовательно, составляют основу императивов этики, а также этикета.
Во многих повседневных ситуациях, когда возникают конфликты между этикой и этикетом, отдать предпочтение этикету может быть более добродетельным выбором. Вероятность достижения высшего блага, т. е. эвдемонии, грубым выражением заботы о здоровье других, высказыванием нелестной критики и принуждением к конфронтационному рассмотрению моральных вопросов невелика (а в некоторых случаях, например, когда -ключ, ноль). Однако почти наверняка эти морально праведные нарушения этикета вызовут смущение и обиду — зло, которое манеры стремятся предотвратить. Является ли лицемерие таким гнусным грехом, что избегание малейшего его количества стоит того, чтобы пожертвовать чувствами людей, ошибочно полагавших, что они ублажают других?
Конфликты могут возникать не только между этикой и этикетом, но и внутри самого этикета, когда к данной обстановке могут применяться противоречивые правила. Одно и то же действие может показаться либо необходимым, либо запрещенным, в зависимости от относительного внимания, уделяемого агентом различным аспектам ситуации. В этом случае требуется сложное суждение — мудрость — для того, чтобы выбрать образ действий, который лучше всего служит целям хороших манер.
В этом случае требуется сложное суждение — мудрость — для того, чтобы выбрать образ действий, который лучше всего служит целям хороших манер.
Должны ли пациенты проявлять уважение к своему врачу, обращаясь к нему по имени и фамилии, если врач обращается к ним по имени? Делает ли врач это потому, что ему не хватает уважения к своим пациентам, или потому, что он считает, что манеры личной дружбы успокаивают пациентов? Предположим, что такая практика скорее оскорбляет пациентов, чем успокаивает их. Должны ли они проигнорировать это, чтобы избавить врача от смущения, или исправить это на том основании, что они обязаны этим либо своему собственному достоинству, либо врачу, чтобы дать ему понять, что он производит эффект, противоположный тому, которого он, возможно, намеревался достичь. ?
Есть ли у начальника, который называет работниц «милая», доказательства злого умысла, и в этом случае он должен быть должным образом наказан, или он доброжелателен, но не знает социальных условностей? Через какое время после изменения обычаев такое невежество простительно?
Несмотря на то, что взвешивание и интерпретация своих и чужих действий в интересах вежливости требует вдумчивости, правила этикета не всегда могут быть выведены из первых принципов. Люди, которые верят, что этикет — это просто следование здравому смыслу в применении предписания манер быть внимательным к другим, не понимают, что этикет выполняет не только регулятивную, но также символическую и ритуальную функции.
Люди, которые верят, что этикет — это просто следование здравому смыслу в применении предписания манер быть внимательным к другим, не понимают, что этикет выполняет не только регулятивную, но также символическую и ритуальную функции.
Регулирующий этикет — наиболее понятная из трех функций, потому что она напоминает закон. И закон, и этикет устанавливают правила для поощрения общественной гармонии в соответствии с принципами морали и манер соответственно. Закон касается наиболее серьезных конфликтов, в том числе угрожающих жизни, здоровью и имуществу, и предусматривает такие жестокие санкции, как штрафы, тюремное заключение и смерть за нарушение его правил. Имея в своем распоряжении только санкцию стыда, этикет разрешает конфликты, для которых обычно достижимо добровольное согласие, и, таким образом, служит предотвращению антагонизма, который может перерасти в нарушение закона. В этом отношении этикет напоминает международное право, которое стремится предотвратить войну, но имеет только санкцию стыда, с помощью которой навязывает свои правила суверенным государствам.
Поскольку и правила, и законы этикета созданы для определенного времени и социальной среды, они могут развиваться и изменяться, хотя и медленно из-за своей инерции, обусловленной традицией. Однако принципы нравов и морали, из которых они черпают свой авторитет, остаются постоянными и универсальными. Даже прямо противоположные правила этикета, господствующие в разных обществах в одно и то же время или в разное время в одном и том же обществе, могут основываться на одном и том же принципе манер.
Не снять обувь по прибытии на званый обед в Японии будет означать неуважение к хозяевам, в то время как посадка гостей спиной к самой декоративной части комнаты считается уважением к ним, когда эти предметы служат как их фон. Но снять обувь по прибытии на американский званый обед было бы проявлением неуважения, в то время как американский хозяин, который просит гостей снять обувь, чтобы сохранить чистоту ковра, проявляет неуважение к гостям, проявляя больше чести к его имущество, чем им.
Вежливое обращение с женщинами когда-то требовало, чтобы мужчины предоставляли им преимущество и предлагали им помощь, в том числе символическую помощь в задачах, которые, как знали даже мужчины, женщины могли выполнять без посторонней помощи. Вежливость теперь запрещает мужчинам предлагать женщинам особое преимущество или помощь в рабочем мире, где привлечение внимания к их полу и предположение, что это требует защиты, ставит женщин в невыгодное положение с профессиональной точки зрения. В частной сфере по-прежнему преобладают старомодные гендерные знаки внимания, хотя они все больше выходят из употребления. Вполне вероятно, что приоритет и помощь вскоре станут основываться исключительно на возрасте и потребностях, система, которая создает новые опасности, требуя, чтобы люди угадывали эти качества в других, которые вполне могут обидеться на то, что их классифицируют, точно или нет, как старых. или беспомощный.
(Означает ли это изменение в обычаях, что этикет разрешает женщине, которой мужчина предлагает место, или слабому мужчине, которому крепкий юноша предлагает место, выпалить: «Я могу стоять так же хорошо, как и вы» ?Нет, потому что запрет порицать автора явно благонамеренного жеста является непреложным принципом манер. )
)
Потому что этикет является одновременно добровольным и гибким и, таким образом, способен предотвратить или урегулировать множество мелких споров, которые в противном случае должны регулироваться законом, часто после того, как впервые вспыхнуло насилие, сложное общество не может функционировать должным образом без использования как этикета, так и, если добровольное соблюдение не удается, закона. Это было продемонстрировано в последние годы, когда снижение веры в этикет как законную силу, регулирующую социальное поведение, побудило американское общество попытаться обойтись без него.
Многие американцы пришли к убеждению и претворили в жизнь идею о том, что любое поведение, не запрещенное законом, должно быть терпимым. В результате люди, которые считали грубое, но разрешенное законом поведение невыносимым, пытались расширить закон, запретив грубость. Для этого они обострили последствия хамства, доведя его до категорий, которым уже уделялось серьезное внимание в законе. Таким образом, любое оскорбление становилось клеветой или клеветой, подлость превращалась в жестокость ума, а неприятности от табачного дыма или шума становились опасными для здоровья.
Эта попытка переопределить нарушения нравов как нарушения морали представляет угрозу свободам, гарантированным Конституцией. Свобода самовыражения, как мы ее понимаем, ставится под угрозу, когда простое оскорбительное поведение объявляется вне закона. И все же сама практика демократического государства, включая такие государственные дела, как законодательные заседания и судебные разбирательства, не может осуществляться эффективно, если нет ограничений прав людей на их срыв. Вот почему не существует неограниченной свободы слова даже на заседаниях законодательных органов или судебных заседаниях, где обсуждается сама свобода слова. Если бы всем было позволено говорить одновременно или если бы были разрешены такие провокационные тактики, как непристойности, личные оскорбления и демонстрация неуважения к авторитету, сама цель дебатов была бы разрушена.
Наши образовательные учреждения столкнулись с трудностями из-за парадокса свободы слова и этикета. Это может быть решено только после того, как будет признано, что учреждение может настаивать на соблюдении этикета для выполнения своей миссии без этих ограничений свободы выражения мнений в определенное время и в определенных местах, обязательно представляющих собой ущемление права, гарантированного законом. Это может позволить людям атаковать идеи, не позволяя им атаковать друг друга, и свободно защищать обсуждение оскорбительных тем, не позволяя использовать оскорбительные высказывания.
Это может позволить людям атаковать идеи, не позволяя им атаковать друг друга, и свободно защищать обсуждение оскорбительных тем, не позволяя использовать оскорбительные высказывания.
В менее понятной символической функции этикета его правила редко выводятся из первых принципов. Необразованные люди, которые задают такие вопросы, как «Почему я должен носить галстук, если он бесполезен?» не в состоянии понять богатый словарный запас символов, предоставляемый этикетом, который позволяет людям распознавать существенные атрибуты или намерения других, например, что мужчина в галстуке серьезно относится к этому событию. Поскольку отношения между символами и вещами, которые они обозначают, произвольны, символический этикет является мощным средством коммуникации. Даже те, кто требует в своей одежде свободы от символики, не стали бы нанимать в суд адвоката защиты в пижаме (которая выполняла бы практическую функцию покрывания тела так же, как и костюм) или подвергать операции нейрохирурга, носившего одежду. толстовка с Дракулой в его кабинете.
толстовка с Дракулой в его кабинете.
В своей ритуальной функции этикет служит священному, как средство удовлетворения тех наших духовных потребностей, которые делают нас отчетливо человечными. Он предусматривает церемонии и традиции, которые служат для того, чтобы связать общество и сделать такие хаотично-эмоциональные события, как свадьбы и похороны, торжественными и упорядоченными. Сильное влияние, которое такие обряды оказывают на людей, подтверждается их продолжением, даже когда их священная цель явно отрицается или ниспровергается.
На современных похоронах какой-нибудь оратор обычно объявляет: «Мы здесь не для того, чтобы оплакивать [умершего], а для того, чтобы праздновать его жизнь». Тем не менее, последующие обряды представляют собой разновидность традиционных похорон, с хвалебными речами, которые часто произносят миряне — друзья или родственники, — а не члены духовенства, по той простой причине, что эти чиновники больше не склонны знакомиться с народом. кого они призваны хоронить.
Свадебные обряды, изначально предназначенные для молодых женщин, переходящих от защиты отца к защите мужа, остались на удивление неизменными, даже если невеста может обеспечивать себя самостоятельно, необходимо найти замену отсутствующему отцу и она может быть окружена ее дети, а не ее подруги. И все же цель церемонии, заключающаяся в том, чтобы сделать союз пары частью более широких обязательств, связанных с семьей и обществом, часто игнорируется, о чем свидетельствует типичное оправдание молодоженов за невнимание к желаниям и комфорту родственников. и другие гости: «Ну, это наша свадьба, так что мы можем делать все, что хотим».
Отношение к тому, что желания других не имеют значения, — это именно то, чему должны противостоять манеры. И никто еще не придумал удовлетворительной замены обучению семейному этикету в самые ранние годы жизни, чтобы способствовать развитию у ребенка таких принципов манер, как внимание, сотрудничество, лояльность, уважение, и научить ребенка таким приемам этикета. как урегулирование споров путем компромисса, спасающего лицо. В семье необходимы (хотя и не всегда очевидные) нравы, связанные с ответственностью и состраданием, а не с индивидуальностью и строгой справедливостью: забота о беспомощных, уважение к старшим и авторитету, распределение ресурсов на основе потребность, сопереживание чувствам других, приспособление к различиям.
как урегулирование споров путем компромисса, спасающего лицо. В семье необходимы (хотя и не всегда очевидные) нравы, связанные с ответственностью и состраданием, а не с индивидуальностью и строгой справедливостью: забота о беспомощных, уважение к старшим и авторитету, распределение ресурсов на основе потребность, сопереживание чувствам других, приспособление к различиям.
С самых первых недель жизни, когда младенца учат контролировать голод, чтобы удовлетворить потребности родителей во сне и вписаться в социальный образ жизни, при котором люди не едят ночью; в младенчестве, когда навыки этикета включают в себя изучение традиционных приветствий, таких как утренние поцелуи и махание рукой на прощание; Для обучения малышей таким понятиям, как делиться игрушками с гостем, воздерживаться от ударов и выражать благодарность за подарки, манеры используются для создания основы для других добродетелей.
Школы не в состоянии научить этим принципам, как бы отважно они ни старались, потому что вежливое отношение и навыки этикета являются предпосылками для изучения чего бы то ни было в школе. В результате все более широкого отказа от обучения домашнему этикету школы все чаще заходят в тупик из-за проблем, которые они определяют как отсутствие дисциплины и приверженности нравственному поведению, но которые обычно означают неспособность детей осознать, что общие цели могут перевешивать индивидуальные желания, и их незнание того, что является и что не является приемлемым поведением в классе.
В результате все более широкого отказа от обучения домашнему этикету школы все чаще заходят в тупик из-за проблем, которые они определяют как отсутствие дисциплины и приверженности нравственному поведению, но которые обычно означают неспособность детей осознать, что общие цели могут перевешивать индивидуальные желания, и их незнание того, что является и что не является приемлемым поведением в классе.
Клиническая психология и закон попытались компенсировать упадок обучения детей этикету в домашних условиях. Но они сталкиваются с почти безнадежной задачей, поскольку язык психического здоровья и юридических прав затемняет дискурс, предполагая мир, в котором поведение людей регулируется только правилами закона и медицины. Общество может надеяться на добродетельное функционирование только тогда, когда оно также признает законность нравов.
Джудит Мартин, также известная как «Мисс Маннерс», является общенациональным обозревателем и автором Руководство мисс Маннерс на рубеже тысячелетий. Предыдущая версия этого эссе была представлена на конференции, спонсируемой нью-йоркским Институтом американских ценностей. Copyright 1993, Джудит Мартин.
Предыдущая версия этого эссе была представлена на конференции, спонсируемой нью-йоркским Институтом американских ценностей. Copyright 1993, Джудит Мартин.
Социальная ценность нравов
В первобытных обществах религия, мораль, закон, обычаи, нравы существуют как недифференцированное целое. Мы не можем с уверенностью сказать, что было раньше. Они собрались вместе. Только в сравнительно новое время они стали ясно отличаться друг от друга; и по мере того, как они это делали, они развили разные традиции.
Нигде это различие в традициях не является более разительным, чем между религиозной этикой и нравами. Слишком часто моральные кодексы, особенно те, которые все еще в значительной степени связаны с религиозными корнями, аскетичны и мрачны. Кодексы манер, с другой стороны, обычно требуют, чтобы мы были, по крайней мере, внешне жизнерадостными, приятными, любезными, компанейскими — короче говоря, заразительным источником радости для других.
До сих пор, в некоторых отношениях, разрыв между двумя традициями увеличился, что частой темой пьес и романов в восемнадцатом и девятнадцатом веках и даже сегодня является контраст между необработанным алмазом, грубым пролетарием или крестьянином с непреклонным честностью и золотым сердцем, и учтивой, изысканной леди или джентльменом с прекрасными манерами, но совершенно аморальными и с ледяным сердцем.
Нравы и манеры: один и тот же принцип
Чрезмерный акцент на этом контрасте оказался неудачным. Это помешало большинству писателей по этике признать, что и манеры, и мораль основываются на одном и том же основополагающем принципе. Этот принцип — сочувствие, доброта, внимание к другим.
Манеры относятся к нравственности так же, как окончательная обработка наждачной бумагой, шлифовка и полировка прекрасного предмета мебели относятся к выбору дерева, распиловке, долблению и подгонке. Верно, что частью любого кодекса манер является просто условно и произвольно, как знание того, какую вилку использовать для салата, но сердце любого кодекса манер лежит гораздо глубже. Манеры развивались не для того, чтобы сделать жизнь более сложной и неловкой (хотя тщательно продуманные церемониальные манеры делают это), а для того, чтобы сделать ее в конечном счете более гладкой и простой — танец, а не череда ударов и толчков. Степень, в которой он это делает, является проверкой любого кодекса манер.
Манеры — это второстепенная мораль. Манеры относятся к нравственности так же, как окончательная обработка наждачной бумагой, шлифовка и полировка прекрасного предмета мебели относятся к выбору дерева, распиловке, долблению и подгонке. Они являются завершающим штрихом.
Эмерсон — один из немногих современных писателей, которые ясно признали этическую основу манер. «Хорошие манеры, — писал он, — состоят из мелких жертв».
Давайте проследим этот аспект манер немного дальше. Манеры, как мы видели, состоят в уважении к другим. Они состоят в уступке другим. Человек пытается обращаться с другими с неизменной вежливостью. Человек постоянно пытается щадить чувства других.
Невоспитанно монополизировать разговор, слишком много говорить о себе, хвастаться, потому что все это раздражает окружающих. Быть скромным или, по крайней мере, казаться скромным — это хорошие манеры, потому что это нравится другим. Это хорошие манеры, когда сильный уступает слабому, здоровый больному, молодой старому.
Кодексы манер фактически установили сложный, неписаный, но хорошо понятный порядок старшинства, который служит в сфере вежливости, подобно правилам дорожного движения, которые мы рассмотрели в предыдущей главе.
Этот порядок старшинства на самом деле представляет собой набор «правил дорожного движения», символизируемых решением о том, кто первым проходит через дверной проем. Джентльмен уступает леди; младший уступает старшему; здоровые уступают место больным или калекам; хозяин уступает гостю. Иногда эти категории смешиваются или преобладают другие соображения, и тогда правило становится неясным. Но неписаный свод правил, установленных хорошими манерами, в конечном счете экономит время, а не тратит его, и стремится убрать из жизни мелкие потрясения и раздражения.
Верность этому, скорее всего, будет признана всякий раз, когда манеры ухудшатся. «Мое поколение радикалов и сорвиголов, — писал Скотт Фицджеральд своей дочери, — так и не нашло ничего, что могло бы заменить прежние добродетели трудолюбия и мужества, а также прежние качества учтивости и вежливости».
Дело для церемонии
Церемония может быть чрезмерно сложной и, следовательно, трудоемкой, утомительной и скучной, но без какой-либо церемонии жизнь была бы бесплодной, безобразной и жестокой. , и скучно, но без всяких церемоний жизнь была бы бесплодной, некрасивой и звериной. Нигде эта истина не признается более ясно, чем в моральном кодексе Конфуция: «Никто ни на мгновение не должен пренебрегать церемониями и музыкой. . . . Поучительная и преображающая сила церемоний тонка. Они сдерживают порочность еще до того, как она примет форму, заставляя людей ежедневно двигаться к добру и удерживать себя от дурных поступков, не сознавая этого. . . . Церемонии и музыка по своей природе подобны Небу и Земле, проникают в силы духовных разумов, низводят духов свыше и возвышают униженные души».
Чтобы признать истину этого, стоит только представить, какой скудной и пустой показалась бы многим жизнь без брачных церемоний, похоронных церемоний, крестин и воскресных церковных служб. В этом великая привлекательность религии для многих, кто весьма прохладно доверяет догмам, на которых якобы основана их религия.
В этом великая привлекательность религии для многих, кто весьма прохладно доверяет догмам, на которых якобы основана их религия.
В этике Конфуция манеры играют главную роль, как и положено. Я не знаю ни одного современного философа, который намеренно стремился построить свою этическую систему на расширении и идеализации традиционного кодекса нравов, но эта попытка, вероятно, оказалась бы поучительной и prima facie менее глупой, чем попытка, основанная на некоторой идеализации аскетизма. и самоуничижение.
Второстепенная этика
Я уже говорил, что манеры — это второстепенная этика. Но в другом смысле они являются высшей этикой, потому что они, по сути, являются этикой повседневной жизни. Каждый день и почти каждый час нашей жизни те из нас, кто не является отшельниками или отшельниками, имеют возможность практиковать малую этику хороших манер, доброты и внимания к другим в мелочах, мелких жертв. Только в великих и редких случаях жизни у большинства из нас есть необходимость или возможность практиковать то, что я могу назвать Героической Этикой.
Правила морали и правила хороших манер могут и должны быть согласованы друг с другом. Тем не менее, большинство этических писателей, кажется, почти исключительно озабочены героической этикой, благородством, великодушием, всеохватывающей любовью, святостью, эгоизмом. -Жертва. И они презирают любые попытки сформулировать или найти правила или даже найти обоснование будничной этики для масс человечества.
Нам нужно больше заботиться о повседневной морали и относительно меньше о кризисной морали. Если бы этические трактаты были больше посвящены повседневной морали, они бы гораздо больше подчеркивали важность хороших манер, вежливости, внимания к другим в мелочах (привычка, которая должна быть перенесена и в более важные вещи). Они будут хвалить повседневное социальное сотрудничество, заключающееся в добросовестном, эффективном и радостном выполнении своей работы.
Однако большинство писателей по этике по-прежнему противопоставляют манеры и мораль, а не считают их взаимодополняющими. В современной художественной литературе нет более часто встречающегося персонажа, чем мужчина или женщина с учтивыми и безупречными манерами и всей внешней видимостью вежливости, но совершенно холодные, расчетливые, эгоистичные и даже иногда дьявольские в душе. Такие персонажи существуют, но они являются исключением, а не правилом. Они встречаются реже, чем их противоположности — честные, честные и даже добросердечные люди, которые часто непреднамеренно грубы или даже грубы и «не задевают людей». Существование обоих классов людей отчасти является результатом существования в отдельных отделениях традиции морали и традиции хорошего воспитания.
В современной художественной литературе нет более часто встречающегося персонажа, чем мужчина или женщина с учтивыми и безупречными манерами и всей внешней видимостью вежливости, но совершенно холодные, расчетливые, эгоистичные и даже иногда дьявольские в душе. Такие персонажи существуют, но они являются исключением, а не правилом. Они встречаются реже, чем их противоположности — честные, честные и даже добросердечные люди, которые часто непреднамеренно грубы или даже грубы и «не задевают людей». Существование обоих классов людей отчасти является результатом существования в отдельных отделениях традиции морали и традиции хорошего воспитания.
Выплата долгов
Моралисты слишком часто склонны относиться к этикету как к чему-то не очень важному или даже не имеющему отношения к морали. Кодекс хорошего воспитания, особенно кодекс «джентльмена», долгое время был главным образом классовым кодексом. Кодекс «джентльмена» применялся в основном к его отношениям с другими джентльменами, а не к «низшим». Например, он уплатил свои «долги чести» — долги по азартным играм, — но не свои долги перед бедными торговцами. Несмотря на особые и далеко не тривиальные обязанности, которые иногда возлагались на обязывающее благородство, кодекс хорошего воспитания в том виде, в каком он существовал в восемнадцатом и девятнадцатом веках, не обязательно исключал иногда жестокий снобизм.
Например, он уплатил свои «долги чести» — долги по азартным играм, — но не свои долги перед бедными торговцами. Несмотря на особые и далеко не тривиальные обязанности, которые иногда возлагались на обязывающее благородство, кодекс хорошего воспитания в том виде, в каком он существовал в восемнадцатом и девятнадцатом веках, не обязательно исключал иногда жестокий снобизм.
Традиция хорошего воспитания делает акцент на том, чтобы щадить чувства других и даже доставлять им удовольствие за счет точной правды. две традиции сливаются воедино, когда кодекс нравов рассматривается как, по сути, расширение кодекса морали.
Иногда предполагается, что два кода диктуют разные действия. Считается, что традиционный этический кодекс учит тому, что всегда следует говорить точную и буквальную правду. Традиция хорошего воспитания, с другой стороны, делает упор на бережное отношение к чувствам других и даже на то, чтобы доставить им удовольствие ценой точной правды.
Покидая званый обед
Типичный пример касается традиции, что вы говорите своему хозяину и хозяйке, покидая званый ужин. Вы поздравляете их, скажем, с прекрасным ужином и добавляете, что не знаете, когда у вас был более приятный вечер. Точная и буквальная истина может заключаться в том, что ужин был посредственным или еще хуже, а вечер был лишь умеренно приятным или откровенно скучным. Тем не менее, если ваши преувеличения и заявления об удовольствии не настолько неуклюжи или чрезмерны, чтобы казаться неискренними или ироничными, избранный вами курс соответствует требованиям морали не менее, чем правилам этикета.
Вы поздравляете их, скажем, с прекрасным ужином и добавляете, что не знаете, когда у вас был более приятный вечер. Точная и буквальная истина может заключаться в том, что ужин был посредственным или еще хуже, а вечер был лишь умеренно приятным или откровенно скучным. Тем не менее, если ваши преувеличения и заявления об удовольствии не настолько неуклюжи или чрезмерны, чтобы казаться неискренними или ироничными, избранный вами курс соответствует требованиям морали не менее, чем правилам этикета.
Бесполезно оскорблять чувства других людей, не говоря уже о возбуждении неприязни к себе самому. Технически, вы, возможно, сказали неправду. Но так как ваши прощальные слова приняты, условны и ожидаемы, то они не ложь. Ваш хозяин и хозяйка, кроме того, не были действительно обмануты; они знают, что ваши похвалы и благодарности соответствуют общепринятому и практически универсальному кодексу, и они, без сомнения, восприняли ваши слова с соответствующей скидкой.
Те же самые соображения применимы ко всем вежливым формам корреспонденции — милостивый государь, ваш-покорный слуга, ваш-искренний и даже, до недавнего времени, ваш покорный слуга. Прошли века с тех пор, как эти формы воспринимались серьезно и буквально. Но их упущение было бы преднамеренной и ненужной грубостью, осуждаемой как кодексами манер, так и моралью.
Прошли века с тех пор, как эти формы воспринимались серьезно и буквально. Но их упущение было бы преднамеренной и ненужной грубостью, осуждаемой как кодексами манер, так и моралью.
Приспособляемость манер
Рациональная мораль также признает, что есть исключения из принципа, согласно которому всегда следует говорить полную, буквальную и точную правду. Следует ли говорить некрасивой девушке, что из-за ее невзрачности она вряд ли найдет себе мужа? Нужно ли сразу же сообщить беременной матери, что ее старший ребенок погиб в результате несчастного случая? Следует ли человеку, который может этого не знать, сказать, что он безнадежно умирает от рака?
Бывают случаи, когда необходимо произнести такие истины; бывают случаи, когда их можно и нужно утаивать или скрывать. Правило говорить правду, исходя только из утилитаристских соображений, по праву считается одним из самых жестких и непреклонных из всех правил морали. Исключения из него должны быть редкими и иметь очень узкое определение. Но почти каждый моралист, кроме Канта, признавал, что такие исключения бывают. Что это такое и как должны быть составлены правила, регулирующие исключения, здесь нет необходимости подробно рассматривать. Нужно только отметить, что правила морали и правила хорошего тона могут и должны быть согласованы друг с другом.
Но почти каждый моралист, кроме Канта, признавал, что такие исключения бывают. Что это такое и как должны быть составлены правила, регулирующие исключения, здесь нет необходимости подробно рассматривать. Нужно только отметить, что правила морали и правила хорошего тона могут и должны быть согласованы друг с другом.
В наше время никто так ясно не осознал важность манер, как Эдмунд Берк:
Манеры важнее законов. От них в значительной мере зависят законы. Закон касается нас, но здесь и там, и время от времени. Нравы — это то, что раздражает или успокаивает, развращает или очищает, возвышает или унижает, варваризирует или очищает нас постоянным, устойчивым, однородным, неощутимым действием, подобным действию воздуха, которым мы дышим. Они придают всю свою форму и окраску нашей жизни. . В соответствии со своим качеством они помогают нравам, подпитывают их или полностью разрушают.
Это глава 11 книги Хэзлитта « Основы морали»
Эта страница в значительной степени зависит от JavaScript.
