Читать онлайн «Красное колесо. Узел 1. Август Четырнадцатого. Книга 1», Александр Солженицын – Литрес
Только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора… К топору зовите Русь.
из письма в «Колокол», 1860
Узел I
Август Четырнадцатого
10–21 августа ст. ст
Книга 1
1
Кавказский Хребет. – Саня Лаженицын едет на станцию. – Своё станичное. – Первые газеты. – Встреча с Варей. – Её зов. – Как они встречались раньше. – Впечатления Вари от первых дней войны. – Её отговоры.Они выехали из станицы прозрачным зорным утром, когда при первом солнце весь Хребет, ярко белый и в синих углубинах, стоял доступно близкий, видный каждым своим изрезом, до того близкий, что человеку непривычному помни́лось бы докатить к нему за два часа.
Высился он такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных. За тысячи лет все люди, сколько жили, – доотказным раствором рук неси сюда и пухлыми грудами складывай всё сработанное ими или даже задуманное, – не поставили бы такого сверхмыслимого Хребта.
От станицы до станции так вела их всё время дорога, что Хребет был прямо перед ними, к нему они ехали, его они видели: снеговые пространства, оголённые скальные выступы да тени угадываемых ущелий. Но от получаса к получасу стал он снизу подтаивать, отделился от земли, уже не стоял, а висел в треть неба и запеленился, не стало в нём рубцов и рёбер, горных признаков, а казался огромными слитными белыми облаками. Потом и облаками уже разорванными на части, уже не отличимыми от истых облаков. Потом и их размыло. Хребет вовсе изник, будто был небесным видением, и впереди, как и со всех сторон, осталось небо сероватое, белесое, набирающее зноя. Так, не меняя направления, они ехали больше пятидесяти вёрст, до полудня и за полдень, – но великанских гор перед ними как не бывало, а подступили близкие округлые горки: Верблюд; Бык; плешивая Змейка; кудрявая Железная.
Они выехали ещё не пыльной дорогой, ещё росной прохладной степью. Они проехали те часы, когда степь звенела, вспархивала, щебетала, потом посвистывала, потрескивала, пошуршивала, – а вот уж к Минеральным Водам, волоча за собой ленивый пыльный взмёт, подъезжали в самый мёртвый послеполуденный час, и отчётливый звук был только – мерное постукивание их таратайки, дерево об дерево, а копытами в пыль становились лошади почти неслышно.
Отец пожалел дать им рессорную бричку, берёг, оттого на рыси их трясло и колотило, и бóльшую часть дороги они проехали шагом. Ехали они меж хлебов и между стад, миновали и солончаковые проплешины, перекатывали пологие холмы, пересекали отлогие балки, с близкой водой и сухие, ни одной настоящей реки, ни одной большой станицы, мало кого встречая, мало кем обогнанные по воскресному малолюдью, – но Исаакию, и всегда терпеливому, особенно сегодня, по настроению и замыслу его, совсем не тягостны были эти восемь часов, а мог бы он и шестнадцать проехать так: из-под дырявой соломенной шляпы – посверх лошадиных ушей, да придерживая возжи ненужные.
Евстрашка, младший, от мачехи, братишка, – эту всю дорогу ему сегодня же ворочаться в ночь, – сперва спал на сене за спиной Исаакия, потом вертелся, на ноги поднимался, разглядывая в траве, соскакивал, отбегал, догонял, полно было ему дел, ещё и рассказывал или спрашивал: «А почему, если закроешь глаза, кажется – назад едешь?»
Сейчас перешёл Евстрат во второй класс пятигорской гимназии, но сперва, как и Исаакия, его соглашался отец отпустить только в ближнюю прогимназию: остальные ведь, старшие братья и сёстры, не знали не видели ничего, кроме земли да скота да овец, и жили же. Исаакий был пущен учиться на год позже, чем надо, и после гимназии год передержал его отец, не давая себе сразу втолковать, что теперь какой-то нужен университет. Но как быки сдвигают тяжесть не урывом, а налогом, так Исаакий брал с отцом: терпеливым настоянием, никогда сразу.
Исаакий был пущен учиться на год позже, чем надо, и после гимназии год передержал его отец, не давая себе сразу втолковать, что теперь какой-то нужен университет. Но как быки сдвигают тяжесть не урывом, а налогом, так Исаакий брал с отцом: терпеливым настоянием, никогда сразу.
Исаакий любил свою родную Саблю, и хутор их в десяти верстах, и сельскую работу, и теперь, в каникулы, нисколько не отлынивал ни от косьбы, ни от молотьбы. В понимании своего будущего он как-то рассчитывал соединить свою первородную жизнь и набранное в студенчестве. Но, что ни год, выходило напротив: учение безповоротно отделяло его от прошлого, от станичников и от семьи.
Во всей станице двое их было, студентов. Удивленье и смех вызывали среди станичников их рассуждения, их вид, – и едва приехав, спешили они переодеваться в своё старое. Впрочем, одно было приятно Исаакию: станичная молва почему-то отделила его от другого студента и назвала – с издёвкою же — народником. Кто это первый прилепил и как это выложилось, а все дружно стали кликать его «народником».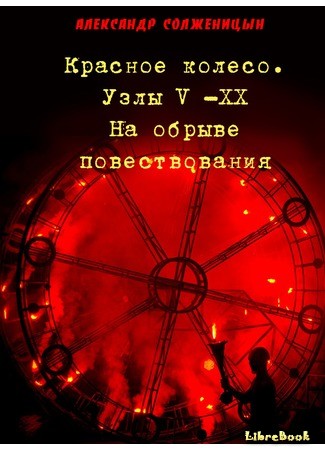
Однако даже в родную семью возврат был почти невозможен. Три года назад уступивши непонятному университету, отец уже не менял решенья, не брал назад, но испытывал как свою ошибку, как потерю сына. Только и видел он в нём прок на каникулах – взять Саньку на сельские работы, а в остальные отлучные месяцы развидеть смысла учёности не мог.
Да с отцом осталось бы у них сродно, когда б не мачеха Марфа – бойкая, властная, жадная, стягивала дом под свою руку, свободя простор для детей своих. Старшие братья и сёстры Исаакия уже отделились, по мачехе чужел и отец, и дом родной. Приглядясь, позадумывался Саня ещё и пареньком: как же тяга эта ведёт человека всего, и долго, если, за сорок овдовевши, отец привёл вторую жену двадцатилетнюю, а этакой бабе молодой проворной, сам теперь о-шестьдесят, уставу твёрдого положить не мог и не многое сам решал.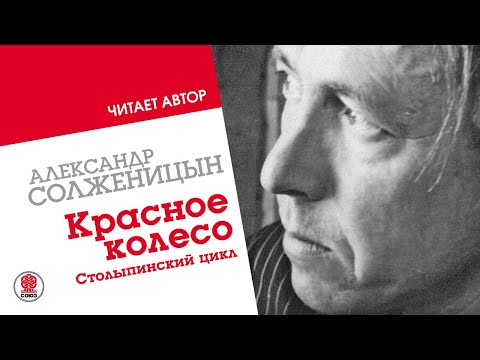
Да и воззрения новоприобретаемые отдаляли Исаакия. В детстве знал он немудро, безпонятно посты и праздники, босиком ко всенощной, – а потом от становой народной веры кто только его не отклонял. И Саблинская сама, и вся округа их была просеяна сектами – молоканами, духоборами, штундистами, свидетелями Иеговы, из секты была и мачеха, стал насчёт церкви теряться и отец, споры о верах были излюбленные в их местности в досуг, Саня много ходил прислушивался, пока воззрения графа Толстого не отодвинули ему эти все разноверия. Сумятица умов была и в городах, образованные друг друга тоже не все понимали, а учение Толстого так убедительно укладывало в мире всё, требуя одной лишь правды. Увы, и толстовская правда в отношениях с семьёй привела Саню, наоборот, ко лжи: так, став вегетарианцем, нельзя было объяснить, что делает это по совести, – позор и смех поднялся бы и по семье и среди станичных; пришлось начинать со лжи, что не есть мясного – это медицинское открытие одного немца, обезпечивает долгую жизнь.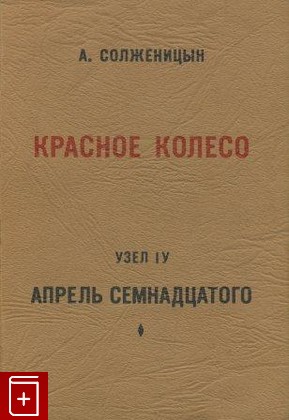
Отчуждение от семьи облегчило Исаакию и нынешнее решение, с чем уезжал он теперь, – но и тут открыться не мог, пришлось и тут солгать, что требуется ему ехать в университет на практику прежде времени, и саму эту практику придумывать и втолковывать простодушному отцу.
Три недели войны отозвались до сих пор в их станице лишь двумя царскими манифестами, на Германию и на Австрию, прочтёнными в церкви и вывешенными на церковной площади, да двумя отъездами запасных, да ещё отдельным отгоном коней в уезд, потому что числилась теперь станица Саблинская не казаками терскими, а кацапами. Во всём же другом как не было войны: не попадали в их станицу газеты, и письмам из Действующей армии было рано, – да ещё понятия такого не было «письма», до сих пор «получать письма» в их станице было нескромностью, выделением, Саня старался не получать.
И в сегодняшней полудневной езде по обширной степи тоже не послан был им никакой знак войны.
Переехав по мосту Куму, перевалив каменистым переездом через зноистое двухпутное полотно и уже едучи по травяной улице станицы Кумской, теперь Минеральных Вод, – и тут нигде не заметили они признаков войны. Так не хотелось жизни переворачиваться! Где только могла, она текла и таилась по-прежнему.
В тени большого вяза у колодца они остановились: Евстрашка должен был здесь обгодить, остудить и напоить коней, потом подъехать к станции. Саня обмылся, обхлюпался до пояса, два ведра извёл, ледяную на спину поливал ему Евстрашка тёмной жестяной кружкой, – тогда протёрся хорошенько, надел чистую белую рубаху с пояском, вещи покинул в таратайке и налегке, сторонясь от пыли, пошёл к станции.
Пристанционная площадь недавно была украшена посадкой сквера, но так и рылись куры по её окраинам да к длинному зданию станции подъезжавшие шарабаны и телеги взнимали воздушный наслой пыли.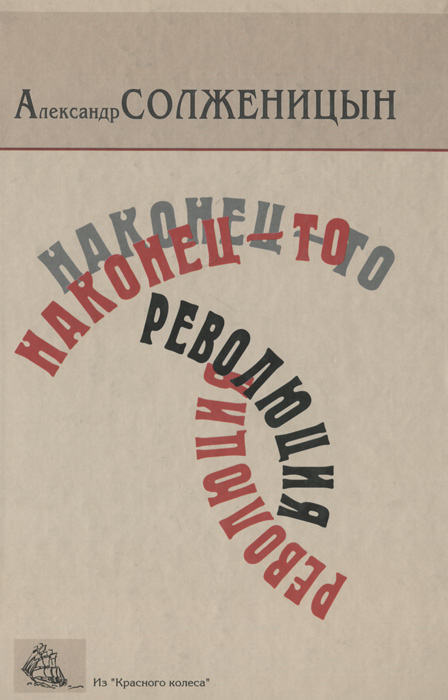
Зато минераловодский перрон, во всю длину покрытый лёгким навесом на тонких крашеных столбиках, провеваемый, прохладный, манил за собою курортами и сегодня, как всегда. У столбиков навеса вился дикий виноград, всё было привычно-дачное, весёлое, никакой войны и здесь как будто не знал никто. Дамы в светлых платьях, мужчины в чесучёвом шли за носильщиками к платформе кисловодских поездов. Продавалось мороженое, нарзан, цветные летучие шары – и газеты. Саня купил одну, подумал – и вторую, разворачивал их уже на ходу, а потом на лавочке у дачного перрона. Вопреки обычной степенности он не дочитывал сообщений, перескакивал по столбцам – и просветлялся. Хорошо, хорошо. Наша крупная победа под Гумбиненом! Противник будет вынужден очистить всю Пруссию… И в Австрии хорошо дела… И у сербов победа!..
По хуторской привычке бережа всякую вещь, вот и бумагу, он сложил газеты не заминая, не рвя, как если б думал нужны будут вечно, встал и пошёл в кассу, узнавать о поездах. Он ровно шёл сквозь пассажирскую сутолоку, не разглядывая людей, – и вдруг из этой пересечки вырвалась девушка, он и не обернулся, как летела она, может быть на поезд, – а она к нему! он тогда и понял, когда обвила его за шею руками, притянулась, поцеловала – а вот уже и откинулась, своей смелости удивляясь, раскраснелая, радостная:
– Саня!! Вы?? Ка-кое совпадение! А я всю дорогу из Петербурга почему-то…
Всего-то полсекунды обнимала, а всё настроение и мысли сшибла, сметнула, и он стоял растерянный, с тем летучим, что возникло в этот налётный миг, и ещё оставалось на нём, не только от губ, солнечно нагретых.
Варя. Старая знакомая гимназических лет, после Пятигорска и не виделись, сперва ещё писали иногда. Раньше – заглаженная узкая головка сироты, а теперь волосы стрижены, пышно набиты вширь, и какой-то взгляд победно-возбуждённый:
– Я почему-то так и думала: а вдруг – вас встречу? Понимала, что невозможно, а… Даже мысль была – дать вам телеграмму в станицу, только знала, что вы не любите.
Саня стоял, улыбаясь. Он сбит был – и как она изменилась от шестиклассницы, и неожиданностью, и какая, при чём тут телеграмма (разорвалась бы в доме как бомба), и ощущением нагретости её.
– А я вот четвёртые сутки всё еду! – радовалась она. – Умирает мой опекун, и надо поклониться. Не самое удобное время ехать, поезда полные… А вы?.. Тоже едете?.. Или встречаете кого?
Такая дурашливая мысль, пошутить: вас. И этот налёт её, и безо всяких усилий… Пошутить: а я по сну приехал, вы мне приснились; сразу: да не может быть? Она так и стояла, как будто всё ещё разогнанная, в наклон к нему.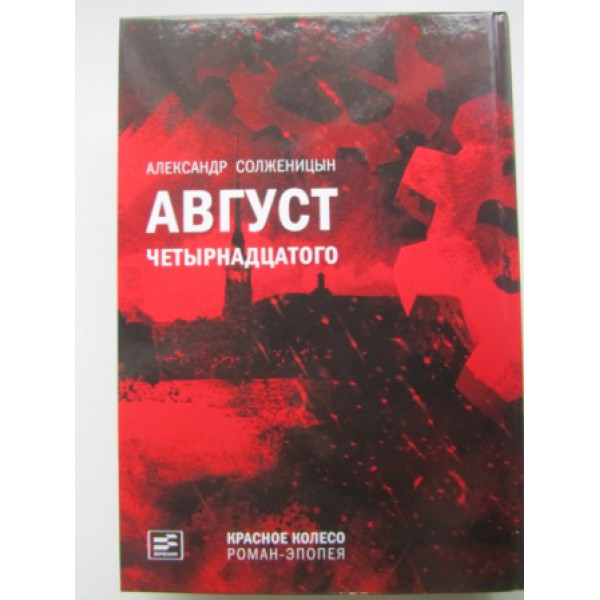
Варя не бывала красива, и не похорошела за эти годы, оставался тот же твердоватый по-мужски подбородок и удолженный нос, но вспыхнуло радостное напряжение встречи, от чего она опалена и просто хороша:
– А помните?.. А помните?.. Как мы с вами на бульваре тоже вот так встречались – неожиданно, без уговора? Судьба?.. Слушайте, Саня, куда вы сейчас? Ну, найдите время! Давайте побудем вместе. Давайте, я побуду в Минеральных?.. А хотите – поедемте в Пятигорск?.. Как вы решите, так и будет, а?.. – Внезапные фразы бросала она, с неожиданным значением и выражением, как налетела и как стояла, не вполне ровно.
Заколебало, заклубило, замутило всё то высокое чистое настроение, с которым Саня сегодня прозрачным утром выехал и насматривался на снежно-синий скалистый Хребет. Как Хребет расплылся, так вдруг и всё дорогое настроение его. Вечное борение с искусами, вся наша жизнь: мяса есть нельзя – а хочется, злого делать нельзя, доброе трудно… А в Минеральных Водах только пройдись, тут увидят свои станичные, дома расскажут… А ехать в Пятигорск – и вовсе уклонение, вздор.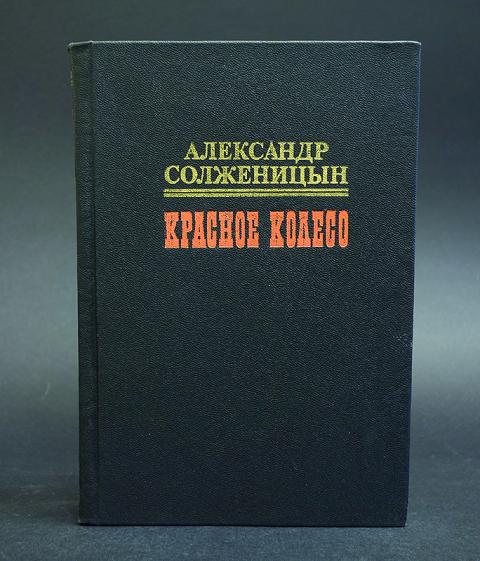 Гостиницы, рестораны?.. Все копейки рассчитаны на билет.
Гостиницы, рестораны?.. Все копейки рассчитаны на билет.
Жалко было своё сегодняшнее особенное утро. Но, с удивлением к себе: уже и жалко было бы не встретить Варю. Так Саня ощущал, что, пожалуй, способен вдруг и поехать с ней.
А она сияла, остролицая, видя его уже согласным, но по разгону повторяла с резковатыми призвуками:
– А – куда вы? Куда? Зачем?
И так сама напомнила. Навела.
Отвела.
Улыбаясь рассеянно и чтоб её не обидеть:
– Я… В Москву. – Он смотрел в сторону, вниз, как виноватый. – Сперва в Ростов заеду, там друг у меня, Константин, может быть знаете?
– Но ведь до занятий ещё три недели! – Рукой, до локтя открытой, взяла у локтя его, крепко, требовательно. – Или, думаете, вас…? – затревожилась, потянула сильней, – с четвёртого курса? Ни за что! Зачем же вы едете?
Вот так просто ответить на ходу – было разменно, недостойно. Саня улыбался смущённо:
– Да понимаете… Н-не сидится… на хуторе…
Она вздрогнула откинутой головой, как лошадь, увидевшая круто вниз, и напряглась, уже за обе руки спасая его:
– Да вы… не… ли… до-бро-вольно?.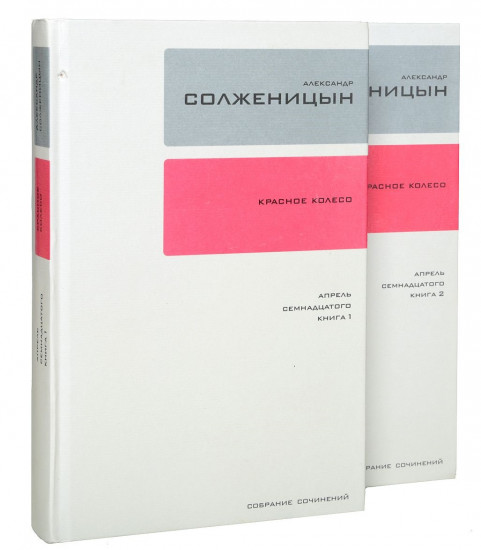 .
.
Правда, они встречались раньше, даже не уговариваясь. Со скрытой надеждой ученица городского училища выходила к вечеру на главный бульвар Пятигорска, и вот ей навстречу шёл уже знакомый, на три года старше, гимназист.
А встретясь, они рассуждали. Их встречи были серьёзные, умные разговоры, для Вари очень важные: Варя никогда никого не помнила старшего близкого. Даже когда темнело, наставницы и наставники увидеть их не могли, и Сане вполне было уместно взять Варю под руку, – он не брал. И она особенно уважала его за такую серьёзность. (Хотя, пусть бы меньше уважала.)
Позже, переведясь в гимназию, она стала встречать Саню и на ученических балах и других собраниях, но и там больше рассуждали, а не танцевали никогда. Саня говорил, что объятия вальса создают желания, ещё не подготовленные истинным развитием чувства, и граф Толстой полагает в этом дурное. Подчиняясь его мягким разъяснениям, уверилась и Варя, что танцевать не хочет.
И ещё потом сохранялась между ними переписка, очень разумные письма писал он. Хотя в Петербурге на курсах далеко расширился варин кругозор, и много умных людей знала она теперь, но и Саню вспоминала.
Хотя в Петербурге на курсах далеко расширился варин кругозор, и много умных людей знала она теперь, но и Саню вспоминала.
А когда три недели назад у себя на Васильевском Варя прочла наклеенный на тумбе царский манифест, потом трамваем переехала через Неву, а там, на Исаакиевской площади, патриоты громили германское посольство, били стёкла, выбрасывали в окна мебель, мрамор и проткнутые картины, свалили с кровли на тротуар огромных бронзовых коней, ведомых гигантами, и все люди вокруг возбуждённо радовались, будто пришла не война, но их долгожданное счастье, – в тот смутный миг, подле черно-коричневых колонн Исаакия, защемило у Вари: повидать бы теперь Саню. Да проезжая мимо Исаакиевского собора она и всегда его вспоминала: не любя своего имени, Саня отшучивался, что Пётр Великий ему тёзка: тоже на Исаакия родился, отчего и собор, только императору облагозвучили имя, а степному мальчику нет.
Не предполагала Варя, внезапно вызвали ее в Пятигорск: тяжело заболел её опекун, не опекун, – жертвователь, на деньги которого она и многие другие сироты учились, и сочтено было, что она должна его навестить, хотя он и не помнил всех, на кого жертвовал, и не мог приезд какой-то незнакомой курсистки с остывшими благодарностями подбодрить его. И вот, черезо всю ширину Империи, томясь четыре дня в поездах, Варя почему-то придумывала и вызывала: «Саня, встреться! Саня, встреться!» – как когда-то, проходя всю длину пятигорского бульвара.
И вот, черезо всю ширину Империи, томясь четыре дня в поездах, Варя почему-то придумывала и вызывала: «Саня, встреться! Саня, встреться!» – как когда-то, проходя всю длину пятигорского бульвара.
Не обязательно именно Саню, сколько мужских характеров этот Толстой перепортил. А просто ехала Варя от Исаакия – через Москву, через Харьков, через Минеральные Воды, всё санины места. Грянула война – ей стало одиноко, упущенно. Не была и прежде полна её жизнь, но ощущалась полнота общего озера. А теперь как будто разверзся донный провал, и туда с крученьем и гулом стала навсегда уходить вода озера – и пока не всё пересохло, надо было спешить, спешить!
А ещё: разобраться, как это сразу всё закособочилось, куда поползло? Всего месяц назад, три недели назад, кажется никакой мыслящий русский гражданин не сомневался, что глава России – презренная личность, недостойная даже серьёзного упоминания, немыслимо было без насмешки повторить его слова. И вдруг в день-два всё изменилось. По виду образованные и неглупые люди, никем не понуждаемые, собирались, строгие, около тумб – и с этих тупых цилиндрических тумбенных туш им выглядело длинное титулование монарха совсем не смешным, и никем же не понуждаемые чтецы громко читали ясными голосами:
«Встаёт перед врагом вызванная на брань Россия, встаёт на ратный подвиг с железом в руках, с крестом на сердце… Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мирской славы подняли мы оружие, но ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой нашей Империи, боремся за правое дело…»
Всею долгой дорогой наблюдала Варя сопутствия войны: военные погрузки, проводы. Особенно на полустанках лихо выглядело русское прощание: под балалайку выплясывали запасные на утолоченных площадках, взметая пыль, и что-то развязно кричали, видно пьяные, а родные крестили их, плакали по ним. Когда ж мимо товарного поезда запасных проносился другой такой же поезд – взлетало братское «ура-а-а-а!» из двух поездов и растягивалось, безумное, отчаянное, безсмысленное, на длину двух составов.
Особенно на полустанках лихо выглядело русское прощание: под балалайку выплясывали запасные на утолоченных площадках, взметая пыль, и что-то развязно кричали, видно пьяные, а родные крестили их, плакали по ним. Когда ж мимо товарного поезда запасных проносился другой такой же поезд – взлетало братское «ура-а-а-а!» из двух поездов и растягивалось, безумное, отчаянное, безсмысленное, на длину двух составов.
И никто не демонстрировал против царя.
А Саня в белой чистой рубашке был особенно степной, загорелый, примятые волнистые пшеничные волосы, пропалённые солнцем на крестьянской работе. Едва увидела – и кинулась к нему, на свою загадку-угадку, но и – сбить одним движением эту прежнюю тягучую робость их встреч. Так поверилось, что сейчас они всё своё бросят – и куда-то, куда-то…
Саня был простак уже и до сложности.
Меж коротко подстриженными русыми усами и диковатой порослью ещё-не-бородки улыбался мягко, раздумчиво. И в глазах, как всегда, неперестанная внутренняя работа. А уже – и заглатывающее заострение – общее – увидела на нём. Уходил? – добровольно?..
А уже – и заглатывающее заострение – общее – увидела на нём. Уходил? – добровольно?..
– Саня! Не идите! – за плечи его. – Не уходите!
Тем же водоворотом, в тот же донный провал закручивало и его… От него же занятую когда-то рассудочную ясность она теперь порывалась ему вернуть, из водоворота выхватить его назад, как успеет. Она не готовилась, само натекало на язык… Десятилетия гражданственной литературы, идеалы интеллигенции, народолюбие студенчества – и всё отдать зашлёпать в один миг? Забыть этого… Лаврова, Михайловского?.. Хор-рошенькое дело! – так поддаться тёмному патриотическому чувству! изменить всем принципам! Ладно, он не был революционером, но пацифистом-то был всегда!
Со стороны показалось бы, что это она воинственно настроена, а он мягко отговаривает её от войны. Варя разгорячилась, и улыбка её стала резкой. Приподнялась и в отчаянии сбилась её шляпка – дешёвая и беззатейная, не для привлекательности выбранная, а защищать от солнца только.
Не находясь возражать, не защищаясь, Саня кивал. Грустно:
Грустно:
– Россию… жалко…
Урчала, гудела, уходила вода из озера!
– Кого? – Россию? – ужалилась Варя. – Кого Россию? Дурака императора? Лабазников-черносотенцев? Попов долгорясых?
Саня не отвечал, ему нечего было. Слушал. Но под хлёстом упрёков нисколько не ожесточался. Он на каждом собеседнике себя проверял, всегда так.
– Да разве у вас характер – для войны? – подхватывала Варя всё, что только можно было, что под рукой.
В первый раз она чувствовала себя умней его, зрелей его, критичней, – но от этого только холод утраты сжимал её.
– А Толстой! – нашла она ещё, последнее. – Что сказал бы Лев Толстой – вы подумали? Где же ваши принципы? Где же ваша последовательность?
На загорелом санином лице под пшеничными бровями, над пшеничными усами голубели ясные, печальные, в себе не уверенные глаза.
Плечи чуть подняв, чуть опустив:
– Россию жалко…
ДОКУМЕНТЫ – 1
23 июля
ПОСОЛ ФРАНЦИИ ПАЛЕОЛОГ – ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II
…Французская армия должна будет вынести ужасный удар 25 немецких корпусов.
Умоляю Ваше Величество отдать приказ своим войскам немедленно начать наступление. В противном случае французская армия рискует быть раздавленной.
ДОКУМЕНТЫ – 2
31 июля
Запись маршала Жоффра
…Предвосхищая все наши ожидания, Россия начала борьбу одновременно с нами. За этот акт лояльного сотрудничества, которое особенно достойно, поскольку русские ещё далеко не закончили сосредоточение своих сил, армия Царя и великий князь Николай заслужили признательность Франции.
ДОКУМЕНТЫ – 3
1 августа
НИКОЛАЙ II – МИНИСТРУ САЗОНОВУ
…Я приказал великому князю Николаю Николаевичу возможно скорее и во что бы то ни стало открыть путь на Берлин. Мы должны добиваться уничтожения германской армии.
«Красное колесо» – краткое содержание
Грандиозная эпопея Александра Солженицына «Красное колесо», к сожалению, так и не оценена российским читателем по всему её гениальному достоинству.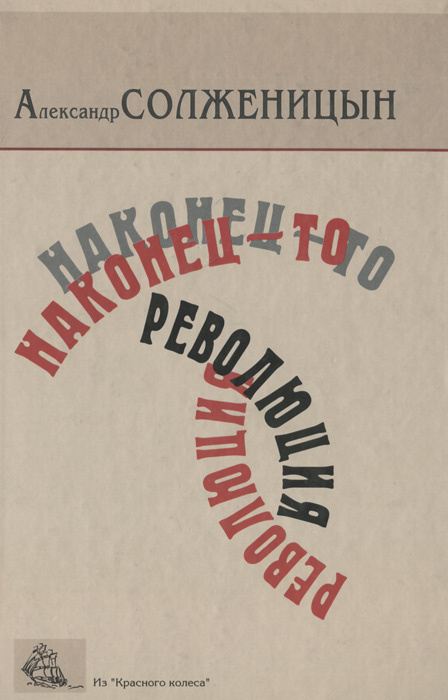
Виноваты в том, конечно, неурядицы и неустройства нашей нынешней жизни – тот период неуклонного развала страны, который наша власть с ехидцей и похохатываниями именует «поднятием с колен». В обстановке, где нужно заботиться лишь о собственном выживании, людям не до чтения литературы, даже и великой.
Солженицын. Биография. Иллюстрированное видео
Это тем более трагично, что именно «Красное колесо» Солженицына даёт ответы на большинство вопросов о причинах и сути российского кризиса XX – начала XXI столетий. В четырёх завершённых романах эпопеи писатель описывает, как великое государство на самом гребне своего расцвета вдруг скользнуло в то нравственное падение, которое длится уже почти сто лет.
Исторический период, охватываемый «Красным колесом», до сих пор тёмен для российской, да и мировой науки. Большинство публикуемых ныне материалов о царствовании Николая II, о февральской революции 1917 и переходе от Февраля к Октябрю дают крайне искажённую картину событий, а зачастую и откровенно безграмотны. Кривотолкования и туманная муть переходят в учебные пособия для школ и институтов. В итоге воспитывается поколение, неспособное осознать не только смысла того, что происходило в начале XX века, но и сути сегодняшнего периода российской истории. Ибо ельцинско-путинская псевдодемократия и псевдолиберализм имеют самую прямую связь с коммунистической эрой. Они – окончательный и завершающий её этап.
Кривотолкования и туманная муть переходят в учебные пособия для школ и институтов. В итоге воспитывается поколение, неспособное осознать не только смысла того, что происходило в начале XX века, но и сути сегодняшнего периода российской истории. Ибо ельцинско-путинская псевдодемократия и псевдолиберализм имеют самую прямую связь с коммунистической эрой. Они – окончательный и завершающий её этап.
Думаю, что ещё одна из причин недооценки русским читателем «Красного колеса» – большой объём работы и плотная насыщенность её фактами. Странно, но приходится признать: само высокое качество эпопеи пока играло против неё. Не сомневаюсь, что когда-нибудь, с подъёмом интеллектуальных сил России, положение кардинально изменится. Но в наши дни редко найдёшь человека, готового усидчиво изучать 10 больших томов, которые ещё и (как всегда у Солженицына) «написаны плотно».
Обложка издания «Красного колеса»
Но популяризировать «Красное колесо» нужно всеми средствами! Эту популяризацию я бы, без громких слов, назвал одной из главных задач нынешней русской гуманитарной интеллигенции. Нужно стараться, чтобы как можно больше людей приобщились к подробностям истории родной страны в самую драматическую и переломную её эпоху. Если мы не осознаем ошибок и промахов прадедов, нам не избежать повторения тех событий, не избежать нового торжества кровавого тоталитаризма.
Нужно стараться, чтобы как можно больше людей приобщились к подробностям истории родной страны в самую драматическую и переломную её эпоху. Если мы не осознаем ошибок и промахов прадедов, нам не избежать повторения тех событий, не избежать нового торжества кровавого тоталитаризма.
Читая в своё время «Красное колесо», я стал составлять для себя его конспективное краткое содержание. По недостатку времени работа не продвинулась далеко, ограничившись лишь частями «Августа Четырнадцатого» и «Марта Семнадцатого». Однако и этот мой конспект способен помочь многим студентам и историкам. По возможности буду его продолжать.
Начинаю выкладку составленного мною краткого содержания «Красного колеса» в Сеть.
А. И. Солженицын. Красное колесо. Август Четырнадцатого – краткое содержание по главам
Самсоновская катастрофа в «Августе Четырнадцатого» А. Солженицына
А. И. Солженицын. Красное колесо. Октябрь Шестнадцатого – краткое содержание
А. И. Солженицын. Красное колесо. Октябрь Шестнадцатого – содержание по главам
И. Солженицын. Красное колесо. Октябрь Шестнадцатого – содержание по главам
А. И. Солженицын. Красное колесо. Март Семнадцатого – краткое содержание
А. И. Солженицын. Красное колесо. Март Семнадцатого – краткое содержание по главам
А. И. Солженицын. Красное колесо. Апрель Семнадцатого – краткое содержание
Александр Солженицын – биография, хронологическая таблица (основные даты жизни)
Александр Исаевич Солженицын – краткая биография
Солженицын, Александр Исаевич (биография среднего размера)
Солженицын, Александр Исаевич – биография и творчество (очень подробное жизнеописание)
Центр Александра Солженицына — Красное колесо
Красное колесо — многотомная эпопея Солженицына о революционном катаклизме 1917 года, положившем начало советской власти, и событиях, приведших к революции. Возможно, это шедевр автора , который Солженицын описал как «главный художественный замысел моей жизни». Солженицын утверждал, что русские революции 1917 года были центральным событием двадцатого века — решающим поворотным моментом, из которого проистекают многие другие его пороки. Судьбы не только России, но и Европы и всего мира необратимо определились событиями, описанными в этом произведении. Они стоят огромных усилий по восстановлению исторической памяти, которым Солженицын посвятил центральные десятилетия своей жизни.
Солженицын утверждал, что русские революции 1917 года были центральным событием двадцатого века — решающим поворотным моментом, из которого проистекают многие другие его пороки. Судьбы не только России, но и Европы и всего мира необратимо определились событиями, описанными в этом произведении. Они стоят огромных усилий по восстановлению исторической памяти, которым Солженицын посвятил центральные десятилетия своей жизни.
Красное колесо уникальное произведение – «роман», содержащий множество глав «театральной истории», а также тщательно проработанные и детально проработанные главы о царе Николае II, премьер-министре Петре Столыпине, Ленине в Цюрихе и в Петроград, Дума и основные политические группировки (октябристы, кадеты и различные революционеры) в России накануне революций 1917 года. Это работа точной исторической реконструкции, в которой центральную роль играют вымышленные персонажи, такие как полковник Георгий Воротынцев. Воротынцев — проницательный и способный стратег, горящий любовью к родине. Он не терпит неэффективных и конъюнктурных царских придворных и генералов, хотя и отвергает саморазрушительный нигилизм доморощенных российских революционеров. Если твердолобый премьер-министр-реформатор Петр Столыпин является «историческим» героем Красное колесо , Воротынцев, несомненно, его «вымышленный» главный герой. Его патриотизм и приверженность возрождению России в равной степени противоречат безответственной театральности российских soi-disant либералов («лжелибералы», как называет их Солженицын, так как им никогда не удается увидеть врагов слева от себя), а также слепоте и бездарность царской старой гвардии. Он воплощает в себе патриотическую целеустремленность тех умных, дальновидных офицеров, которые олицетворяли лучшие надежды России на возрождение среди разрухи войны и революции. Но как вымышленный персонаж он не в состоянии повлиять на исход событий.
Он не терпит неэффективных и конъюнктурных царских придворных и генералов, хотя и отвергает саморазрушительный нигилизм доморощенных российских революционеров. Если твердолобый премьер-министр-реформатор Петр Столыпин является «историческим» героем Красное колесо , Воротынцев, несомненно, его «вымышленный» главный герой. Его патриотизм и приверженность возрождению России в равной степени противоречат безответственной театральности российских soi-disant либералов («лжелибералы», как называет их Солженицын, так как им никогда не удается увидеть врагов слева от себя), а также слепоте и бездарность царской старой гвардии. Он воплощает в себе патриотическую целеустремленность тех умных, дальновидных офицеров, которые олицетворяли лучшие надежды России на возрождение среди разрухи войны и революции. Но как вымышленный персонаж он не в состоянии повлиять на исход событий.
Различные «Узлы» Красное колесо захватывают определенные решающие моменты, которые раскрывают природу разворачивающегося революционного джаггернаута, «красного колеса» из названия книги.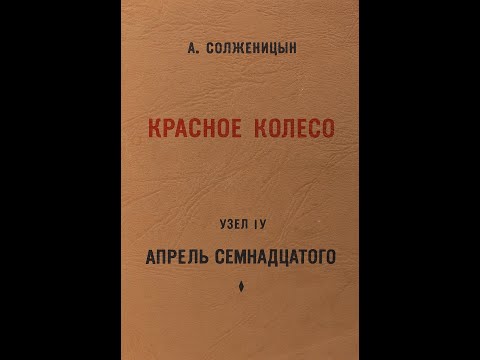 Эти огромные, растягивающиеся книги являются «романными» в реальном, но ограниченном смысле. Прежде всего, это полифонических произведений, позволяющих десяткам персонажей (в том числе и тем, к которым Солженицын не симпатизирует, например, Ленину) говорить со своей точки зрения. Это не мешает автору говорить своим голосом, особенно в более исторических главах. Движение назад и вперед от историко-политического анализа к вымышленным изображениям его героев, таких как Саня Лаженицын (вымышленное изображение отца Солженицына), а также Воротынцев, без сомнения, утомляет тех, кто мало интересуется политической и духовной судьбой. России или даже в русской революции. В первую очередь, это книга, адресованная прежде всего россиянам и студентам России. Но для всех, кто действительно разделяет — или собирается разделять — желание Солженицына постичь глубинный смысл 1917, для тех, кто достаточно дисциплинирован, чтобы столкнуться с искусной смесью истории, философии и литературы и заняться ею в поисках истины, выходящей за узконациональные рамки и интересы, шедевр Солженицына порадует и научит.
Эти огромные, растягивающиеся книги являются «романными» в реальном, но ограниченном смысле. Прежде всего, это полифонических произведений, позволяющих десяткам персонажей (в том числе и тем, к которым Солженицын не симпатизирует, например, Ленину) говорить со своей точки зрения. Это не мешает автору говорить своим голосом, особенно в более исторических главах. Движение назад и вперед от историко-политического анализа к вымышленным изображениям его героев, таких как Саня Лаженицын (вымышленное изображение отца Солженицына), а также Воротынцев, без сомнения, утомляет тех, кто мало интересуется политической и духовной судьбой. России или даже в русской революции. В первую очередь, это книга, адресованная прежде всего россиянам и студентам России. Но для всех, кто действительно разделяет — или собирается разделять — желание Солженицына постичь глубинный смысл 1917, для тех, кто достаточно дисциплинирован, чтобы столкнуться с искусной смесью истории, философии и литературы и заняться ею в поисках истины, выходящей за узконациональные рамки и интересы, шедевр Солженицына порадует и научит.
Красное Колесо , квинтэссенция «русской» книги, напоминает нам о том, что тщательное исследование определенных многозначительных подробностей обеспечивает лучший доступ к универсальной истине. Он весьма осязаемо показывает нам, что судьбы России и Запада неумолимо переплетались и будут переплетаться.
– Эдвард Э. Эриксон-младший и Дэниел Дж. Махони, The Solzhenitsyn Reader
Напоминаем читателям Солженицына общую последовательность 10-томного Red Wheel :
Узел I Август 1914 г., книги 1 и 2 (Фаррар, Штраус и Жиру, опубликованы в одном томе)
Узел II: ноябрь 1916 г., книги 1 и 2 (Фаррар, Штраус и Жиру, опубликованы в одном томе)
Узел III : март 1917 г., Книга 1 (University of Notre Dame Press)
Узел III: март 1917 г., книга 2 (Издательство Университета Нотр-Дам)
Узел III: март 1917 г., Книга 3 (Издательство Университета Нотр-Дам)
Узел 1, Книга 4: Март 97 (ожидается — University of Notre Dame Press)
Узел IV: апрель 1917 г.
 , книга 1 (готовится — University of Notre Dame Press)
, книга 1 (готовится — University of Notre Dame Press)Узел IV: апрель 1917 г., книга 2 (готовится — University of Notre Dame Press) )
19 марта17
Александр Солженицын
688 страниц, 6,12 x 9,25
Мягкая обложка | 9780268102661 | Октябрь 2020
Твердый переплет | 9780268102654 | ноябрь 2017
электронная книга (веб-PDF) | 9780268102678 | ноябрь 2017
электронная книга (EPUB) | 9780268102685 | ноябрь 2017
Центр этики и культуры Солженицын Серия
- Описание
- Пресс-кит
- Биография автора
- Отзывы
- Награды
Описание
В ознаменование 100-летия русской революции издательство Университета Нотр-Дам с гордостью публикует эпический труд лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына Март 1917 , Узел III, Книга 1, из Красное Колесо .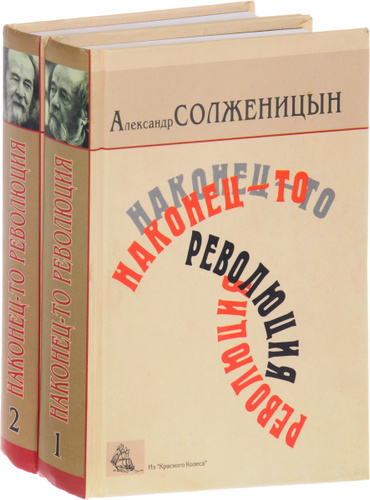
Красное колесо — величайший труд Солженицына о русской революции. Солженицын рассказывает эту историю в форме тщательно проработанного исторического романа, дополненного газетными заголовками дня, фрагментами уличных действий, киносценарием и историческим обзором. Первые два узла — август 1914 и ноябрь 1916 — посвящены кризисам и восстановлению России, революционному терроризму и его подавлению, упущенным возможностям реформ Петра Столыпина и тому, как всплеск патриотизма 19 августа14 испортился, когда Россия истекала кровью в Первой мировой войне.
Март 1917 — третий узел — рассказывает историю самой русской революции, во время которой не только имперское правительство тает перед лицом толпы, но и лидеры оппозиция оказывается совершенно неспособной контролировать ход событий. Действие книги 1 (из четырех) марта 1917 происходит с 8 по 12 марта. Захватывающее повествование рассказывает истории более пятидесяти персонажей в те дни, когда Российская империя начинает рушиться.
