ЖИВЫЕ ЛЮДИ ДОСТОЕВСКОГО И МЕРТВЫЕ ДУШИ ГОГОЛЯ
Если нас интересует проблема человека и мы хотим понять, что есть истинно человеческое, вечное в людях, а наука мало чем может помочь в этом, то наш путь, несомненно, прежде всего к Ф. М. Достоевскому. Именно его С. Цвейг назвал «психологом из психологов», а Н. А. Бердяев — «великим антропологом». «Я знаю только одного психолога — это Достоевский», — вопреки своей традиции низвергать все земные и небесные авторитеты, писал Ф. Ницше, имевший, кстати, собственный и далеко не поверхностный взгляд на человека. Другой гений, Н. В. Гоголь, показал миру людей с потухшей искрой Божией, людей с мертвой душой.
Наука и жизнь // Иллюстрации
Наука и жизнь // Иллюстрации
Наука и жизнь // Иллюстрации
Наука и жизнь // Иллюстрации
Наука и жизнь // Иллюстрации
Наука и жизнь // Иллюстрации
Наука и жизнь // Иллюстрации
Наука и жизнь // Иллюстрации
Наука и жизнь // Иллюстрации
Наука и жизнь // Иллюстрации
Наука и жизнь // Иллюстрации
‹
›
Открыть в полном размере
Шекспир, Достоевский, Л. Толстой, Стендаль, Пруст гораздо больше дают для понимания человеческой природы, чем академические философы и ученые — психологи и социологи…
Толстой, Стендаль, Пруст гораздо больше дают для понимания человеческой природы, чем академические философы и ученые — психологи и социологи…
Н. А. Бердяев
У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ «ПОДПОЛЬЕ»
Достоевский труден для читателей. Многие из них, особенно привыкшие видеть все ясным и легко объяснимым, вообще не принимают писателя — он лишает ощущения комфортности жизни. Трудно сразу поверить, что жизненный путь может быть именно таким: в непрерывных метаниях между крайностями, когда человек на каждом шагу загоняет себя в угол, а затем, будто в состоянии известной нашему времени наркотической ломки, выворачиваясь наизнанку, выбирается из тупика, совершает поступки и потом, раскаиваясь в них, мучается под пытками самоуничижения. Кто из нас признает, что может «любить боль и страх», быть в «упоении от мучительного состояния низости», жить, чувствуя «во всем себе страшный беспорядок»? Даже бесстрастная наука выносит подобное за скобки так называемой нормы.
К концу XX века психологи вдруг заговорили, что наконец-то приближаются к тому пониманию интимных механизмов психической жизни человека, какими их видел и показывал в своих героях Достоевский. Однако науке, выстроенной на логических основаниях (а иной наука быть и не может), не понять Достоевского, ибо нельзя его представления о человеке связать формулой, правилом. Здесь нужна сверхнаучная психологическая лаборатория. Она была дана гениальному писателю, была обретена им не в университетских аудиториях, а в беспредельных муках собственной жизни.
Весь XX век ждали «кончины» героев Достоевского и его самого как классика, гения: мол, все написанное им устарело, осталось в XIX веке, в старой мещанской России. Утрату интереса к Достоевскому предсказывали после падения самодержавия в России, затем в середине XX века, когда начался бум интеллектуализации населения, наконец, после развала Советского Союза и победы «мозговой цивилизации» Запада. А что же на деле? Его герои — нелогичные, раздваивающиеся, мучающиеся, постоянно борющиеся сами с собой, не желающие жить по единой со всеми формуле, руководствоваться только принципом «сытости», — и в начале XXI века остаются «живее всех живых».
Писатель сумел показать человека не в каком-то стандартном, цивилизованном и привычном для общественного мнения варианте, а в полной наготе, без масок и маскировочных костюмов. И нет вины Достоевского в том, что этот вид оказался, мягко говоря, не совсем салонным и что нам неприятно читать правду о себе. Ведь, как писал еще один гений, мы больше любим «нас возвышающий обман».
Красоту и достоинство человеческой природы Достоевский видел не в конкретных жизненных проявлениях, а в тех высотах, откуда она берет свое начало. Здешняя ее искаженность неизбежна. Но красота сохраняется, если человек не смирился с суетой и грязью, а потому мечется, рвется, старается, вновь и вновь покрываясь нечистотами, очиститься, сохранить свободу своей души.
За сорок лет до Фрейда Достоевский заявляет: у человека есть «подполье», где
живет и активно действует (точнее, противодействует) еще один, «подпольный»
и независимый, человек. Но это совсем иное понимание человеческой изнанки, чем
в классическом психоанализе. «Подполье» Достоевского — тоже кипящий котел, но
не императивных, однонаправленных влечений, а непрерывных противостояний и переходов.
Ни одна выгода не может быть постоянной целью, каждое стремление (тотчас по
его реализации) сменяется другим, и тягостью становится любая устойчивая система
отношений.
Но это совсем иное понимание человеческой изнанки, чем
в классическом психоанализе. «Подполье» Достоевского — тоже кипящий котел, но
не императивных, однонаправленных влечений, а непрерывных противостояний и переходов.
Ни одна выгода не может быть постоянной целью, каждое стремление (тотчас по
его реализации) сменяется другим, и тягостью становится любая устойчивая система
отношений.
И тем не менее есть одна стратегическая цель, «особая выгода» в этом «страшном беспорядке» человеческого «подполья». Внутренний человек каждым из своих действий не дает своему реально живущему оппоненту окончательно и бесповоротно «зацепиться» за что-то земное, оказаться в плену одного неизменного убеждения, стать «домашним животным» или механическим роботом, живущим строго по инстинктам или кем-то заложенной программе. В этом — высший смысл существования зазеркального двойника, он на страже свободы человека и дарованной ему свыше через эту свободу возможности особых отношений с Богом.
И поэтому герои Достоевского постоянно ведут внутренний диалог, спорят сами с собой, неоднократно меняя собственную позицию в этом споре, поочередно отстаивая полярные точки зрения, будто главное для них — не оказаться навсегда в плену одного убеждения, одной жизненной цели. Эту особенность понимания человека у Достоевского отмечал литературовед М. М. Бахтин: «Там, где видели одно качество, он вскрывал в нем наличность и другого, противоположного качества. Все, что казалось простым, в его мире стало сложным и многосоставным. В каждом голосе он умел слышать два спорящих голоса, в каждом жесте он улавливал уверенность и неуверенность одновременно…»
Все основные герои Достоевского — Раскольников («Преступление и наказание»), Долгорукий и Версилов («Подросток»), Ставрогин («Бесы»), Карамазовы («Братья Карамазовы») и, наконец, герой «Записок из подполья» — бесконечно противоречивы. Они — в непрерывном движении между добром и злом, великодушием и мстительностью, смирением и гордыней, способностью исповедовать в душе высочайший идеал и почти одновременно (или через мгновение) совершать величайшую подлость.
Непостоянство, неспособность однозначно определиться в своих намерениях приводит к трагическому финалу героиню романа «Идиот» Настасью Филипповну. В день рождения она объявляет себя невестой князя Мышкина, но тут же уезжает с Рогожиным. Утром следующего дня убегает от Рогожина, чтобы встретиться с Мышкиным. Через некоторое время начинает готовиться свадьба с Рогожиным, но будущая невеста снова исчезает с Мышкиным. Шесть раз маятник настроения бросает Настасью Филипповну из одного намерения в другое, от одного мужчины к другому. Несчастная женщина как бы мечется между двумя сторонами собственного «Я» и не может выбрать из них единственную, непоколебимую, пока Рогожин ударом ножа не прекращает эти метания.
Ставрогин в письме к Дарье Павловне недоумевает по поводу своего поведения: истощил все силы в разврате, но не хотел его; хочу быть порядочным, но делаю подлости; в России мне все чужое, но в любом другом месте жить не могу. В заключение добавляет: «Никогда, никогда не смогу убить себя…» И вскоре после этого кончает жизнь самоубийством. «Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что не верует», — пишет о своем персонаже Достоевский.
В заключение добавляет: «Никогда, никогда не смогу убить себя…» И вскоре после этого кончает жизнь самоубийством. «Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что не верует», — пишет о своем персонаже Достоевский.
«СПОКОЙСТВИЕ — ДУШЕВНАЯ ПОДЛОСТЬ»
Борьба разнонаправленных мыслей и мотивов, постоянная самоказнь — все это мука для человека. Может быть, такое состояние не является его естественной особенностью? Может быть, оно присуще лишь определенному человеческому типу или национальному характеру, например русскому, как любят утверждать многие критики Достоевского (в частности, Зигмунд Фрейд), или есть отражение определенной ситуации, сложившейся в обществе на каком-то отрезке его истории, — например, в России второй половины XIX века?
«Психолог из психологов» отвергает такие упрощения, он убежден: это «самая обыкновенная черта у людей…, черта, свойственная человеческой природе вообще». Или, как говорит его герой из «Подростка», Долгорукий, постоянное столкновение различных мыслей и намерений — это «самое нормальное состояние, а отнюдь не болезнь и не порча».
Вместе с тем нужно признать, что писательский гений Достоевского породила и востребовала определенная эпоха. Вторая половина XIX века — время перехода от патриархального бытия, еще сохранявшего реальную осязаемость понятий «душевность», «сердечность», «честь», к рационально организован ной и лишенной былой сентиментальности жизни в условиях всепобеждающей технизации. На человеческую душу готовится очередное, уже фронтальное наступление, и нарождающаяся Система с еще большим нетерпением, чем в прежние времена, настроена видеть ее «мертвой». И, будто предчувствуя готовящееся заклание, душа начинает метаться с особым отчаянием. Это дано было ощутить и показать Достоевскому. После его эпохи душевные метания не перестали быть нормальным состоянием человека, однако, в свою очередь, и XX век уже немало преуспел в рационализации нашего внутреннего мира.
«Нормальное душевное состояние» чувствовал не только Достоевский. Как известно, Лев Николаевич и Федор Михайлович не очень чтили друг друга в жизни.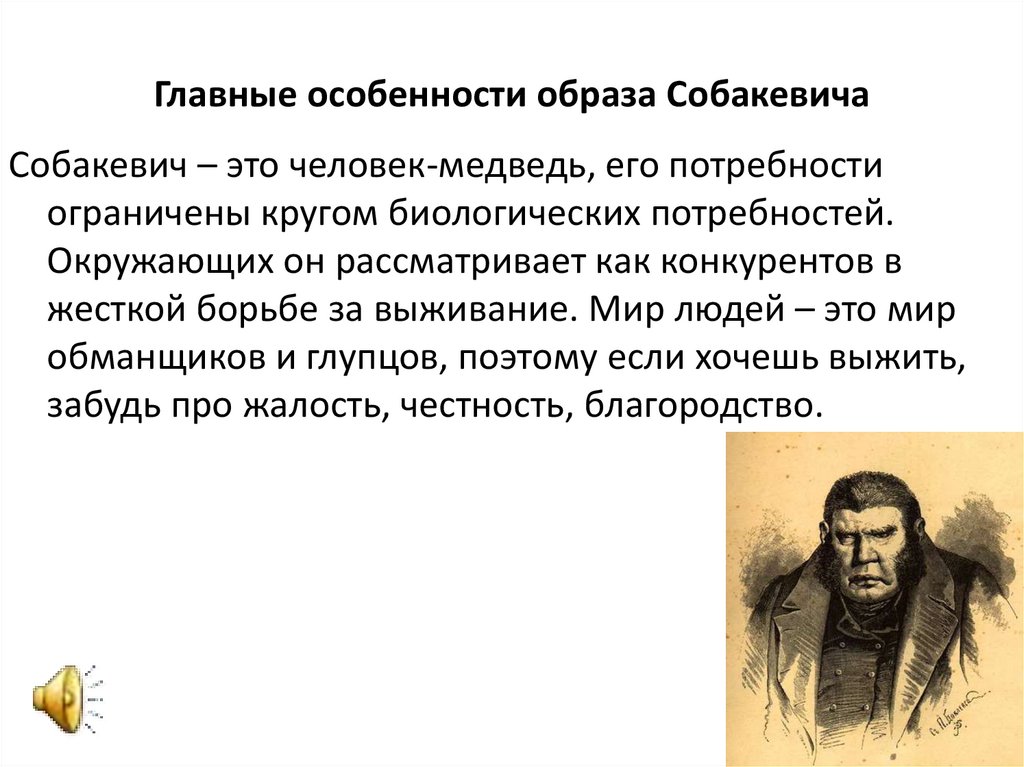 Но каждому из них было дано (как никакой экспериментальной психологии) видеть глубинное в человеке. И в этом видении два гения были едины.
Но каждому из них было дано (как никакой экспериментальной психологии) видеть глубинное в человеке. И в этом видении два гения были едины.
Александра Андреевна Толстая, двоюродная тетка и задушевный друг Льва Николаевича, жалуется ему в письме от 18 октября 1857 года: «Мы всегда ждем, что мир водворится, в душе наступит душевное равновесие. Нам худо без него». Это всего лишь дьявольский расчет, пишет в ответ совсем еще молодой писатель, дурное в глубине нашей души желает застоя, водворения мира и спокойствия. И далее продолжает: «Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться… А спокойствие — душевная подлость. От этого-то дурная сторона нашей души и желает спокойствия, не предчувствуя, что достижение ее сопряжено с потерей всего, что есть в нас прекрасного, не человеческого, а оттуда».
В марте 1910 года, перечитывая свои старые письма, Лев Николаевич выделил эту фразу: «И теперь ничего бы не сказал другого». Гений всю жизнь сохранял убеждение: душевное спокойствие, которое мы ищем, губительно прежде всего для нашей души. Грустно мне было расстаться с мечтой о спокойном счастье, замечает он в одном из писем, но это «необходимый закон жизни», удел человека.
Гений всю жизнь сохранял убеждение: душевное спокойствие, которое мы ищем, губительно прежде всего для нашей души. Грустно мне было расстаться с мечтой о спокойном счастье, замечает он в одном из писем, но это «необходимый закон жизни», удел человека.
По мнению Достоевского, человек есть переходное существо. Переходность — главное, сущностное в нем. Но эта переходность имеет не тот смысл, что у Ницше и многих других философов, видящих в переходном состоянии нечто преходящее, временное, недоделанное, не доведенное до нормы, следовательно подлежащее завершению. У Достоевского иное понимание переходности, которое только к концу XX века начинает понемногу прорываться на авансцену науки, но еще находится в «Зазеркалье» практической жизни людей. Он показывает на своих героях, что постоянных состояний в душевной деятельности человека нет вообще, есть только переходные, и только они делают нашу душу (и человека) здоровым и жизнеспособным.
Победа какой-то одной стороны — даже, например, абсолютно нравственного поведения — возможна, по Достоевскому, лишь в результате отказа от чего-то естественного в себе, что не может мириться с любой жизненной окончательностью. Нет того однозначного места, «где живое-то живет»; нет конкретного состояния, которое можно назвать единственно желанным — даже, если вы себя «утопите в счастье совсем с головой». Нет той черты, которая все в человеке определяет, кроме потребности в переходах с обязательными страданиями и редкими мгновениями радости. Ибо двойственность и неизбежно сопутствующие ей колебания, переходы есть путь к чему-то Высшему и Истинному, с чем связан «исход душевный, а это главное». Только внешне кажется, что люди хаотично и бесцельно мечутся от одного к другому. На самом деле они — в неосознаваемом внутреннем поиске. По словам Андрея Платонова, они не блуждают, они ищут. И не вина человека, что чаще всего на той и другой стороне амплитуды поиска он натыкается на глухую стену, попадает в тупик, вновь и вновь оказывается в плену неистинного. Такова его судьба в этом мире. Колебания позволяют ему хотя бы не стать законченным пленником неистинного.
Нет того однозначного места, «где живое-то живет»; нет конкретного состояния, которое можно назвать единственно желанным — даже, если вы себя «утопите в счастье совсем с головой». Нет той черты, которая все в человеке определяет, кроме потребности в переходах с обязательными страданиями и редкими мгновениями радости. Ибо двойственность и неизбежно сопутствующие ей колебания, переходы есть путь к чему-то Высшему и Истинному, с чем связан «исход душевный, а это главное». Только внешне кажется, что люди хаотично и бесцельно мечутся от одного к другому. На самом деле они — в неосознаваемом внутреннем поиске. По словам Андрея Платонова, они не блуждают, они ищут. И не вина человека, что чаще всего на той и другой стороне амплитуды поиска он натыкается на глухую стену, попадает в тупик, вновь и вновь оказывается в плену неистинного. Такова его судьба в этом мире. Колебания позволяют ему хотя бы не стать законченным пленником неистинного.
Типичный герой Достоевского далек от того идеала, по которому мы сегодня выстраиваем семейное и школьное воспитание, на который сориентирована наша действительность.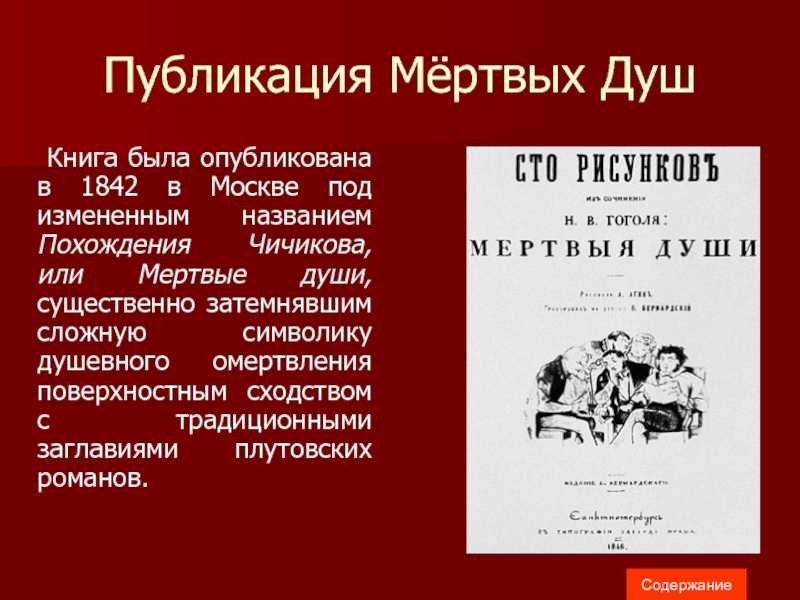 Но он, несомненно, может рассчитывать на любовь Сына Божьего, также в своей земной жизни не раз мучавшегося сомнениями и хотя бы на время чувствовавшего себя беспомощным ребенком. Из героев Нового Завета «человек Достоевского» больше похож на сомневающегося и казнящего себя мытаря, которого Иисус призвал в апостолы, чем на хорошо понятных нам фарисеев и книжников.
Но он, несомненно, может рассчитывать на любовь Сына Божьего, также в своей земной жизни не раз мучавшегося сомнениями и хотя бы на время чувствовавшего себя беспомощным ребенком. Из героев Нового Завета «человек Достоевского» больше похож на сомневающегося и казнящего себя мытаря, которого Иисус призвал в апостолы, чем на хорошо понятных нам фарисеев и книжников.
«И поистине, я люблю вас за то, что вы сегодня не умеете жить, о высшие люди!»
Фридрих Ницше
Высшее приходит, верил Достоевский, лишь к тому, кем что-либо земное не овладело окончательно и бесповоротно, кто способен страданиями очищать свою душу. Только поэтому у князя Мышкина выраженная детскость и неприспособленность к реальной жизни оборачиваются душевной проницательностью, способностью предвидеть события. Даже проснувшаяся у Смердякова (из «Братьев Карамазовых») в конце всех его нечистых деяний способность к глубокому человеческому переживанию и угрызению совести позволяет возродить к жизни глубоко замурованный до этого «лик Божий». Смердяков уходит из жизни, отказавшись воспользоваться плодами своего преступления. Другой персонаж Достоевского — Раскольников, совершив корыстное убийство, после мучительных переживаний отдает все деньги семье умершего Мармеладова. Совершив этот целительный для души акт, чувствует вдруг себя, после долгих, уже, казалось, вечных страданий, во власти «одного, нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни».
Смердяков уходит из жизни, отказавшись воспользоваться плодами своего преступления. Другой персонаж Достоевского — Раскольников, совершив корыстное убийство, после мучительных переживаний отдает все деньги семье умершего Мармеладова. Совершив этот целительный для души акт, чувствует вдруг себя, после долгих, уже, казалось, вечных страданий, во власти «одного, нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни».
Достоевский отвергает рационалистическую идею человеческого счастья в «Хрустальном дворце», где все будет «расчислено по табличке». Человек — не «штофик в органном вале». Чтобы не погаснуть, оставаться живой, душа должна непрерывно мерцать, разрывать темноту раз и навсегда установленного, того, что уже можно определить как «дважды два четыре». Поэтому она настаивает, требует от человека быть новым в каждый очередной день и миг, непрерывно, в муках, искать другое решение, как только ситуация становится мертвой схемой, непрерывно умирать и рождаться.
Это и есть условие здоровья и гармоничной жизни души, следовательно, и главная выгода человека, «самая выгодная выгода, которая ему дороже всего».
ГОРЬКАЯ ДОЛЯ ГОГОЛЯ
Достоевский показал миру мечущегося, мучительно ищущего все новые и новые решения и поэтому всегда живого человека, «искра Божия» которого мерцает непрерывно, раз за разом разрывая пелену наслоений обыденного.
Как бы дополняя картину мира, другой гений незадолго до этого увидел и показал миру людей с потухшей искрой Божией, с мертвой душой. Поэму Гоголя «Мертвые души» вначале не пропустила даже цензура. Причина одна — в названии. Для православной страны считалось неприемлемым утверждение, что души могут быть мертвыми. Но Гоголь не отступил. Видимо, в таком наименовании был для него особый смысл, не до конца понятный многим, даже духовно близким ему людям. Позже писателя неоднократно критиковали за это название Достоевский, Толстой, Розанов, Бердяев. Общий мотив их возражений таков: не может быть «мертвых душ» — в каждом, даже самом ничтожном человеке есть свет, который, как сказано в Евангелии, и «во тьме светит».
Однако название поэмы оправдали ее герои — Собакевич, Плюшкин, Коробочка, Ноздрев, Манилов, Чичиков. Подобны им и другие герои произведений Гоголя — Хлестаков, городничий, Акакий Акакиевич, Иван Иванович и Иван Никифорович… Это — зловещие и безжизненные «восковые фигуры», олицетворяющие человеческое ничтожество, «вековечные гоголевские мертвецы», от вида которых «человек может только презирать человека» (Розанов). Гоголь изобразил «существа совершенно пустые, ничтожные и притом нравственно гадкие и отвратительные» (Белинский), показал «оскотинившиеся лица» (Герцен). У Гоголя нет человеческих образов, а есть лишь «морды и рожи» (Бердяев).
Самого Гоголя не в меньшей мере ужасали собственные детища. Эти, по его словам, «свиные рыла», застывшие человеческие гримасы, некие бездушные вещи: либо «рабы ненужностей» (подобно Плюшкину), либо утратившие индивидуальные черты и ставшие своего рода предметами серийного выпуска (подобно Добчинскому и Бобчинскому), либо превратившие себя в устройства для копирования бумаг (подобно Акакию Акакиевичу). Известно, Гоголь глубоко страдал оттого, что у него получались такие «образины», а не позитивные назидательные герои. Фактически он довел себя этим страданием до сумасшествия. Но ничего не мог с собой поделать.
Известно, Гоголь глубоко страдал оттого, что у него получались такие «образины», а не позитивные назидательные герои. Фактически он довел себя этим страданием до сумасшествия. Но ничего не мог с собой поделать.
Гоголь всегда восхищался «Одиссеей» Гомера, величавой красотой поступков ее героев, с необыкновенной теплотой писал о Пушкине, его умении показать все великое в человеке. И тем тяжелее чувствовал себя в заколдованном кругу своих ничтожных, покрытых сверху смехом, но внутри мертвецки мрачных образов.
Гоголь пытался найти и показать что-то положительное, светлое в людях. Говорят, во втором томе «Мертвых душ» он несколько преобразил известные нам персонажи, но вынужден был сжечь рукопись — оказался не в силах оживить своих героев. Интереснейший феномен: страдал, страстно хотел изменить, улучшить, но, при всей одаренности, не мог этого сделать.
Одинаково мучительна личная судьба Достоевского и Гоголя — судьба гения. Но если первый, пройдя через глубочайшие страдания, сумел увидеть суть человека в активно сопротивляющейся давлению мира душе, то второй обнаружил лишь бездушную, но целенаправленно действующую «образину». Часто говорят, что персонажи Гоголя — от демона. Но, может быть, Создатель через гениальность писателя решил показать, каким будет человек, утративший искру Божию, ставший законченным продуктом демонизации (читай — рационализации) мира? Провидению было угодно на пороге эры научно-технического прогресса предупредить человечество о глубинных последствиях грядущих действий.
Часто говорят, что персонажи Гоголя — от демона. Но, может быть, Создатель через гениальность писателя решил показать, каким будет человек, утративший искру Божию, ставший законченным продуктом демонизации (читай — рационализации) мира? Провидению было угодно на пороге эры научно-технического прогресса предупредить человечество о глубинных последствиях грядущих действий.
Невозможно изобразить в виде однозначной, мертвой схемы искреннего человека, представить его жизнь всегда безоблачной и счастливой. В нашем мире он вынужден волноваться, сомневаться, в мучениях искать решения, винить себя в происходящем, переживать за других людей, заблуждаться, ошибаться… и неизбежно страдать. И только со «смертью» души человек обретает некую устойчивость — становится всегда расчетливым, хитрым, готовым лгать и лицедействовать, ломать все преграды на пути к цели или для удовлетворения страсти. Этот господин уже не знает сопереживания, никогда не чувствует себя виноватым, готов видеть и в окружающих таких же лицедеев, каков сам. С гримасой превосходства смотрит он на всех сомневающихся — от Дон Кихота и князя Мышкина до своих современников. Ему непонятна польза сомнения.
С гримасой превосходства смотрит он на всех сомневающихся — от Дон Кихота и князя Мышкина до своих современников. Ему непонятна польза сомнения.
Достоевский был убежден, что человек изначально добр. Зло в нем вторично — жизнь делает его злым. Он и показал раздваивающегося от этого и, как следствие, безмерно страдающего человека. Гоголю остались «вторичные» люди — законченные продукты неуклонно формализующейся жизни. В итоге он дал персонажи, в большей мере ориентированные не на его время, а на грядущее столетие. Поэтому и живучи «гоголевские мертвецы». Совсем не многое требуется, чтобы придать им вид вполне нормальных современных людей. Еще Гоголь заметил: «Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми».
ЧТО СТАЛО ИДЕАЛОМ ХХ ВЕКА?
У Достоевского, при всем его интересе к живым людям, тоже есть один герой полностью «без души». Он — словно разведчик из другого времени, из приближающегося нового века. Это — социалист Петр Верховенский в «Бесах». Писатель через этого героя тоже дает прогноз на грядущее столетие, предсказыва ет эпоху борьбы с душевной активностью и расцвета «бесовщины».
Это — социалист Петр Верховенский в «Бесах». Писатель через этого героя тоже дает прогноз на грядущее столетие, предсказыва ет эпоху борьбы с душевной активностью и расцвета «бесовщины».
Социальный реформатор, «благодетель» человечества, стремящийся силой привести всех к счастью, Верховенский видит будущее благополучие людей в том, чтобы разделить их на две неравные части: одна десятая часть будет господствовать над девятью десятыми, которые через ряд перерождений утратят стремление к свободе и духовное достоинство. «Мы уморим желание, — провозглашает Верховенский, — мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство». Такой проект он считает единственно возможным в деле устроения «земного рая». Для Достоевского этот герой из тех, кого цивилизация сделала «гаже и кровожаднее «. Однако именно такого рода твердость и последовательность в достижении цели любой ценой станут идеалом XX века.
Как пишет Н. А. Бердяев в статье «Гоголь в русской революции», была вера, что «революционная гроза очистит нас от всякой скверны». Но оказалось, революция только оголила, сделала повседневным то, что Гоголь, мучаясь за своих героев, стыдливо прикрывал налетом смеха, иронии. По словам Бердяева, «сцены из Гоголя разыгрываются на каждом шагу в революционной России». Нет самодержавия, а страна полна «мертвыми душами». «Повсюду маски и двойники, гримасы и клочья человека, нигде нельзя увидеть ясного человеческого лика. Все строится на лжи. И уже нельзя понять, что в человеке истинное, что ложное, фальшивое. Все, пожалуй, фальшивое».
Но оказалось, революция только оголила, сделала повседневным то, что Гоголь, мучаясь за своих героев, стыдливо прикрывал налетом смеха, иронии. По словам Бердяева, «сцены из Гоголя разыгрываются на каждом шагу в революционной России». Нет самодержавия, а страна полна «мертвыми душами». «Повсюду маски и двойники, гримасы и клочья человека, нигде нельзя увидеть ясного человеческого лика. Все строится на лжи. И уже нельзя понять, что в человеке истинное, что ложное, фальшивое. Все, пожалуй, фальшивое».
И это — беда не только России. На Западе Пикассо художественно изображает тех
же нелюдей, которых видел Гоголь. Им же подобны «складные чудовища кубизма».
В общественной жизни всех цивилизованных стран пышно расцветает «хлестаковщина»
— особенно в деятельности политических лидеров любого уровня и толка. Homo Sovetikus
и Homo Ekonomikus не менее уродливы в своей однозначности, «одномерности», чем
гоголевские «образины». Можно с уверенностью сказать — они не от Достоевского. Современные «мертвые души» стали лишь образованнее, научились хитрить, улыбаться,
умно говорить о делах. Но они — бездушны.
Современные «мертвые души» стали лишь образованнее, научились хитрить, улыбаться,
умно говорить о делах. Но они — бездушны.
Поэтому уже не кажется преувеличением описанный известным американским публицистом Э. Шостромом в книге «Анти-Карнеги…» инструктаж, проводимый опытным мексиканцем среди своих земляков, впервые выезжающих в США: «Американцы — прекраснейшие люди, но есть один момент, который их задевает. Вы не должны говорить им, что они трупы». По мнению Э. Шострома, здесь — предельно точное определение «болезни» современного человека. Он — мертв, он — кукла. Его поведение действительно очень похоже на «поведение» зомби. У него серьезные трудности с эмоциями, сменой переживаний, способностью жить и реагировать на происходящее по принципу «здесь и теперь», менять решения и вдруг, неожиданно даже для себя, без всякого расчета, ставить свое «хотение» превыше всего.
«Истинной сущностью XX века
является рабство».
Альбер Камю
Н. В. Гоголь показал жизнь «человека в футляре» задолго до того, как мыслители XX века вдруг обнаружили, что душевный мир их современников все больше и больше оказывается как бы запертым в «клетке» однозначных убеждений, опутанным сетями навязанных установок.
В. Гоголь показал жизнь «человека в футляре» задолго до того, как мыслители XX века вдруг обнаружили, что душевный мир их современников все больше и больше оказывается как бы запертым в «клетке» однозначных убеждений, опутанным сетями навязанных установок.
Образ Руси-тройки у Н.В. Гоголя («Мертвые души») и Ф.М. Достоевского («Братья Карамазовы»). — доклад на конференции
В связи с техническими работами в центре обработки данных, возможность загрузки и скачивания файлов временно недоступна.
скрыть
Образ Руси-тройки у Н.В. Гоголя («Мертвые души») и Ф.М. Достоевского («Братья Карамазовы»). доклад на конференции
- Автор: Криницын А.Б.
- Всероссийская Конференция : Всероссийская научная конференция «Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: история и современность. К 175-летию со дня выхода в свет»
- Даты проведения конференции: 11-12 мая 2017
- Дата доклада: 11 мая 2017
- Тип доклада: Устный
- Докладчик: Криницын Александр Борисович
- Место проведения:
Москва, филологический факультет МГУ им.
 М.В. Ломоносова, Россия
М.В. Ломоносова, Россия - Аннотация доклада:
В докладе вначале разбирается философско-культурологический смысл символа Руси-тройки в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя – как русского логоса, символа Руси ноуменальной (духовная сущность, «непостижимая, тайная сила», душа России), знака ее культурно-цивилизационного мессианского предназначения (Русь становящееся, будущая), а затем показывается, как Достоевский выстраивает свою преемственность с Гоголем, пользуясь данным символом для концепирования русского национального характера на примере семьи Карамазовых. На суде над Дмитрием Карамазовым прокурор завершает свою речь метафорой Руси-тройки как несущейся в «бешеной, беспардонной скачке», которую неизбежно будут вынуждены «прервать» «цивилизованные народы» Европы в целях «самосохранения». Достоевский возмущается либеральной карикатурой образа Руси-тройки в устах прокурора и адвоката, но соглашается с его исходной верностью. Метафизические черты гоголевского символа ложатся в основу определения «карамазовщины» как «русской натуры» с ее «широтой», страстью во всем до «последних пределов доходить» и переходить «последнюю черту», а русская любовь к «быстрой езде» у Гоголя оборачивается тягой к стремительному полету и падению у героев Достоевского.
 В докладе рассматривается, насколько последовательно Достоевский воспроизводит «русскую метафизику» Гоголя, придавая ей роковой, катастрофический пафос, но сохраняя ее мессианскую интенцию.
В докладе рассматривается, насколько последовательно Достоевский воспроизводит «русскую метафизику» Гоголя, придавая ей роковой, катастрофический пафос, но сохраняя ее мессианскую интенцию. - Доклад на конференции выполнен в рамках проекта (проектов):
- Формирование организационной структуры, научной проблематики и форм проведения научных конференций, симпозиумов, круглых столов, посвященных актуальным проблемам истории русской литературы
- Изучение внутренних механизмов русского литературного процесса в его связях с историей идей, политических проектов, литературным бытом
- Добавил в систему: Криницын Александр Борисович
Открывая Гоголя в «Продюсерах» Мела Брукса
Джозеф Пакетт
Блум и Белосток в «Продюсерах» Чичаков и Собакевич: Иллюстрация к «Мертвым душам» Александра Агина Преданность публики, критиков и киноиндустрии закрепил наследие Мела Брукса как одного из лучших комиков в истории американского кинематографа. Он часто является объектом исследований СМИ, и успех его недавних мемуаров свидетельствует о его непреходящей популярности в массовой культуре. Но какие работы сформировали Мела Брукса? За свою карьеру Брукс неоднократно указывал на русскую литературу как на главный источник вдохновения. Его первый фильм, Продюсеры , содержит десятки аллюзий на мировую литературу. Некоторые из них явно очевидны, например, роль Джина Уайлдера в роли Лео Блума, чей коррумпированный партнер Бялисток тихо называет «князем Мышкиным», главным героем романа Достоевского « Идиот ».
Он часто является объектом исследований СМИ, и успех его недавних мемуаров свидетельствует о его непреходящей популярности в массовой культуре. Но какие работы сформировали Мела Брукса? За свою карьеру Брукс неоднократно указывал на русскую литературу как на главный источник вдохновения. Его первый фильм, Продюсеры , содержит десятки аллюзий на мировую литературу. Некоторые из них явно очевидны, например, роль Джина Уайлдера в роли Лео Блума, чей коррумпированный партнер Бялисток тихо называет «князем Мышкиным», главным героем романа Достоевского « Идиот ».
В своих мемуарах Брукс рассказывает, как чтение Гоголя в начале 1950-х стало «откровением» для его художественного мировоззрения. Это самое интегральное влияние на The Producers получает не пасхальные яйца, а элементы Deal Souls можно найти в структуре фильма. Тем не менее, похоже, никто не обсуждал, как фильм 1968 года заимствует из романа. Скупой главный герой Макс Бялисток сформирован как более развратная версия Чичикова. Он льстит и почтителен ко всем, кто имеет более высокий статус, но ехидничает к большинству ниже его. Он очарователен, но не стесняется бросить любого, чья полезность заканчивается. Он озлоблен на мир после постыдного грехопадения. Он взрывается, кричит и топает ногами персонажей, которые не верят в его планы. Он надеется произвести впечатление на других персонажей каждым своим движением. Для Белостока и Чичикова жизнь — это игра, и побеждает тот, кто загребет больше денег.
Он льстит и почтителен ко всем, кто имеет более высокий статус, но ехидничает к большинству ниже его. Он очарователен, но не стесняется бросить любого, чья полезность заканчивается. Он озлоблен на мир после постыдного грехопадения. Он взрывается, кричит и топает ногами персонажей, которые не верят в его планы. Он надеется произвести впечатление на других персонажей каждым своим движением. Для Белостока и Чичикова жизнь — это игра, и побеждает тот, кто загребет больше денег.
Для главных героев Брукса и Гоголя их последний бой — это отчаянная ложь — Я никогда больше этого не повторю, мистер, пока жив — за которой следует немедленный поворот к жадности, питающей сюжет. Их недостатки проверяют каждый слой Inferno. Они объедаются, завидуют, вожделевают блондинок помоложе, обманывают, лгут, а потом снова лгут. Они растягивают и рвут ткань общества в поисках своей доли. Возможно, в аморальности столько же возможностей для комедии, сколько в глупости или некомпетентности. Возможно, в идеально комедийном повествовании персонажи в конечном итоге не могут исправить свои недостатки. Скорее, их поведение будет отклоняться от прямого пути.
Скорее, их поведение будет отклоняться от прямого пути.
Неудивительно, ведь известно, что Dead Souls сама по себе построена по мотивам Данте Comedia .[1] Возможно, в аморальности столько же возможностей для комедии, сколько в глупости или некомпетентности. Смех возникает из оппозиции или пародии на наши самые стойкие идеи и убеждения, поэтому наглая безнравственность преуспевает в создании комедийных эффектов. Суммы, меняющие жизнь, являются целью длинного списка знаковых персонажей Толстого, Достоевского и Гоголя. Что значит гнаться за деньгами? Юмор жадности можно заставить взаимодействовать с крайними крайностями — нет предела тому, сколько можно накопить, и нет ни одного низшего человечества, которого бы не коснулись деньги. Или товары. Или доступ. Нет более подходящего средства, чем жадность, чтобы привести персонажей в причудливые места, иметь дело с людьми, с которыми они никогда не хотели бы иметь дело, и делать то, что они никогда бы не сделали. Кроме того, жадный шут может сатирически представлять полифонию точек зрения, потому что жадный шут изменит свое слово или убеждения — мгновенно и / или абсолютно — в зависимости от того, что служит их интересам. И они будут менять свои идеи с полной искренностью, потому что они эксплуатируют идеологии с искренней целью наживы, которой желают.
И они будут менять свои идеи с полной искренностью, потому что они эксплуатируют идеологии с искренней целью наживы, которой желают.
Жадность — мотив главного героя или антагониста во всех фильмах Брукса, кроме «Молодой Франкенштейн». Это потому, что ни один сценарий, даже любовная погоня, не является более благодатным для комедии, чем погоня за напрасным состоянием. В любви есть благородство. В жадности нет ничего искупительного. (За исключением, пожалуй, американских нарративов, которые делают жадность еще лучшим двигателем американской сатиры.) Если неудачник достигает своей цели, зрители вздыхают с облегчением и предвкушают конец фильма. Если двурушник достигает своей цели, аудитория чувствует себя мстительной, и конец только начинается. Падение приближается. Сюжет открывается мечтой о богатстве. В конце концов, деньги, которые есть у жалких персонажей, исчезнут, как мираж.
Для того, чтобы неудачи хорошей комедии обрушились на сочувствующего главного героя, было бы слишком много. Эффект будет истощать, даже угнетать. Белосток и Чичиков — насмешливая инверсия героя. Белосток, шепчущий на ухо Блуму о деньгах и власти, пока они смотрят на Манхэттен с крыши небоскреба, исполняет роль самого Сатаны.[2] Безнравственный, эгоистичный главный герой создает пространство между трагедией и трагедией трагедии. Без этой комнаты в страдании мало смеха. Идеальный герой избавляется от бремени мира и служит высшему благу. Его хорошие качества делают его трагедию катарсисом, а его гамартия является исключением, уроком того, что такое недостаток. Мое мнение немного своевольно, но я думаю, что абсолютный шут — полная противоположность. Их приятные действия являются исключением; они эгоистичны, манипулятивны, нечестны до бесконечности.
Эффект будет истощать, даже угнетать. Белосток и Чичиков — насмешливая инверсия героя. Белосток, шепчущий на ухо Блуму о деньгах и власти, пока они смотрят на Манхэттен с крыши небоскреба, исполняет роль самого Сатаны.[2] Безнравственный, эгоистичный главный герой создает пространство между трагедией и трагедией трагедии. Без этой комнаты в страдании мало смеха. Идеальный герой избавляется от бремени мира и служит высшему благу. Его хорошие качества делают его трагедию катарсисом, а его гамартия является исключением, уроком того, что такое недостаток. Мое мнение немного своевольно, но я думаю, что абсолютный шут — полная противоположность. Их приятные действия являются исключением; они эгоистичны, манипулятивны, нечестны до бесконечности.
К шутам тоже есть сочувствие, даже к почти идеальным шутам. Персонажа можно пожалеть за его почти полное искажение целостности. Чичиков и Белосток просто жалкие. В их просьбах нет ни самосознания, ни иронической чувствительности. Так что зрители должны давать им совесть и, следовательно, чувствовать свое превосходство над персонажами, и поэтому не должно чувствоваться вины, смеясь над их злым поведением и их несчастьями.
Обратное мошенничество — это не просто шаблонная комедия, переворачивающая все с ног на голову. Переворачивание иерархий и игра в возникающем хаосе — фундаментальная характеристика жанра менипповой сатиры, помещающая сценарий Брукса (который превзошел сценарий Артура Кларка)0006 2001: Космическая одиссея за написание Оскара) в разговоре с великими мировыми сатирическими произведениями. Традиция Данте, Гоголя и Достоевского в «Мениппее» не ценилась в американских ученых до тех пор, пока работа Бахтина не была переведена в 1980-х годах. И все же Брукс вступил в эту традицию в 1968 году, будучи естественным гением комедийного жанра, созданным русской литературой. И ни один художник не был для Брукса более важен лично, чем Гоголь.
Джозеф Пакетт учится на старшем курсе, изучает английскую литературу и историю. Его творчество и научно-популярную литературу можно увидеть на сайте joeypuckett.com 9.0003
[1] Бахтин, Диалогическое воображение , с. 102. University of Texas Press: 1982
University of Texas Press: 1982
[2] Мэтт, Библия, 4:5.
Мысли о страстях, скуке и доброте из гоголевских «Мертвых душ»
Долго читал «Мертвые души» Николая Гоголя. Должен признаться, я не получил такого удовольствия от чтения, как от романов Достоевского. Это с моей стороны предвзятость, наверное, потому что я фанат Достоевского. С трудом дочитала этот роман до конца.
Тем не менее, я рад, что дочитал его, хотя сам роман обрывается на середине предложения.
Здесь я хотел бы поделиться некоторыми строками, которые я выделил, и почему они меня поразили.
«Ибо человеческие страсти так же бесчисленны, как песок на берегу моря, и становятся его самыми настойчивыми хозяевами. Поэтому счастлив тот человек, который может выбрать из всего многообразия человеческих страстей одну благородную!»Ошибка Павла Ивановича Чичикова, главного героя, состоит в том, что он избрал гнусную страсть жадности, желания гораздо большего, чем имеет, и делает все, что может, даже если и неправильно, лишь бы вырваться вперед.

Да, человеку свойственно желать, но не все, что мы желаем, может быть нашим. Вот почему чаще всего не стоит просто делать «все, что делает вас счастливым». Если каждый из нас просто будет делать то, что делает нас счастливыми, будем ли мы все счастливы? Кто-то обязательно заплачет.
Это не значит, что нельзя быть счастливым, не причиняя вреда другим людям. Наоборот, есть много вещей, которые могут сделать человека счастливым и совершенно не причинят вреда другим, но есть несколько вещей, которые наверняка причинят вред другим, о которых человек заботится, если он эгоистично следует желаниям своего сердца. Думаю, каждый человек сталкивался с такой дилеммой.
«Усталость от всего — современное изобретение. Когда-то об этом никто и не слышал».Платон Михалыч — молодой и богатый помещик, уставший от жизни. Он находит жизнь и работу скучными. Он навещает своего соседа Петра Петровича Пьетуха, которого раздражает, потому что тот всегда весел и думает, что бы поесть дальше, а он, Платон, всегда мрачен.

Я могу понять усталость от жизни, и если бы у меня был выбор между долгой и короткой жизнью, я бы выбрал последнее (до тех пор, пока мой сын не сможет жить самостоятельно). Однако, поскольку у меня все еще есть жизнь и способность двигаться, я могу придумать так много вещей, которые можно сделать. Проблема в том, что у меня не хватает времени, чтобы сделать все, что я хочу. Поэтому я не понимаю скуки, когда я что-то делаю.
Может быть, именно потому, что людей заставляют думать, что их работа должна быть веселой, захватывающей или интересной, им становится скучно. РАБОТА есть работа. В прошлом люди обрабатывали землю, чтобы поставить еду на стол. Я не думаю, что они думали, было ли это весело или нет. Они просто сделали это.
Теперь людям не нужно так много работать, чтобы поставить еду на стол, и им становится скучно. Без труда.
Так что согласен с автором:
Усталость от всего — современное изобретение. «Поэтому, если у вас действительно нет искренней любви к добру, делайте добро, ЗАСТАВЛЯЯ себя делать это. Таким образом, вы принесете больше пользы себе, чем тому, ради кого совершается действие».
Таким образом, вы принесете больше пользы себе, чем тому, ради кого совершается действие». Эти слова Муразов сказал Чичикову после того, как тот признался в отсутствии настоящей любви к добру и желает только приобретения имущества.
Муразов — мудрый человек. Он знает, как формируются привычки. Даже добрые дела можно превратить в привычку. Точно так же, заставляя себя быть добрым к людям, которые нам не особо нравятся, мы приносим больше пользы, чем им. Как?
Со временем мы забудем, почему они нам не нравились. И если мы никого не недолюбливаем, то наши умы более спокойны. Никто не живет бесплатно в наших головах. (Ирония заключается в том, что чем больше мы не любим кого-то, тем чаще мы о нем думаем. И нет ничего более раздражающего!)
*****
Опубликовано в 1842 году,
Мертвые души предположительно «широко считаются образцом русской литературы XIX века». Но по какой-то причине я не нахожу его таким интересным, заставляющим задуматься или трогательным, как 9.
