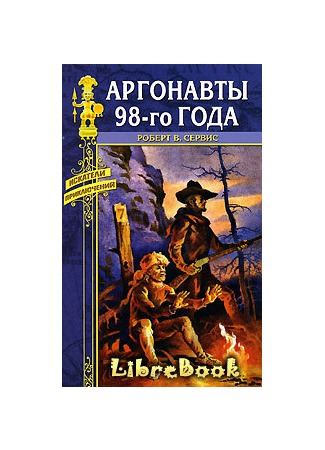Читать онлайн «Аргонавты», Мэгги Нельсон – ЛитРес
Перевод Михаила Захарова
Редакторка: Анастасия Каркачёва
Корректрисы: Виктория Зенчук, Юля Кожемякина
Верстка: Владимир Вертинский
Адаптация обложки: Юля Попова
Техническая редакторка: Лайма Андерсон
Издательница: Александра Шадрина
The Argonauts
Copyright © 2015 by Maggie Nelson
All rights reserved.
© Михаил Захаров, перевод, 2021
© Издание на русском языке, оформление. No Kidding Press, 2021
⁂
Посвящается Гарри
Октябрь 2007-го. Ветер Санта-Ана срывает с эвкалиптов длинные белые полосы коры. Мы с подругой рискуем жизнью, обедая на улице, и она предлагает мне набить на костяшках слово «НЕДОТРОГА» – напоминание о том, какие плоды приносит эта поза. Но едва ты вставляешь мне в зад на сыром полу своей славной холостяцкой берлоги, я, уткнувшись лицом в бетон, выплевываю заклинание – признание в любви. На прикроватном столике у тебя «Моллой», а в темной и сухой душевой кабинке – штабель дилдо. Что может быть лучше? «Как тебе нравится?» – спрашиваешь ты и задерживаешься в ожидании ответа.
На прикроватном столике у тебя «Моллой», а в темной и сухой душевой кабинке – штабель дилдо. Что может быть лучше? «Как тебе нравится?» – спрашиваешь ты и задерживаешься в ожидании ответа.
Всю жизнь до нашего знакомства меня не отпускала мысль Витгенштейна о невыразимом, которое (невыразимо) содержится в выраженном. Эта мысль менее популярна, чем благоговейное о чем невозможно говорить, о том следует молчать[1], но, как мне кажется, более глубока. Ее парадокс буквально в следующем: зачем я пишу
Ибо она не подпитывает и не сгущает тревогу вокруг невозможности выразить словами то, что им неподвластно. Она не требует от произносимого быть тем, чем оно по определению быть не может. Не делает она и уступок, не приободряет: О, можно было бы столько сказать, если б хватило слов! Слов всегда хватает.
Напрасно невод в брешах упрекать, гласит моя энциклопедия.
Таким образом, можно не только подмести замусоренный пол пустой церкви, но и заставить сиять красивые витражи под сводами. Потому что невозможно поднасрать словом в пространстве, предназначенном для Бога.
Потому что невозможно поднасрать словом в пространстве, предназначенном для Бога.
Я всё это уже проговорила где-то еще, но теперь пытаюсь сказать что-то новое.
Вскоре я выяснила, что тебя точно так же всю жизнь не отпускало убеждение, что слов всегда не хватает. Что их не просто не хватает, но они разъедают всё лучшее, настоящее, текучее. Мы много об этом спорили, с жаром, но беззлобно. Когда мы даем вещам имена, говоришь ты, мы начинаем видеть их иначе. Всё неименуемое отпадает, теряется, погибает – так уж работает наш заурядный мозг. Ты говоришь, что к этой ясности тебя привел не отказ от языка, а глубокое в него погружение: на экране, в разговоре, на сцене, в тексте. Мои доводы были в духе воззрений Томаса Джефферсона на церкви: да здравствует изобилие, калейдоскопический вихрь, переизбыток [2]. Я настаивала: слова не только именуют. Я зачитала вслух начало «Философских исследований». Плита, вскричала я, плита![3]
Я было решила, что выиграла. Ты не прочь допустить существование неплохого человека, неплохого человеческого животного, даже если человеческое животное пользуется языком, даже если сама способность пользоваться языком определяет его человечность – даже если человечность как таковая подразумевает погром и испепеление нашей бесконечно разнообразной, бесценной планеты, а также ее – нашего – будущего.
Ты не прочь допустить существование неплохого человека, неплохого человеческого животного, даже если человеческое животное пользуется языком, даже если сама способность пользоваться языком определяет его человечность – даже если человечность как таковая подразумевает погром и испепеление нашей бесконечно разнообразной, бесценной планеты, а также ее – нашего – будущего.
Но и я изменилась: по-новому взглянула на неименуемые вещи или, по крайней мере, на те, чья сущность в мерцании, текучести. Я вновь признала, как грустно, что мы рано или поздно вымрем, и как несправедливо, что из-за нас вымрут и другие; перестала самодовольно повторять: Всё, что вообще мыслимо, можно мыслить ясно [Людвиг Витгенштейн], – и заново задалась вопросом, мыслимо ли всё.
А ты – едва ли тебе был знаком деланный комок в горле. Всегда на милю впереди, с потоком слов в кильватере. Как могла я догнать тебя? (Иными словами, откуда вообще взялось твое желание ко мне?)
Назавтра или через день после признания в любви, обуреваемая новой уязвимостью, я отправила тебе фрагмент из «Ролана Барта о Ролане Барте», в котором Барт сопоставляет субъекта, который произносит «я люблю тебя», и аргонавтов, которые «в ходе плавания обновляли свой корабль, не меняя его имени» [4]. Даже если все части заменены, Арго всё равно зовется Арго; так и значение слов «я люблю тебя» должно постоянно обновляться, поскольку «работа любви и речи именно в том, чтобы всякий раз придавать одной и той же фразе новые модуляции».
Даже если все части заменены, Арго всё равно зовется Арго; так и значение слов «я люблю тебя» должно постоянно обновляться, поскольку «работа любви и речи именно в том, чтобы всякий раз придавать одной и той же фразе новые модуляции».
Я сочла этот фрагмент романтичным, а тебе в нем привиделся намек на отступление. Оглядываясь назад, скажу, что правы оказались мы оба.
У тебя получилось пробить мое одиночество, сказала я тебе. Одиночество было продуктивным и зиждилось на недавно обретенной трезвости, длинных прогулках до спортзала и обратно по заросшим бугенвиллиями переулкам Голливуда, катании по Малхолланд-драйв, которым я коротала долгие ночи, и, естественно, маниакальных приступах письма, когда я училась не обращаться к кому-то конкретному. Но время пробить его пришло. Думаю, я могу поделиться всем, не жертвуя собой, прошептала я тебе на кровати в подвале. Такие плоды приносит одиночество, если им правильно распорядиться.
Пару месяцев спустя мы вместе отметили Рождество в отеле в центре Сан-Франциско. Я забронировала для нас номер через интернет в надежде, что за мои старания и благодаря совместно проведенному времени ты полюбишь меня навсегда. Дешевизна отеля, как выяснилось, объяснялась отвратительно шумным ремонтом и расположением в самом сердце героинового Тендерлойна. Ну и пускай – у нас были другие дела. Солнце пробивалось сквозь крысиного цвета жалюзи, за которыми грохотали рабочие, а мы приступили к делу. Только не убей меня, сказала я, когда в твоих руках (улыбка) оказался кожаный ремень.
Я забронировала для нас номер через интернет в надежде, что за мои старания и благодаря совместно проведенному времени ты полюбишь меня навсегда. Дешевизна отеля, как выяснилось, объяснялась отвратительно шумным ремонтом и расположением в самом сердце героинового Тендерлойна. Ну и пускай – у нас были другие дела. Солнце пробивалось сквозь крысиного цвета жалюзи, за которыми грохотали рабочие, а мы приступили к делу. Только не убей меня, сказала я, когда в твоих руках (улыбка) оказался кожаный ремень.
За Бартом последовала еще одна попытка – стихотворение Майкла Ондатже:
Целую живот
целую покрытую шрамами
лодочку твоей кожи. История –
вот что: ты на ней приплыла
и дальше несешь с собой
И тебя, и меня в живот
целовали разные
кого второй и не знает
И вот что
я благословляю каждого
кто тебя целовал сюда[5]
Я отправила этот фрагмент не потому, что достигла той же умиротворенности, а в надежде, что однажды смогу ее достичь – что ревность схлынет и я смогу без отчуждения и отвращения лицезреть имена и образы других, нанесенные на твою кожу. (На одном из первых свиданий мы заглянули к «доктору Татоффу»[6] на бульвар Уилшир – у обоих от перспективы разделаться с прошлым кружилась голова. Из салона мы вышли огорченные – прейскурантом и невозможностью полностью вывести пигмент.)
(На одном из первых свиданий мы заглянули к «доктору Татоффу»[6] на бульвар Уилшир – у обоих от перспективы разделаться с прошлым кружилась голова. Из салона мы вышли огорченные – прейскурантом и невозможностью полностью вывести пигмент.)
После обеда подруга, посоветовавшая «НЕДОТРОГУ», проводит меня в свой офис и предлагает погуглить тебя за меня – проверить в интернете, какое местоимение ты предпочитаешь, ведь, вопреки или, скорее, благодаря тому обстоятельству, что мы каждую минуту свободного времени проводим в постели и уже планируем съезжаться, я до сих пор не задала тебе этот вопрос. Наоборот, я быстро научилась избегать местоимений. Секрет в том, чтобы перестать раздражаться от бесконечного повторения одного и того же имени, научиться прятаться в грамматических тупиках, отдаться упоению конкретикой. Необходимо принять существование чего-то за рамками Двоицы, особенно когда вы пытаетесь быть образцовыми партнерами – тем более супругами.
 Бинарных оппозиций – вопрос – ответ, мужское – женское, человек – животное и т. д. – больше нет. Этим, вероятно, и является разговор – наброском становления [Жиль Делёз / Клер Парне].
Бинарных оппозиций – вопрос – ответ, мужское – женское, человек – животное и т. д. – больше нет. Этим, вероятно, и является разговор – наброском становления [Жиль Делёз / Клер Парне].
Но, как бы я ни преуспела в таком разговоре, я до сих пор не могу без стыда или неловкости покупать авиабилеты на двоих или от лица нас обоих вести переговоры с отделом кадров. Дело не в собственном стыде или неловкости – скорее мне стыдно за тех, кто выносит неверные суждения и кого вопреки раздражению приходится поправлять, – но как их поправишь, ведь слов не хватает.
Как вообще слов может не хватать?
Изголодавшаяся по любви, я лежу на полу в кабинете моей подруги и искоса наблюдаю за тем, как она скроллит бесконечный светящийся массив ненужной мне информации. Я хочу тебя вне знания других о тебе, хочу, чтобы мне никогда не приходилось прибегать к третьему лицу. «Смотри, цитата Джона Уотерса. Говорит: „Она огонь“. Наверное, тебе стоит говорить „она“. Блин, Джон Уотерс фигни не скажет». Это было давно, говорю я, поднимая взгляд от пола. Всё могло измениться.
Это было давно, говорю я, поднимая взгляд от пола. Всё могло измениться.
Работая над буч-бадди-муви «Суком или крюком»
В начале отношений мы посетили званый ужин, на котором давняя знакомая Гарри (предположительно, гетеросексуальная или, по крайней мере, состоящая в гетеросексуальном браке) повернулась ко мне и спросила: «А у тебя до Гарри были другие женщины?» Я опешила. «Гетеро всегда были от Гарри без ума», – без тени смущения продолжила она. А женщина ли Гарри? И гетеро ли я? Что общего у моих прежних отношений с «другими женщинами» с нынешним романом? Зачем мне знать, что другие «гетеро» без ума от моего Гарри? Неужели он околдовал меня своей сексуальной энергией – колоссальной, как я уже поняла, – и вскоре отправится соблазнять других, бросив меня одну? Почему эта женщина, которую я едва знаю, так со мной разговаривает? Когда, наконец, Гарри вернется из туалета?
Многих раздражает, что Джуна Барнс предпочитала говорить: «Я просто люблю Тельму», – вместо того, чтобы открыто признать свою гомосексуальность. Похожие слова (пускай и не точь-в-точь) Гертруда Стайн говорила об Элис.
А кроме того, все знают, что у Барнс и Стайн были женщины, помимо Тельмы и Элис. Знала об этом и сама Элис: по-видимому, она так обезумела от ревности, когда выяснила, что в раннем романе Q. E. D. Стайн зашифровала рассказ о своей интрижке с некой Мэй Букстейвер, что, редактируя и набирая на печатной машинке тексты Стайн, навострилась избавляться от слов may и май[8], став таким образом невольным соавтором «Стансов в размышлениях».
E. D. Стайн зашифровала рассказ о своей интрижке с некой Мэй Букстейвер, что, редактируя и набирая на печатной машинке тексты Стайн, навострилась избавляться от слов may и май[8], став таким образом невольным соавтором «Стансов в размышлениях».
В феврале я уже колесила по городу, пытаясь найти для нас и твоего сына, с которым мне еще только предстояло познакомиться, достаточно большую квартиру. Наконец мы нашли дом на холме – с глянцевым темным паркетом, видом на гору и неприлично завышенной арендной платой. Получив ключи, мы в тот же вечер в ребяческом восторге постелили тонкое одеяло на паркете нашей будущей первой спальни.
Гора. Поросшая колючками, со стоячим водоемом на верхушке, но на целых два года – наша гора.
И вот я уже складываю в стопку стираные вещи твоего сына. Ему только что исполнилось три. Такие маленькие носочки! Такие крохотные трусики! Я изумлялась им, грела ему каждое утро какао – не очень горячий, порошка с ноготок – и часами напролет играла с ним в павшего воина.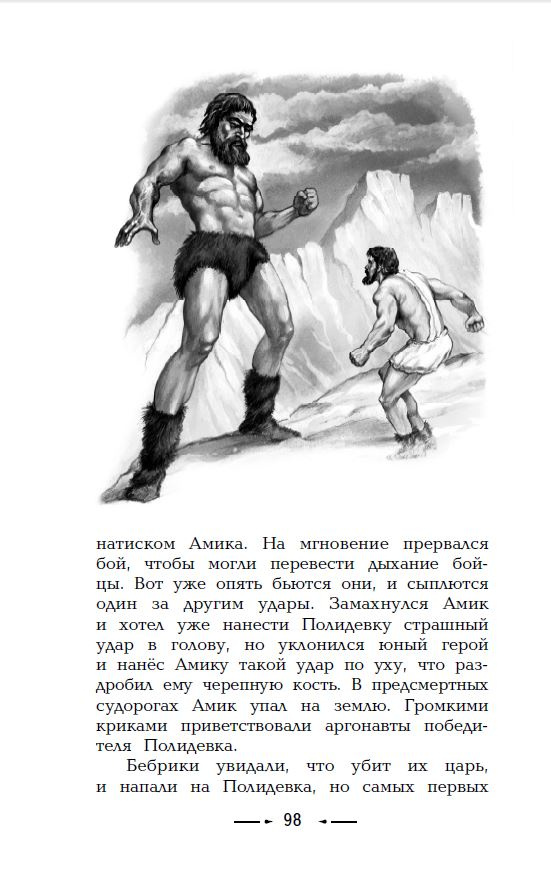 Игра заключалась в том, что он падал без чувств со всей своей амуницией: кольчужным капюшоном, мечом, ножнами – и раненой рукой, перевязанной шарфом, а я была доброй Синей колдуньей, с ног до головы осыпавшей его целебной пылью, чтобы вернуть к жизни. У меня была злобная сестра-близнец; она валила его с ног своим ядовитым голубым порошком. Но на сей раз я его лечила. Он лежал без движения, закрыв глаза и чуть улыбаясь, а я произносила монолог: Откуда появился сей солдат? Что привело его сюда – в такую даль? Как сильно ранен он? Коли проснется – будет мил, свиреп? Поймет ли он, что я на стороне добра, – или решит, что я – моя сестра? Что сделать мне, чтоб к жизни возвратить его?
Игра заключалась в том, что он падал без чувств со всей своей амуницией: кольчужным капюшоном, мечом, ножнами – и раненой рукой, перевязанной шарфом, а я была доброй Синей колдуньей, с ног до головы осыпавшей его целебной пылью, чтобы вернуть к жизни. У меня была злобная сестра-близнец; она валила его с ног своим ядовитым голубым порошком. Но на сей раз я его лечила. Он лежал без движения, закрыв глаза и чуть улыбаясь, а я произносила монолог: Откуда появился сей солдат? Что привело его сюда – в такую даль? Как сильно ранен он? Коли проснется – будет мил, свиреп? Поймет ли он, что я на стороне добра, – или решит, что я – моя сестра? Что сделать мне, чтоб к жизни возвратить его?
Той осенью повсюду, как сорняки, появлялись знаки «ГОЛОСУЙ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8»[9], самый вопиющий из которых воткнули в прекрасную лысую гору, мимо которой я проходила каждый день по дороге на работу. На знаке были изображены четыре фигуры из палочек, воздевшие руки к небу в пароксизме радости – гетеронормативной, надо думать, поскольку одна из них была в треугольной юбке. (Что это, вообще, за треугольник такой? Моя пизда? [Айлин Майлз]) «ЗАЩИТИТЕ ДЕТЕЙ КАЛИФОРНИИ!» – весело призывали человечки.
(Что это, вообще, за треугольник такой? Моя пизда? [Айлин Майлз]) «ЗАЩИТИТЕ ДЕТЕЙ КАЛИФОРНИИ!» – весело призывали человечки.
Каждый раз, проходя мимо знака, воткнутого в ни в чем не повинную гору, я вспоминала снимок Кэтрин Опи «Автопортрет/Самопорезание»[10] 1993 года: Опи сфотографировала собственную спину с вырезанным на ней рисунком дома и двух женских фигур из палочек, держащихся за руки (в двух треугольных юбках!), а также солнышка, облачка и двух птичек. Когда она делала снимок, из ран еще сочилась кровь. «Опи, на момент создания работы недавно расставшаяся со своей партнершей, жаждала создать семью, и образ высвечивает всю болезненную противоречивость этого желания», – поясняет статья в Art in America.
«Не понимаю, – сказала я Гарри, – кому нужен плакат за Предложение 8, но с двумя треугольными юбками?»
Гарри пожал плечами: «Кэти, наверное».
Когда-то я написала книгу о том, как в гей-поэзии (Эшбери, Скайлер) и женской поэзии (Майер, Нотли) раскрывается тема сожительства[11]. Я написала ее, когда жила в Нью-Йорке – в малюсенькой душной мансарде на оживленной бруклинской улице, подчеркнутой линией метро F. В непригодной к использованию духовке лежало окаменелое мышиное дерьмо, холодильник, за исключением пары бутылок пива и протеиновых батончиков с арахисом и медом, был пуст, кроватью служил матрас на листе фанеры, который опасно покачивался на пластиковых ящиках из-под молочных бутылок, а сквозь пол я утром, днем и ночью слышала одно и то же «осторожнодверизакрываются». В этой квартире я в лучшем случае проводила около семи часов в день, лежа на кровати. Но чаще я спала где-нибудь еще. Большую часть того, что мне довелось написать и прочесть, я написала и прочла в публичных местах – и эти строки тоже пишу в публичном месте.
Я написала ее, когда жила в Нью-Йорке – в малюсенькой душной мансарде на оживленной бруклинской улице, подчеркнутой линией метро F. В непригодной к использованию духовке лежало окаменелое мышиное дерьмо, холодильник, за исключением пары бутылок пива и протеиновых батончиков с арахисом и медом, был пуст, кроватью служил матрас на листе фанеры, который опасно покачивался на пластиковых ящиках из-под молочных бутылок, а сквозь пол я утром, днем и ночью слышала одно и то же «осторожнодверизакрываются». В этой квартире я в лучшем случае проводила около семи часов в день, лежа на кровати. Но чаще я спала где-нибудь еще. Большую часть того, что мне довелось написать и прочесть, я написала и прочла в публичных местах – и эти строки тоже пишу в публичном месте.
Я была очень рада так долго снимать жилье в Нью-Йорке, потому что, снимая – по крайней мере, как делала это я, не ударившая и пальцем о палец, чтобы привести место в порядок, – можно позволить вещам вокруг буквально разваливаться на части. Затем, когда уже немного чересчур, просто съезжаешь.
Затем, когда уже немного чересчур, просто съезжаешь.
Многие феминистки требовали отмены модели домашнего быта как отдельной, неотъемлемо женской среды и реабилитации домашнего пространства как этического, аффективного, эстетического и публичного [Сьюзен Фрейман]. Не уверена, что конкретно подразумевается под «реабилитацией», но, сдается мне, что в своей книге я метила примерно туда же. Но уже тогда я подозревала, что занималась этим только потому, что у меня не было дома – и мне это нравилось.
Мне нравилось играть в павшего воина, потому что так я могла изучить лицо твоего сына в состоянии безмолвного покоя: его большие миндалевидные глаза, уже немного веснушчатую кожу. А он явно получал непривычное, расслабляющее удовольствие просто лежа на полу в невидимой броне, пока абсолютно незнакомая женщина, которая быстро становилась частью семьи, приподнимала и осматривала каждую его конечность, чтобы найти рану.
Недавно к нам заглянула моя подруга и взяла для кофе кружку, доставшуюся мне в подарок от матери.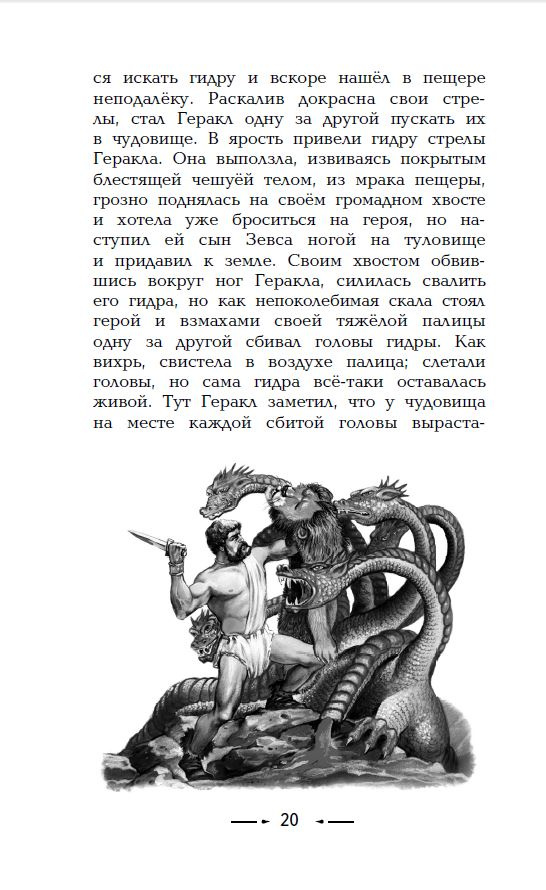 Такие кружки с любым фото на выбор можно заказать с помощью онлайн-сервиса «Снэпфиш». Я была от нее в ужасе, но это самая большая из наших кружек, так что мы решили ее оставить на случай, если кому-то захочется корыто теплого молока.
Такие кружки с любым фото на выбор можно заказать с помощью онлайн-сервиса «Снэпфиш». Я была от нее в ужасе, но это самая большая из наших кружек, так что мы решили ее оставить на случай, если кому-то захочется корыто теплого молока.
Вау, сказала моя подруга, наполняя кружку. В жизни своей не видела ничего более гетеронормативного.
На фото я со своей семьей: мы все принарядились, чтобы пойти на «Щелкунчика» на Рождество – этот ритуал был важен для моей матери, когда я была маленькой, и мы с ней решили возродить его, когда у меня появились собственные дети. Я на седьмом месяце беременности будущим Игги, у меня высокий конский хвост и леопардовое платье; Гарри и его сын, неотразимые, облачены в одинаковые черные костюмы. Мы в доме моей матери перед камином, на котором вывешены носки с нашими инициалами. Выглядим счастливыми.
Но что в этом кричит о гетеронормативности? То, что моя мать сделала кружку с помощью буржуазного «Снэпфиша»? То, что мы открыто присоединяемся (или с неохотой соглашаемся присоединиться) к давней традиции – фотографироваться семьей на праздниках во всём своем праздничном великолепии? То, что моя мать сделала мне кружку, отчасти чтобы подтвердить, что она признает мое существование и принимает мое племя в свою семью? Что насчет моей беременности – она тоже по определению гетеронормативна? Или все-таки предполагаемая оппозиция между квирностью и размножением (или, если выразиться более изящно, материнством) – это скорее реакционное принятие того, как всё устаканилось в мире квиров, чем признак некой онтологической истины? Отомрет ли предполагаемая оппозиция, если квиры будут больше рожать? Будем ли мы по ней скучать?
Разве беременность не квирна по определению, если она фундаментально изменяет «обыкновенное» состояние и предполагает радикальную близость (и радикальное разобщение) с собственным телом? Как может настолько странный, причудливый и трансформирующий опыт одновременно означать или приводить в действие самую возмутительную форму конформизма? Или это еще один способ отказать всему, что слишком тесно связано с человеческой самкой, в приближенности или принадлежности к понятиям, наделенным ценностью (в данном случае – нонконформизму или радикальности)? Но как быть с тем, что Гарри – ни мужчина, ни женщина? Я особенный – два в одном, поясняет Валентин, его персонаж в «Суком или крюком».
Когда или как новые системы родства подражают прежним установкам нуклеарной семьи и когда или как они радикально реконтекстуализируют их и переосмысляют родство [Джудит Батлер]? Где проходит граница? Или даже не так: кто ее проводит? Скажи своей подружке, пускай найдет кого-нибудь еще, с кем можно поиграть в семью, сказала твоя бывшая, когда мы съехались.
Мнить себя подлинной, подразумевая, что остальные просто прикидываются, пытаются соответствовать или подражают, – приятно. Но от любой незыблемой претензии на подлинность, особенно в контексте идентичности, недалеко и до психоза. Коль скоро человек, возомнивший себя королем, – безумец, не меньший безумец король, возомнивший себя таковым [Жак Лакан].
Возможно, именно поэтому концепция «подлинного „я“» психолога Д. В. Винникотта так меня трогает. Можно стремиться к подлинности, можно помочь другим почувствовать себя подлинными и можно почувствовать подлинным себя – это чувство Винникотт описывает как коллективное, первичное ощущение себя живым, ощущение «живых телесных функций, работы телесной ткани и органов ‹…›, включая сердечную деятельность и дыхание»[12], делающее возможными спонтанные жесты. Для Винникотта ощущение подлинности не реакция на внешние раздражители и не некая идентичность. Это переживание, которое расходится по телу. Помимо прочего, оно дарит желание жить.
Для Винникотта ощущение подлинности не реакция на внешние раздражители и не некая идентичность. Это переживание, которое расходится по телу. Помимо прочего, оно дарит желание жить.
1. Здесь и далее цитаты из «Логико-философского трактата» и «Философских исследований» приводятся по изданию: Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I /перевод М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. М.: Гнозис, 1994.
2. Третий президент США Томас Джефферсон выступал за отделение церкви от государства и полную свободу совести и вероисповедания.
3. «…восклицая „плита!“, я хочу, чтобы он принес мне плиту! – Безусловно. А заключается ли „это хотение“ в том, что ты мыслишь предложение, так или иначе отличное по форме от произнесенного тобой?» (Л. Витгенштейн, «Философские исследования»).
4. Здесь и далее цитаты из «Ролана Барта о Ролане Барте» приводятся по изданию: Барт Р. Ролан Барт о Ролане Барте / пер. с франц. С. Н. Зенкина. М.: Ad Marginem; Сталкер, 2002.
5. Пер. с англ. Д. Кузьмина.
6. Dr. Tatoff – салон по выведению татуировок (дословно – «Доктор Татунет»).
7. By Hook or by Crook (2001).
8. may – мочь; May – май (англ.).
9. Предложение 8 – конституционная поправка штата Калифорния, принятая на референдуме 4 ноября 2008 года. Действовала на территории Калифорнии и определяла брак как «союз между мужчиной и женщиной», исключая, таким образом, однополые браки.
10. Self-Portrait/Cutting.
11. Nelson M. Women, the New York School, and Other True Abstractions («Женщины, Нью-Йоркская школа и другие истинные абстракции»). University of Iowa Press, 2007.
12. Пер. с англ. Т. В. Снегиревой.
Книга января: «Аргонавты» Мэгги Нельсон
Аргонавты. Мэгги Нельсон. Перевод М. Захарова. No kidding pressВ основе сюжета — история любви Нельсон и скульптора Гарри Доджа и то, как они создают семью с его приемным сыном и заводят второго ребенка. Однако вместо линейного повествования и привычных для автобиографии способов вспомнить о прошлом и осмыслить его Нельсон предлагает читателю поэтическое полотно из отстоящих друг от друга абзацев, в которых она и сонм голосов ее наставников (среди которых и сам Гарри) рассказывают, по сути, о том, что для нее значит слово «семья».
«Личное — значит политическое» в данном случае — это не просто этический и эстетический выбор феминистки Нельсон, но констатация факта. Мы живем в реальности, в которой политические силы играют человеческим телом, его репродуктивными правами и правом на семью.
Нельсон и Додж не планировали расписываться, так как оба — не сторонники формализации отношений, однако в итоге они поженились в последний день перед тем, как в Калифорнии вступила в силу Восьмая поправка (предложение о делегализации однополых браков на территории штата Калифорния, принятое на референдуме 2008 года). Гарри Додж — небинарная персона, предпочитающая местоимение «он», у которого документы женщины. Это значит, что возможность иметь публично и юридически признаваемую семью для него — это постоянное усилие — от заключения брака до оплаты семейного ужина в ресторане, когда официант не понимает, чью кредитную карту он держит в руках.
«Бедный брак! Мы собрались его прикончить (непростительно).
Или упрочить (непростительно)», — пишет Нельсон о романтическом и пугающем дне, проведенном в очередях на регистрацию и закончившемся шоколадным мороженым для новой семьи, состоявшей из супругов и трехлетнего сына Гарри от предыдущего брака.
Семья — одна из ключевых тем в творчестве Нельсон, появляющаяся как в стихах, так и в теоретической прозе. Первая книга, которая принесла ей популярность, — это теоретический автофикшн «Джейн: убийство», рассказывающая о насильственной смерти ее тети, событии, повлиявшем и на ее жизнь. В тексте история убитой Джейн соединяется с рассказами о детстве Нельсон и осмыслением практик переживания горя.
«Аргонавты» — история о семье, но совершенно в другом контексте: писательница размышляет о любви и о праве на счастье, не продиктованном общественными нормами. Она подробно протоколирует то, как они с Гарри и их другом-донором больше года ежемесячно посещали клинику репродуктивной медицины, чтобы зачать ребенка, рассказывает о своей беременности и изменениях, которые она принесла в ее тело и ум; а кульминационная сцена ее родов перемежается со сценой смерти матери Гарри, о которой пишет он сам (в текст включены написанные им отрывки).
Семья для Нельсон всегда включает родителей: и ее, и Доджа. Ее радости связаны и с приемным материнством, про которое, по ее мнению, слишком мало говорят и пишут, и с ее растущим ребенком.
В семью в более широком смысле попадают и фигуры ее педагогов обоего пола, которых Нельсон называет «многополыми матерями сердца» (не совсем понятно, правда, почему в русском языке они оказались не «многогендерными», как в оригинале), именно с ними, а также вместе с Гарри она и пишет о своем опыте супружества, материнства, писательства.
Изобретение нового в поэтике Нельсон идет через выстраивание диалога со своими авторитетами. «Аргонавты» наполнены чужой речью, которую писательница вплетает в свой рассказ, не присваивая и не обезличивая: текст пропитан курсивами там, где мысль Нельсон выражена словами другого автора, а внутри абзаца или слева от него значится имя источника. Хватает в нем и обычных закавыченных цитат.
Однако голос писательницы не теряется в водовороте имен (от Роланда Барта, Сьюзен Зонтаг и психоаналитика Дональда Вудса Винникота до женщин, занимающихся квир-теорией и феминистских писательниц: Изабель Пресьядо, Айлин Майлз, Ив Седжвик), а становится сильнее.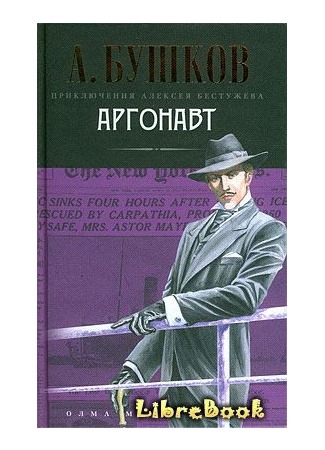
Благодаря соединению автобиографического повествования и проработанной и осмысленной теории ей удается выступать и от лица группы людей (философов, феминисток, публичных интеллектуалов), и как одному конкретному человеку.
Книга выглядит невероятно личной — здесь очень много физиологии, много историй, в том числе о родителях Нельсон и Доджа, максимально интимные описания его перехода на тестостероновую терапию и операций по удалению молочных желез. Однако Нельсон не скрывает, что всегда консультируется с близкими по поводу того, о чем она пишет, зачитывает все касающиеся их отрывки текста и не готова на радикальную искренность ценой причинения боли другим людям. В этом она верна описанной в книге формулировке: «Насколько я могу судить, самые стоящие удовольствия на этой земле пролегают где-то между удовлетворением другого и удовлетворением себя самой. Кто-то назовет это этикой».
Радикальная субъективность сосуществует, таким образом, с размышлением о современном состоянии американского общества — в том числе о гетеро- и гомонормативности, пришедшей тогда, когда квир оказался не в оппозиции к общепринятым ценностям.
Возможность жить открыто и быть с любимыми людьми — это огромная и с болью отвоеванная ценность, однако, по мнению части квир-теоретиков, встраивание квир-дискурса в общепринятую систему ценностей отнимает у его представителей возможность быть радикальными, быть действительно инаковыми и разрушать такие патриархальные скрепы, как армия или институт брака.
С одной стороны, Нельсон противопоставляет им переменчивую природу реальности, в которой ничто не остается в одном состоянии: и любовь, и обретенную семью, и то, что приносит ей радость сегодня, Нельсон не считает чем-то вечным или неотъемлемым. Жизнь и смерть она рассматривает как процесс постоянного становления, благодаря чему особую лиричность обретает название книги. Взято оно из размышлений Ролана Барта о природе слов «Я люблю тебя». При каждом следующем произнесении они заново утверждают истину, каждый раз наполняя ее новым содержанием, в самых разных обстоятельствах, уподобляясь подновляемому и меняющемуся за время путешествия кораблю из греческого эпоса, цельность которого обеспечивает неизменное имя «Арго».
Однако ключевой идеей книги Нельсон оказывается утверждение возможности не лишать себя одной из частей жизни в угоду другой: возможность выбирать и квирность, и радость обычной жизни, и анальный секс, и раскладывание детской одежды по шкафчикам, и женское, и мужское в себе.
Возможность эту она иллюстрирует примерами из творчества современных художников и фотографов, философскими размышлениями и собственным опытом. Однако ни эту, ни другие идеи она не пытается обозначить словами до конца, прописать и исчерпать ее смыслы. Так, цитируя фотографку и квир-активистку Кэтрин Опи, которая рассказывает об изменениях, случившихся в ее жизни, когда она оказалась в роли матери, Нельсон отмечает: «В этой мысли есть что-то очень глубокое, но я не стану с ней ничего делать, только обведу в кружок, чтобы вы поразмышляли. В процессе размышления заметьте, однако, что сложность с переменой режимов или выкраиванием времени — это не то же самое, что онтологическое «или-или».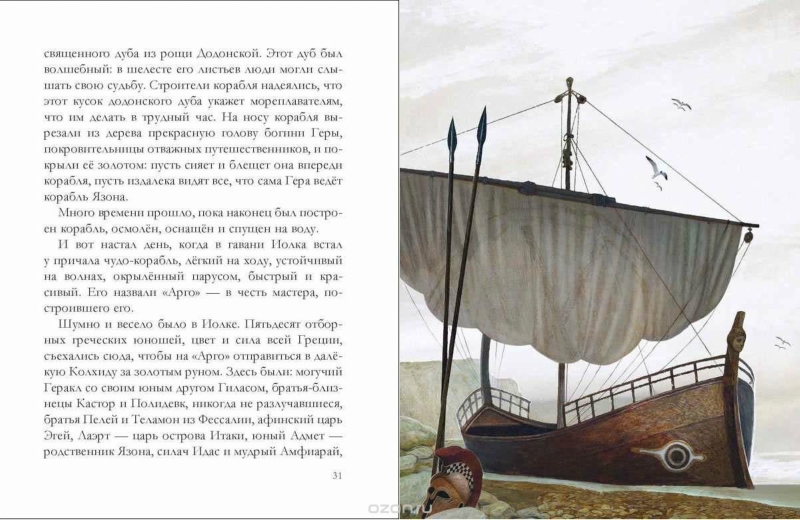
Возможность не быть прикованной к одной идентичности раскрывается во всей полноте именно в отношениях с Гарри — не мужчиной и не женщиной в общепринятом смысле слова, человеком, в спорах с которым рождается часть ее творчества, который словом и делом показывает то, как сложно может быть найти язык, удовлетворяющий требованиям реальности и не предающий тем самым твой опыт.
На первых страницах книги Нельсон размышляет о возможностях и ограничениях языка, который, именуя субъект, одновременно обедняет его, лишает возможности быть не только тем, чем он назван.
На протяжении всего текста появляется спор об ограничениях, связанных с означиванием, который она ведет с Доджем, которого язык постоянно загоняет в рамки, которые ему не нравятся, — рамки местоимений «он/она», оппозиций «мужчина/женщина». И по прочтении книги остается ощущение, что Нельсон этот спор выигрывает.
Ей удается создать пространство для интерпретаций, уйти от «или/или» к «и/и» в разговоре о самоопределении, о сексе, об эросе и танатосе беременности и материнства.
Благодаря множественности голосов, обращению то к читателю, то на «ты» к самому Гарри и благодаря белому пространству на каждой странице, создается ощущение, что ты плывешь по волнам мысли, которая, будучи остро социальной, выстраивается в философско-поэтический трактат и одновременно в спокойный и проникновенный разговор с близким человеком — сложный, но освобождающий и у тебя, читательницы или читателя, место для новых чувств и мыслей.
У русской версии книги, однако, есть две существенные проблемы. Во-первых, текст описывает ситуации и состояние квир-теории в обществе, в котором с базовыми проблемами притеснения ЛГБТК-людей уже справились, а основные постулаты квир-теории знакомы гораздо большему числу людей. Так, говорить о возможных недостатках гомонормативности в России пока болезненно тяжело, потому что мы находимся на стадии, когда жизнь и свобода человека зависит от его гетеронормативности.
Во-вторых, на русском языке такое количество новой терминологии и сложных понятий вместе с теоретической полифонией воспринимается с усилием, а несмотря на то, что переводчик проделал очень серьезную работу, текст все же как будто недошлифован.
Мы сталкиваемся с «матерью» во всех тех случаях, когда по-русски значилась бы «мама», с «Предложением 8», которое звучит еще менее понятно, чем «Восьмая поправка». Подобные шероховатости отдаляют читателя от книги и являются дополнительным припятствием для того, чтобы ее полюбить. Однако они не кажутся непреодолимыми.
Как неоднократно говорила в интервью сама Нельсон, «Я всегда верила, что, в некотором смысле, мы сами создаем своих читателей — и в то, что люди способны воспринимать более сложные книги, чем принято считать».
9781555977078: Аргонавты: Мемуары — Нельсон, Мэгги: 1555977073
Мэгги Нельсон — поэт, критик и автор научной литературы, таких как Искусство жестокости: расплата , 5 Janets , 5 Janets 0 Blue : Убийство . Она преподает в Школе критических исследований CalArts и живет в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
«Книга [Нельсона] — отчасти мемуары, отчасти критическое исследование, касающееся желания, любви и семьи — представляет собой превосходное исследование риска и волнения перемен. Мышление и чувство для Нельсона являются взаимно необходимыми процессами; в результате получается исключительный портрет как романтического партнерства, так и сотрудничества между разумом и сердцем Нельсона ». — The New Yorker
Мышление и чувство для Нельсона являются взаимно необходимыми процессами; в результате получается исключительный портрет как романтического партнерства, так и сотрудничества между разумом и сердцем Нельсона ». — The New Yorker
«Мэгги Нельсон уничтожает укоренившиеся представления о гендере, браке и сексуальности с помощью лирики, интеллектуального напора и душещипательной честности в The Argonauts. »— Vanity Fair
«Читать Мэгги Нельсон — это все равно, что смотреть выступление на канате. Ее книги вдохновляют. . . . Из-за ее ослепительных предложений я прочитаю все, что напишет смельчак. Она сближается с идеями в отличие от любого другого американского писателя». ― The Boston Globe
«Мэгги Нельсон доказала свою гениальность — особую смесь поэтизма и философии, теоретизирования и прозы — в восьми предыдущих научно-популярных публикациях. Но в «Аргонавты » одаренный критик и ученый открывает новые горизонты своей работой «автотеория», которая предлагает заглянуть в разум, тело и дом писателя. . . . The Argonauts обязательна к прочтению.»― Bustle
. . . The Argonauts обязательна к прочтению.»― Bustle
«Столько всего пишут о материнстве, что после рождения ребенка мир кажется меньше, более ограниченным, как будто в молчаливой верности более широким культурным представлениям о мамах и домашнем хозяйстве. ; Книга Нельсона делает обратное»― The New York Times Book Review
«Мэгги Нельсон — одна из самых захватывающих писателей, работающих сегодня в Америке, среди самых проницательных и гибких мыслителей своего поколения». Аргонавты , Мэгги Нельсон превращает «предоставление личного достояния общественности» в романтическую, интеллектуальную поллюцию. Великолепная книга, изобретательная, бесстрашная и полная сердца. . . . Уникальная книга.»― Стервятник
«Свободный, но запутанный гобелен из мемуаров, художественной критики и легкой полемики. . . . Это книга о том, как использовать сочинения умных, даже трудных писателей, чтобы помочь нам обрести ясность и точность в нашей интимной жизни, и это книга о не менее интимных удовольствиях жизни ума. . . . Аргонавты — великолепное достижение мысли, заботы и искусства. . . . Она мастерски анализирует то, как мы говорим о сексе и гендере». ― Huffington Post
. . . Аргонавты — великолепное достижение мысли, заботы и искусства. . . . Она мастерски анализирует то, как мы говорим о сексе и гендере». ― Huffington Post
«Эта яркая, исследовательская и, самое главное, выдающаяся книга Нельсона также представляет собой философский взгляд на материнство, переходный период, партнерство, воспитание детей и семью — исследование ограниченного подхода, которым мы подходим к этим терминам в прошлое и непрекращающаяся борьба за то, чтобы найти для них более всеобъемлющие и широкие определения». — NPR
«Блестящая книга Мэгги Нельсон «Аргонавты » настолько же трудна для понимания, сколь и ошеломительна. В резких, интенсивных всплесках языка Нельсон объединяет критическую теорию со своими самыми личными размышлениями, когда она преодолевает впадение в похоть и любовь, исследует пол, сексуальность и материнство и строит семью с художником Гарри Доджем. Хотя стройный, Argonauts содержит миры мыслей и чувств, бросая вызов нашим предположениям и трогая наши сердца.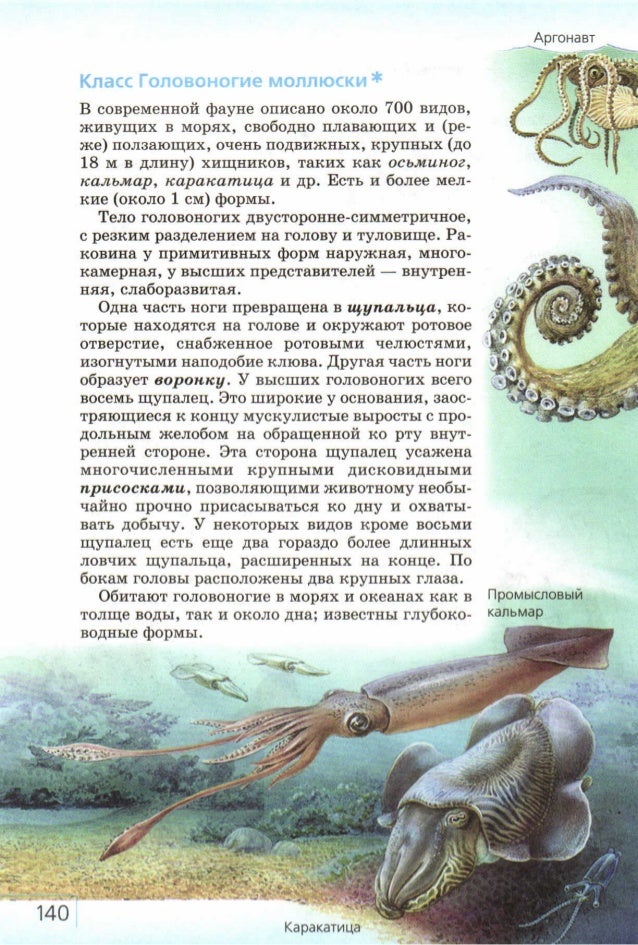 Эта книга — первое обязательное чтение этого лета». — BuzzFeed
Эта книга — первое обязательное чтение этого лета». — BuzzFeed
«В культуре, которая слишком быстро просит людей выбрать сторону — быть мужчиной или женщиной, быть ассимилятором или революционером, быть абсолютно натуральная или полностью гейская, полностью гетеро- или полностью гомонормативная — книга Нельсона — это прекрасное, страстное и поразительно интеллектуальное размышление о том, что значит не принимать бинарности, а импровизировать индивидуальную жизнь, которая без страха говорит:0005 да , и ». ― Chicago Tribune
«Читать Нельсона – все равно, что подметать листья с подъездной дороги: к концу одной из ее книг вы лучше понимаете, как устроен мир. …В результате получилась одна из самых умных, щедрых и волнующих книг года». ― Publishers Weekly, «Лучшие летние книги 2015» радикальное переосмысление терминов, в которых мы выражаем любовь». ― «Парижское обозрение», «Выбор персонала»
«Какая ослепительно щедрая, великолепно непредсказуемая книга! Мэгги Нельсон показывает нам, что значит быть настоящим, предлагая способ мышления, который одновременно бросает вызов и освобождает.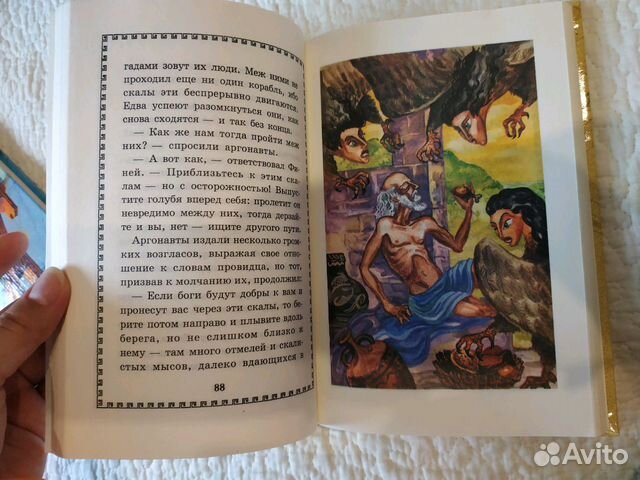 Она предлагает нам «воздать должное переходному» и насладиться «становлением, в котором никогда не становишься». Чтение «Аргонавты » сделало меня счастливее и свободнее». — Юла Бисс
Она предлагает нам «воздать должное переходному» и насладиться «становлением, в котором никогда не становишься». Чтение «Аргонавты » сделало меня счастливее и свободнее». — Юла Бисс
«Мэгги Нельсон прорезает заготовленные структуры мыслей и чувств нашей культуры с интеллектом, чья свирепость в конечном итоге служит любви. Ни благочестие, ни ортодоксия, ни легкая ирония не безопасны. Пугающие цитаты сгорают, как туман», — Бен Лернер 9.0011
«Нет другого живого критика, как Мэгги Нельсон, которая пишет с такой страстью, ясностью, откровенностью, плавностью, игривостью и щедростью, что она переопределяет то, что думает, что может сделать сегодня». — Уэйн Кестенбаум
«Еще раз , Мэгги Нельсон создала впечатляющую работу, которая остроумно называет ерундой местную культуру, включая радикальные субкультуры, которые стигматизируют и неправильно понимают как материнство, так и странное создание семьи. Обладая чрезвычайно уязвимым интеллектом, Нельсон не оставляет неисследованной ни одну область, включая собственное сердце.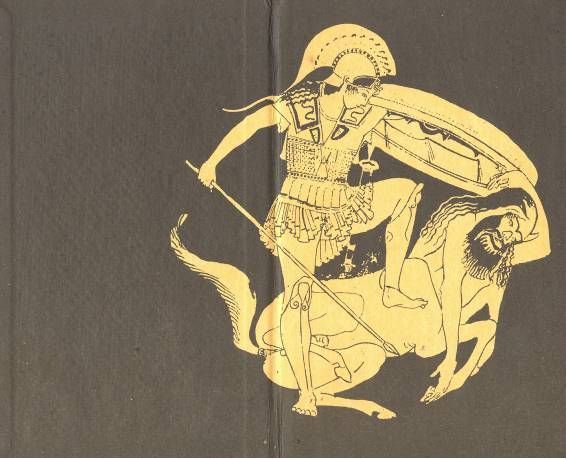 Я не знаю другой книги, подобной этой, и я знаю, как сильно она нужна культуре», — Мишель Ти.0011
Я не знаю другой книги, подобной этой, и я знаю, как сильно она нужна культуре», — Мишель Ти.0011
«Одна из величайших книг, которые я когда-либо читала». Энни Спринкл
«Чтение книги Мэгги Нельсон « Аргонавты » помогло мне ощутить некоторые вещи, о которых я давно думал, но с трудом мог выразить в отношении социализации материнская функция, которая является рассеянной, рассеивающей сущностью будущего, которое мы представляем друг другу до тех пор, пока один больше не перестанет быть другим. Есть насилие, которое я совершаю, предъявляя претензии на это будущее, и насилие, которое я терплю, когда это требование удовлетворяется. Есть исчерпывающее совместное использование, которое принимает форму письма. Есть «оргия конкретики», когда невыразимое удерживается и высвобождается в каждом выражении, потому что я просто хочу петь твое имя, даже когда я не хочу петь твое имя. В каждом «Я люблю тебя» скрыта история любви, и в каждом «Я люблю тебя» есть контракт на разрушение и восстановление. есть «Аргонавты » , одна из величайших книг, которые я когда-либо читал. ученое, причудливое, чистосердечное, часто красивое называние частей. Анатомия никогда не забывает о хрупком воплощенном мире — его телесности или его конечности. И таковы Аргонавты : мемуары (на самом деле, разбор полетов) одновременно сырые, задумчивые, волнующие, грустные, забавные и воплощенные таким же глубоким образом ». — Терри Кастл
есть «Аргонавты » , одна из величайших книг, которые я когда-либо читал. ученое, причудливое, чистосердечное, часто красивое называние частей. Анатомия никогда не забывает о хрупком воплощенном мире — его телесности или его конечности. И таковы Аргонавты : мемуары (на самом деле, разбор полетов) одновременно сырые, задумчивые, волнующие, грустные, забавные и воплощенные таким же глубоким образом ». — Терри Кастл
Обзор «Аргонавтов» Мэгги Нельсон — «одного из самых проницательных мыслителей своего поколения» | Автобиография и мемуары
Начнем с предисловия. Мэгги Нельсон — одна из самых ярких писательниц, работающих сегодня в Америке, одна из самых проницательных и гибких мыслителей своего поколения. Родившаяся в 1973 году, она на сегодняшний день выпустила девять книг, четыре из которых посвящены поэзии, а пять — научно-популярным материалам, связав воедино то, что в более тяжелых руках могло бы стать заумной теорией и влажным признанием, чтобы создать волнующий новый язык для рассмотрения как беспорядка жизни, так и смыслы искусства. Если вы о ней не слышали, то это потому, что она еще не опубликована в Великобритании, из чего можно сделать вывод, что британские издательства становятся слишком робкими для своего же блага.
Если вы о ней не слышали, то это потому, что она еще не опубликована в Великобритании, из чего можно сделать вывод, что британские издательства становятся слишком робкими для своего же блага.
Ее письмо не поддается простому определению. Предыдущие работы включают в себя философский обзор горя и синего цвета ( Bluets ), два тома о похищении и убийстве ее тети ( Джейн: Убийство и Красные части ) и великолепно бодрящий Искусство «Жестокость », исследование авангардного искусства, которое постепенно превращается в непоколебимое исследование природы самого насилия. Эти книги никогда не принимают окончательной формы. Они плавают между категориями, то мемуары, то поэзия, то философия, то критика, слишком мимолетные, остроумные и тонкие, чтобы их можно было уловить.
«Аргонавты » также не поддается краткому описанию, хотя описание его как истории любви может быть наиболее подходящим. Ведь речь идет о любви и ее плодах: и о влюбленности, и о сохранении привязанности, преданности, нежности. Она о любви и браке, материнстве, беременности, родах и создании семьи, и, поскольку это книга Мэгги Нельсон, она переворачивает все эти понятия с ног на голову.
Она о любви и браке, материнстве, беременности, родах и создании семьи, и, поскольку это книга Мэгги Нельсон, она переворачивает все эти понятия с ног на голову.
Слова «Я люблю тебя» появляются в самом первом абзаце, признании Нельсон своему добродушному любовнику, художнику Гарри Доджу. Она влюбляется в блеск, порядочность и огромную сексуальную харизму Доджа, но в первые дни их ухаживания она совсем не уверена, какое местоимение предпочитает использовать ее возлюбленный. Додж — трансгендер, и не в соответствии с настойчивым медиа-нарративом о мужчине, запертом в теле женщины, а, скорее, о человеке, который вообще не желает торговать бинарными файлами («Я никуда не собираюсь, — иногда говорит Гарри вопрошающим »).
Они женятся в спешке в последние часы перед принятием Предложения 8 (постановление, которое временно отменяет однополые браки в штате Калифорния), их единственным свидетелем является трансвестит, выполняющий тройную обязанность: встречающий и вышибала в голливудской часовне. «Плохой брак! Мы пошли, чтобы убить его (непростительно). Или усилить его (непростительно)». В последующие годы они претерпевают динамические изменения в собственном теле. Нельсон подвергается изнурительным циклам ЭКО, а затем беременеет; Додж начинает вводить тестостерон и переносит первоклассную операцию, избавляющую его от многих лет болезненного связывания груди. Его трехлетний сын переезжает к ним на неполный рабочий день, а затем к семье присоединяется их собственный ребенок Игги.
«Плохой брак! Мы пошли, чтобы убить его (непростительно). Или усилить его (непростительно)». В последующие годы они претерпевают динамические изменения в собственном теле. Нельсон подвергается изнурительным циклам ЭКО, а затем беременеет; Додж начинает вводить тестостерон и переносит первоклассную операцию, избавляющую его от многих лет болезненного связывания груди. Его трехлетний сын переезжает к ним на неполный рабочий день, а затем к семье присоединяется их собственный ребенок Игги.
«Аргонавты » рассказывает об этих маленьких, чудесных домашних драмах и страстных актах приспособления и заботы, которых они требуют, но это также и переосмысление того, что означают институты, установленные вокруг сексуальности и репродукции, если вы подходите к ним вплотную. уклон, если вы нарушаете их самим фактом вашего существования. Выселения и исключения продолжают происходить. Дружеские встречи с официантами-мужчинами или обслуживающим персоналом регулярно становятся неурегулированными, когда Додж передает свою кредитную карту с ее женским именем, действие, сопряженное с угрозой насилия. Во время вопросов и ответов известный драматург спрашивает Нельсон, как ей удалось написать книгу о жестокости во время беременности. — Предоставьте старому белому аристократу призвать говорящую даму обратно в ее тело, чтобы никто не пропустил зрелище этого дикого оксюморона, беременной женщины, которая думает. На самом деле это просто накаченная версия более общего оксюморона, женщина, которая думает».
Во время вопросов и ответов известный драматург спрашивает Нельсон, как ей удалось написать книгу о жестокости во время беременности. — Предоставьте старому белому аристократу призвать говорящую даму обратно в ее тело, чтобы никто не пропустил зрелище этого дикого оксюморона, беременной женщины, которая думает. На самом деле это просто накаченная версия более общего оксюморона, женщина, которая думает».
Эти рассказы интересны сами по себе, но Нельсон не просто выражает свои чувства; она стремится использовать этот опыт как способ раскрыть культуру, исследовать то, что так яростно защищается и охраняется. В основном бинарные: непреодолимая потребность, от которой левые не более защищены, чем правые, чтобы категории оставались чистыми и незагрязненными. Геи, вступающие в брак или беременеющие, люди, мигрирующие из одного пола в другой, не говоря уже о том, чтобы отказаться от любого из них, вызывают огромную турбулентность в системах мышления, которые зависят от упорядоченного разделения и разделения, что является одной из причин того, что движение за права трансгендеров доказало свою эффективность. так удручающе угрожает определенным кругам феминистской мысли.
так удручающе угрожает определенным кругам феминистской мысли.
Реальные люди являются объектами этой охраны границ, и Нельсон изо всех сил старается сделать их видимыми, чтобы показать как цену, так и достоинство их свободы. Именно потому, что она так обнаженно представляет себя и Доджа на странице, она может легко справляться с мыслителями, как радикальными, так и консервативными, которые торгуют небрежно жестокими абстракциями и запретами. Относительно заявления Бодрийяра о том, что вспомогательная репродукция предвещает самоубийство вида путем уничтожения смертных, половых существ, она язвительно замечает: «Честно говоря, я нахожу скорее смущающим, чем раздражающим, читать Бодрийяра, Жижека, Бадью и других уважаемых философов того времени, разглагольствующих о как мы можем спастись от уничтожающей человечество угрозы индюшатника».
Мышление, которое ценит Нельсон, тонкое, способное к двусмысленности и возникающее в результате пристального и внимательного наблюдения, поэтому неудивительно, что британский педиатр и психоаналитик Д. У. Винникотт должен проявить себя здесь в некотором роде героем. Винникотт несет ответственность за представление о достаточно хорошей матери, и его отказ настаивать на совершенстве делает его идеальным участником проекта Нельсона по восхвалению обычной материнской преданности при одновременном осуждении канонизации матери, которую общество использует для наказания и позора женщин.
У. Винникотт должен проявить себя здесь в некотором роде героем. Винникотт несет ответственность за представление о достаточно хорошей матери, и его отказ настаивать на совершенстве делает его идеальным участником проекта Нельсона по восхвалению обычной материнской преданности при одновременном осуждении канонизации матери, которую общество использует для наказания и позора женщин.
В самом широком смысле это книга о зависимости, о том, как жизнь требует взаимопроникновений и пересечений границ всех видов, начиная с in utero опыта помещения в чужое тело, этого «самого таинственного и кровавого квартиры», и продолжая акты расширения, которые включают в себя как секс, так и чтение, эти путешествия в тайники других умов и анатомий.
Нельсон любит оба; положительно евангелистская в отношении траха в жопу, но также ясная и великодушная, когда дело доходит до признания мыслителей, которые сформировали и обучили ее. Ее список «многополых матерей моего сердца» варьируется от покойной и очень скучающей Евы Кософски Седжвик, толстой веснушчатой королевы квир-теории, до порнозвезды и артистки перформанса Энни Спринкл. Ее привлекают люди, которые, как объясняет критик Ролан Барт в своей теории нейтралитета, «перед лицом догматизма, угрожающего давления с целью занять чью-либо сторону предлагают новые ответы: бежать, бежать, возражать, переходить или отказываться от условий, отделяться, отворачиваться».
Ее привлекают люди, которые, как объясняет критик Ролан Барт в своей теории нейтралитета, «перед лицом догматизма, угрожающего давления с целью занять чью-либо сторону предлагают новые ответы: бежать, бежать, возражать, переходить или отказываться от условий, отделяться, отворачиваться».
Этот интерес к зависимости и неоднозначности отражается и стилистически. Нельсоновская единица мысли — это не глава, а абзац, способ, который допускает глубокие отклонения и сопоставления, вкрапления анекдота и анализа. Если опасность эллиптичности заключается в том, что иногда это звучит нелепо, то наградой является способность уклоняться от ограждений, достигая путем разумного наслоения сложности, которая в противном случае неуловима. Этому способствует привычка Нельсон дополнять свой текст выделенными курсивом высказываниями других авторов, источники которых указаны на полях. Эффект музыкальный, полифонический, разговор нескольких участников, а не нарциссическая ария.
На последних страницах Нельсон рассказывает историю рождения Игги, смешивая ее с собственным рассказом Доджа о смерти его матери.