День, когда немцы вошли в Москву
С 16 по 19 октября 1941 года судьба Москвы висела на волоске: по северным и северо-западным районам города, в котором царила паника, разъезжали немецкие мотоциклисты и даже одиночные танки, разведывая маршруты для пехотных и танковых дивизий вермахта
16 октября 1941 года вошёл в историю, которую от нас долго скрывали, как «день московской паники». В этот день единственный раз за всю историю своего существования не работало московское метро, эскалаторы которого уже начали разбирать, а само — минировать. Этого не избежали сотни московских предприятий, институтов, помпезных жилых домов, театров, кинотеатров и даже церквей – объектов, которые могли пригодиться врагу после падения Москвы.
Никогда за всю минувшую войну судьба всей страны, не только Москвы, не висела на таком тонком волоске, как в эти «черные дни».
Именно тогда у Гитлера были очень серьезные предпосылки конвертировать успешный блицкриг в победу.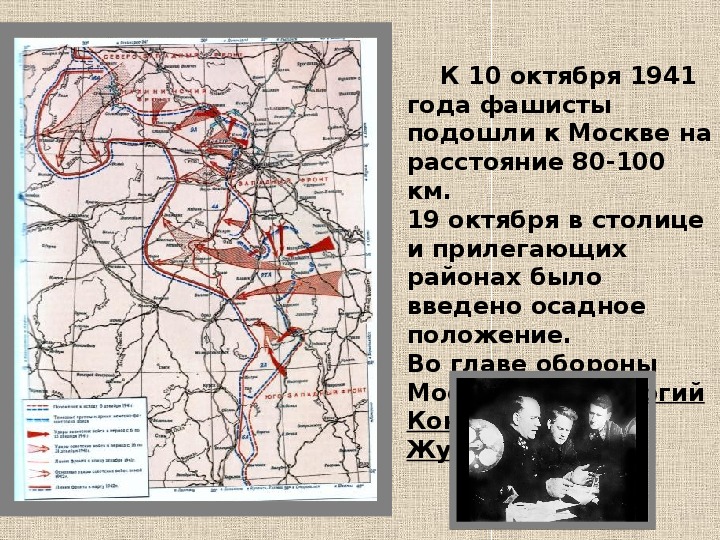
После окружения под Вязьмой и Брянском шести советских армий, развала Западного фронта, захвата Калуги 13 октября, 14 октября – Твери, а еще через несколько дней — Волоколамска, Малоярославца и Можайска Москву отделяли от рвавшихся и изучавших её из биноклей гитлеровцев только стойкость отказавшихся сдаваться окруженных частей. Недоучившиеся, но рвавшиеся в бой и почти полностью погибшие в нём курсанты ряда училищ. А также части НКВД, которые вступили в бои с врагом на подступах к городу и на его улицах и смогли навести в Москве относительный порядок, до того как к столице стали подходить с востока свежие войска. Важнейшую роль в чудесном спасении Москвы сыграл и главный виновник разразившейся катастрофы – Иосиф Сталин, отказавшийся в последний момент — после долгих колебаний — бежать из Москвы.
Сталин был главным виновником разгрома 1941 года, но его твердость в октябре не позволила Гитлеру взять Москву. Фото: www.globallookpress.com
Если бы он покинул столицу, скорее всего, этот крупнейший промышленный, транспортный и логистический узел попал бы в руки врага. Это был бы страшный, едва ли не смертельный удар по оборонным возможностям страны, что сделало бы невозможным скоординированный отпор гитлеровцам, обрекая Красную армию на отступление до Урала.
У последней черты
16 октября многим москвичам показалось, что всё к этому и идет. В этот день народу передалась паника, охватившая власти неделей раньше, потому что меры по эвакуации и уничтожению города, чтобы он не достался врагу, уже нельзя было скрыть. Известно, что еще 8 октября, после катастрофы под Вязьмой, Сталин сказал, что «Москву защищать некем и нечем, повторяю, некем и нечем». Так же думал и Гитлер, заказавший поставки гранита из Швеции, Норвегии и Финляндии для установки памятника победителям в центре поверженной и уничтоженной Москвы.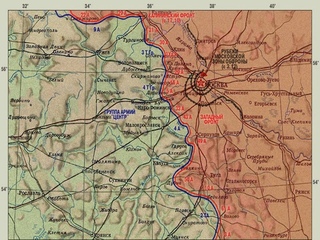
«Совершенно секретное» постановление ГКО СССР
Массовой панике в Москве, которая началась 16 октября, продолжалась до введения в столице осадного положения 19 октября и была полностью преодолена драконовскими мерами лишь к началу ноября, предшествовало появление «совершенно секретного» постановления Государственного комитета обороны № ГКО-801 за подписью Сталина, председателя ГКО СССР.
Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии будущий генералиссимус, очень плохо, к сожалению, разбиравшийся в военных вопросах, приказал:
- Поручить т.
 Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев (НКПС — т. Каганович обеспечивает своевременную подачу составов для миссий, а НКВД — т. Берия организует их охрану).
Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев (НКПС — т. Каганович обеспечивает своевременную подачу составов для миссий, а НКВД — т. Берия организует их охрану). - Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также Правительство во главе с заместителем председателя СНК т. Молотовым (т. Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке).
- Немедля эвакуироваться органам Наркомата Обороны в г. Куйбышев, а основной группе Генштаба — в Арзамас.
- В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД — т. Берия и т. Щербакову произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также все электрооборудование метро (исключая водопровод и канализацию).
Вакханалия в Москве
На следующий день, 16 октября, власть в сдаваемом немцам городе фактически испарилась: начались неописуемый хаос, паника, эксцессы мародерства и бандитизма, грабежи магазинов и складов, особенно тех, где хранились дефицитное продовольствие и спиртное, бегство из Москвы сотен тысяч людей во главе с большим и малым начальством, на груженные добром машины которого иногда нападали разъяренные граждане.
16 октября 1941 года в Москве рухнула власть и началась анархия, по окраинам города шныряли немецкие мотоциклисты. Фотохроника ТАСС
Уже 17 октября в Куйбышев прибыли высшие советские сановники – Калинин, Каганович, Ворошилов и многие другие. В Москве задержались – помимо Сталина – из хорошо известных лиц лишь Берия, Микоян и Косыгин. Из Москвы эвакуировались все министерства, оставив в столице небольшие оперативные группы. В Куйбышев перебрался Исполком Коминтерна, экспонаты Третьяковской галереи были отправлены в Новосибирск, тело Ленина — из мавзолея в Тюмень, покинул Москву даже комендант Кремля.
Сохранились документальные описания паники, охватившей эвакуируемый город, — от скупых, сжатых и серьезных, до крайне эмоциональных, дышащих злорадством затравленных граждан, в отношении перепугавшейся власти, представители которой еще недавно изображали из себя небожителей.
Академик Владимир Вернадский: «Ясно для всех проявляется слабость вождей нашей армии, и реально считаются с возможностью взятия Москвы и разгрома». Фото: www.globallookpress.com
Вот что академик Владимир Вернадский занес в свой дневник в этот день:
Резкое изменение настроений о войне. Ясно для всех проявляется слабость вождей нашей армии, и реально считаются с возможностью взятия Москвы и разгрома. Возможна гибель всего моего архива и библиотеки. Когда я уезжал <из Москвы> в июле — мысль о возможности потери и гибели мелькала, но не чувствовалась реально, как она выступает сейчас.
А вот другое свидетельство очевидца – советского писателя и журналиста Льва Ларского, наблюдавшего исход из Москвы:
В потоке машин, нёсшемся от Заставы Ильича, я видел заграничные лимузины с «кремлёвскими» сигнальными рожками: это удирало Большое Партийное начальство! По машинам я сразу определял, какое начальство драпает: самое высокое — в заграничных, пониже — в наших «эмках», более мелкое — в старых «газиках», самое мелкое — в автобусах, в машинах «скорой помощи», «Мясо», «Хлеб», «Московские котлеты», в «чёрных воронах», в грузовиках, в пожарных машинах… А рядовые партийцы бежали пешком по тротуарам, обочинам и трамвайным путям, таща чемоданы, узлы, авоськи и увлекая личным примером беспартийных…
Точно такие же сцены, перемежавшиеся потасовками и драками бившихся за транспорт обезумевших от страха людей, происходили за год до этого в Западной Европе во время немецких наступлений. Оказывается, то же самое было и у нас.
Оказывается, то же самое было и у нас.
И это не злопыхательство «обиженных» советской властью граждан: рассекреченные рапорты сотрудников НКВД своему начальству рисуют точно такую же картину и сообщают массу частных и достоверных подробностей. Вот один из самых безобидных из них: «16 октября группа грузчиков и шоферов, оставленных для сбора остатков имущества эвакуированного завода № 230, взломала замки складов и похитила спирт. Силами оперсостава грабеж был приостановлен. Однако 17 октября утром та же группа людей во главе с диспетчером гаража и присоединившейся к ним толпой снова стали грабить склад. В грабеже принимали участие зам. директора завода Петров и председатель месткома. При попытке воспрепятствовать расхищению склада избиты секретарь парткома завода и представитель райкома ВКП(б)».
Достойно проявил себя в наведении порядка в едва не сданной Москве глава столичной партийной организации, секретарь ЦК ВКП(б) Александр Щербаков. Фотохроника ТАСС
Из партийных чинов испытание выдержал секретарь ЦК ВКП(б), глава Московской партийной организации Александр Щербаков, оказавшийся самой заметной публичной фигурой в городе в это страшное время. Он многое сделал для того, чтобы острая паника улеглась в течение нескольких дней, демонстрируя распорядительность и решительность.
Он многое сделал для того, чтобы острая паника улеглась в течение нескольких дней, демонстрируя распорядительность и решительность.
Анархии положили конец
Чтобы навести в городе элементарный порядок, пришлось вначале накопить силы, а потом начать бескомпромиссную борьбу с грабителями, расхитителями, дезертирами, паникёрами и немецкими агитаторами, которых хватали и расстреливали на месте. К концу октября в городе навели относительный порядок.
Огромную практическую роль в спасении столицы, до того как к ней подтянулись свежие войска из восточных районов страны, сыграли части НКВД. Они не только восстановили порядок на улицах огромного города, но и уничтожали вражеских диверсантов, просочившихся в Москву немецких мотоциклистов. Особенно отличилась Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН), сформированная в октябре 1941 года из советских спортсменов, циркачей и находившихся в Москве иностранных коммунистов. Именно они пресекли попытку прорыва к метро Сокол мотоциклистов одной из немецких дивизий, вначале отогнав их, а потом и уничтожив в районе Водного стадиона.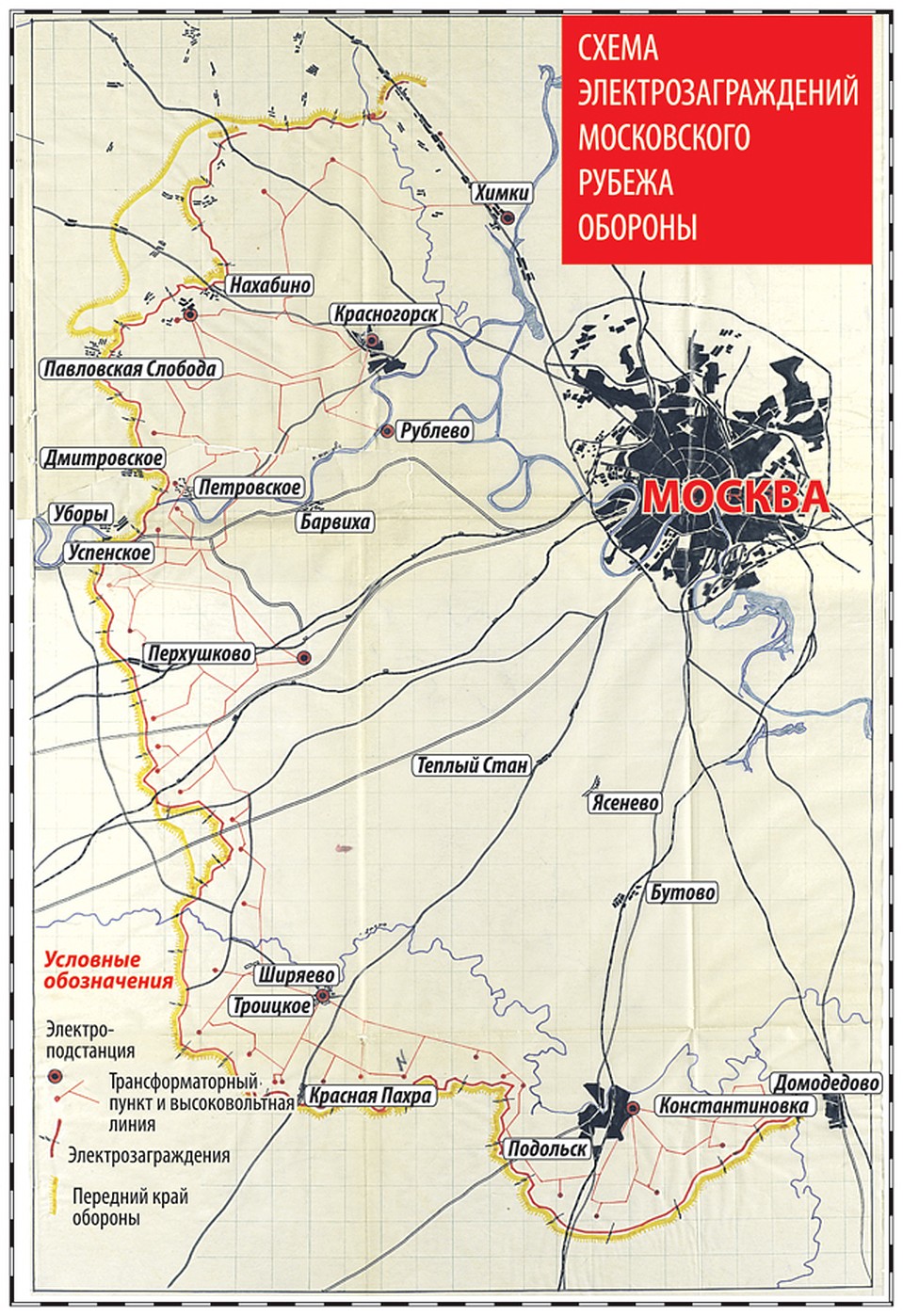 Из иностранцев в этом подразделении было больше всего… немцев, американцев и румын. Бойцы ОМСБОН участвовали и в военном параде 7 ноября на Красной площади и заодно – охраняли его.
Из иностранцев в этом подразделении было больше всего… немцев, американцев и румын. Бойцы ОМСБОН участвовали и в военном параде 7 ноября на Красной площади и заодно – охраняли его.
Именно это событие внушило оставшимся в городе жителям, всей стране и всему миру, что Москву не сдадут, и нацистская Германия, упустившая свой единственный шанс, будет в конечном счете разгромлена. Так и случилось. Москва не пала – пал Берлин.
Битва за Москву
Попов Аркадий Иванович — ветеранВеликой Отечественной войны
Дата рождения: 21 февраля 1922 г.
Место рождения: деревня Высоково Арбажского района Кировской области
Призыв в ряды Советской Армии
1941 год — год призыва в ряды Советской Армии молодёжи 1922-23 годов рождения. Поэтому работавший в колхозе молодой паренёк Аркадий Попов в канун Великой Отечественной войны был призван для прохождения военной службы. Так как допризывная подготовка была нацелена на обучение лыжной ходьбе, Аркадий Попов был направлен в отряд лыжников.

21 сентября 1941 года он был откомандирован в 35 запасный полк, откуда ежедневно отправлялись маршевые роты на войну. Пока не были готовы землянки для проживания, отряд лыжников в течение 2 недель стоял на берегу р. Вятка. В построенных землянках устанавливались в 2 этажа нары, на которых размещалась сразу вся рота — 250 человек. Начались учения, которые проводил специалист по лыжам, обучавший правильному передвижению, поворотам, спуску и подъёму на лыжах. В основном занятия проводились в ночное время.
Война — это суровое испытание для человека
7 ноября 1941 года Аркадий Иванович с сослуживцами принимает присягу, и его отправляют в г. Котельнич, где выдают добротное обмундирование, новые лыжи с креплениями. Из-за нехватки не выданы только гимнастёрки. И на второй день эшелон с лыжниками без оружия направляется на фронт. Ночью эшелон прибывает в г. Владимир, где прямо в вагоны грузят ящики с ручными пулемётами и во время движения идёт их сборка. Аркадий Иванович назначен пулемётчиком в отделении. Полк высадили в 15 км от г. Дмитрова. Утром немцы находились в 15 км от столицы, а вечером — уже в 5 км. Горели деревни, люди с имуществом, спасаясь, шли через г. Дмитров. Молодые ребята в основном не умели обращаться с оружием, и командиры отделений, уже имевшие военный опыт, помогали осваивать пулемёты.
Аркадий Иванович назначен пулемётчиком в отделении. Полк высадили в 15 км от г. Дмитрова. Утром немцы находились в 15 км от столицы, а вечером — уже в 5 км. Горели деревни, люди с имуществом, спасаясь, шли через г. Дмитров. Молодые ребята в основном не умели обращаться с оружием, и командиры отделений, уже имевшие военный опыт, помогали осваивать пулемёты.
Ночью вышли из г. Дмитрова. Зарево : кругом стреляют, всё горит.
Остановились на привал в деревенской школе. Прилечь отдохнуть негде, так как там уже расположилась другая часть, и пришлось Аркадию со своим другом — вторым пулемётчиком Петром Колпаковым укладываться под нарами на полу.
Обстановка сложная, даже командиры не были проинформированы. Так, по приказу командира Аркадий и Пётр заняли позицию около стога сена в 500 метрах от леса. К рассвету вдруг из леса выскакивает верховой, а за ним — эскадрон рысью. Ребята в растерянности: » Кто это? Наши или нет? Стрелять или не надо?». Оказалась дивизия Белова и генерал-майора Доватора.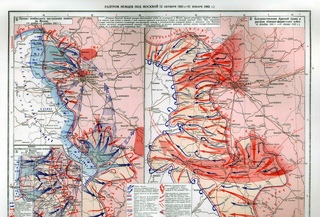
В декабре 1941 года часть Аркадия Ивановича целую неделю стояла на берегу канала Москва-Волга в вырытых москвичами окопах и ни разу не была в помещении. А на улице -40С. В окопах разжигали небольшие костры, сверху занавешивались плащ-палатками, и все, свободные от дежурства, солдаты собирались в траншеях греться, спали, как придётся. Только недолог был сон, т.к. через каждый час заступали на часовую смену.
Молодые ребята, не имевшие военного опыта, мало что знали. Так 4 декабря 1941 года днём в солнечную погоду летят 12 немецких самолётов. Вдруг что-то от них отделяется. Подумали: «Парашютисты», а это — бомбы. Было очень страшно. Прятались с головой в окопах, земля дрожала. Повезло — ни одного не ранило, т.к. окопы были очень глубокие. Как-то немецкая батарея начала обстрел батальона, в котором служил Аркадий Иванович. Первая мина попала в стоящий впереди сарай, вторая мина — сзади. Командир кричит: «В «вилку» попали», что это такое «вилка» солдаты и не знают. Слышно , как летит мина, и падают солдаты на землю, стараясь защититься от неё. Слышат — взорвалась. Остались живы. И опять — вперёд. Страшно было видеть погибших советских воинов на полях сражения. До сих пор Аркадий Иванович вспоминает лежащего на четвереньках в глубоком снегу убитого советского офицера лицом вниз, только спина видна.
Слышат — взорвалась. Остались живы. И опять — вперёд. Страшно было видеть погибших советских воинов на полях сражения. До сих пор Аркадий Иванович вспоминает лежащего на четвереньках в глубоком снегу убитого советского офицера лицом вниз, только спина видна.
5 декабря 1941 года отдельный лыжный комсомольский батальон № 5 в составе 84 бригады морской пехоты под командованием полковника Молева (5 тыс. человек) подошёл к г. Яхрома, занятому немцами. Остановились в деревне. День ясный, видно вокруг далеко. Друг Петя увидел, как со стороны города, с другого берега канала бежит немецкий офицер. Открыли по нему огонь, но ему удалось скрыться в окопе, откуда, вероятно, он по телефонной связи сообщил о расположении советской части. И вскоре из г. Яхрома появился немецкий танк. Остановился напротив места расположения батальона, развернул башню, выпустил 4-5 снарядов, попав в находящуюся рядом часовню, и ушёл обратно. Немецкие самолёты разбрасывали листовки, в которых сообщалось, будто сын И. Сталина сдался в плен, что эти листовки будут пропуском для советских солдат. Но никто из наших защитников их не подбирал.
Сталина сдался в плен, что эти листовки будут пропуском для советских солдат. Но никто из наших защитников их не подбирал.
Взятие городов
Был дан приказ о взятии г. Яхрома. Лыжный батальон действовал по отработанной схеме: заходили в тыл противника, а потом по приказу открывали огонь. Ночью солдаты встали цепью на расстоянии 4-5 метров друг от друга, пропустили бронемашину, мотоциклы и открыли огонь. Когда рассвело, то рассмотрели брошенное немцами при отступлении: было здесь и сукно, набранное на суконной фабрике, и русские учебники. Все дороги были забиты немецкой техникой. Немецкие машины не были пригодны для сильных морозов, а молодые русские ребята не умели ни обращаться, ни водить машины и мотоциклы. Так и оставалась техника на дороге. Одежда у фашистов тоже была не для сильных морозов: шинели и френчи из тонкого сукна, головные уборы — пилотки. В одной освобождённой деревушке хозяйка дома рассказывала, как немец хотел забрать у неё валенки — холодно очень, но размером не подошли.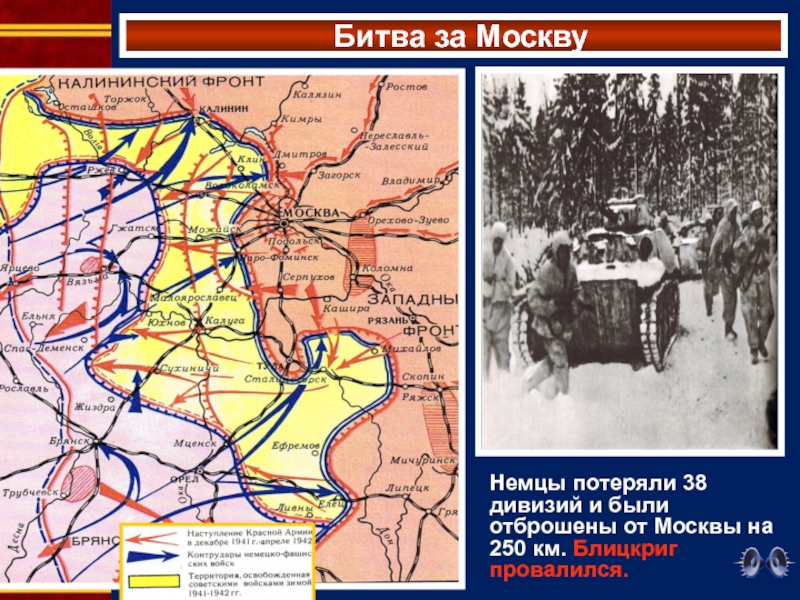 Тогда, увидев висевший тулуп, оторвал от него рукава и натянул себе на ноги, чтобы теплее было. В первые месяцы войны немцы, занимая города и деревни, старались устроить себе быт, спать ложились, раздеваясь, не ожидая отпора от советской армии. Поэтому, когда налетал батальон на них, то выскакивали на улицу раздетыми.
Тогда, увидев висевший тулуп, оторвал от него рукава и натянул себе на ноги, чтобы теплее было. В первые месяцы войны немцы, занимая города и деревни, старались устроить себе быт, спать ложились, раздеваясь, не ожидая отпора от советской армии. Поэтому, когда налетал батальон на них, то выскакивали на улицу раздетыми.
Нашим солдатам в лыжном батальоне приходилось трудно: привал разрешали только на 3 часа в сутки, питались в основном сухим пайком, т.к. кухни своей не было. Был случай, когда при взятии одной деревни из батальона (650 человек) было убито 120 человек. В деревню зашли — вместо домов одни трубы от печек торчат, немцы всё сожгли. Обнаружили котёл с водой, разожгли костёр. Собрались вокруг него греться. Так замёрзли, что выгорел весь котёл, дым пошёл. Был дан приказ: «Строиться!», и даже отдохнуть не успели. Уставшие солдаты засыпали прямо на ходу. Если разрешали привал на 15 минут, то, не отходя от места, падали на землю и спали. Как-то остановились на привал в школе, где стояли парты с покатыми столешницами. Сдвинули их поближе и легли спать. Неудобно было, скатывались на скамью, но сон был важнее.
Сдвинули их поближе и легли спать. Неудобно было, скатывались на скамью, но сон был важнее.
Настоящая дружба
Освобождены города Яхрома и Клин. В составе 1 Ударной армии 84 бригада была направлена на Волоколамск. 15 декабря при взятии деревни Сидоровка (в 3 км от Высоковска) гранатой был ранен друг Аркадия Ивановича Пётр. Было темно, и определить точно, откуда брошена граната, было невозможно. У друзей была договорённость: друг друга не бросать. Только Аркадий Иванович собрался бросить гранату в сторону дома, как кто-то сзади его опередил. Но граната, отлетев от угла дома, разорвалась рядом с Аркадием Ивановичем — крупные осколки попали в спину, ягодицу, шинель, валенки. Подхватили товарищи раненых и занесли их в дом. В том бою из 13 человек отделения невредимыми остались только двое: командир и солдат. Затем колхозники довезли их на лошадях до Высоковска, оттуда на машине — в г. Клин, а затем уже в госпиталь г. Дмитрова. Когда стали делать перевязку, то обнаружилось, что у Аркадия Ивановича начала гноиться рука, которую он обжёг давно, а Петька помог тогда её перевязать, да ноги у обоих обморожены. Но времени, обращать на это у ребят, тогда не было — не до того, война кругом.
Но времени, обращать на это у ребят, тогда не было — не до того, война кругом.
Когда их привезли в г. Загорск , разместили в церкви, то впервые за последние месяцы ребята оказались на чистых белых простынях, о которых уже и не мечталось, т.к. умывались-то снегом, спали, где придётся. Позднее раненые были перевезены в г. Горький (ныне Нижний Новгород), где появилась возможность помыться в бане, получили новое нательное бельё — вшей было много, ведь спать приходилось даже на кроватях, на которых до взятия очередного населённого пункта, спали немцы. Госпиталь находился в школе, в каждом классе размещалось по 12 раненых. Приходили их проведать школьники, приносили бумагу и карандаши, помогали писать письма.
Восстановление после тяжелых травм
После госпиталя Аркадий Иванович, расставшись с другом Петром Колпаковым (разминулись навсегда), был направлен в сформированный 32 Гвардейский полк, воевавший на миномётной установке «Катюша».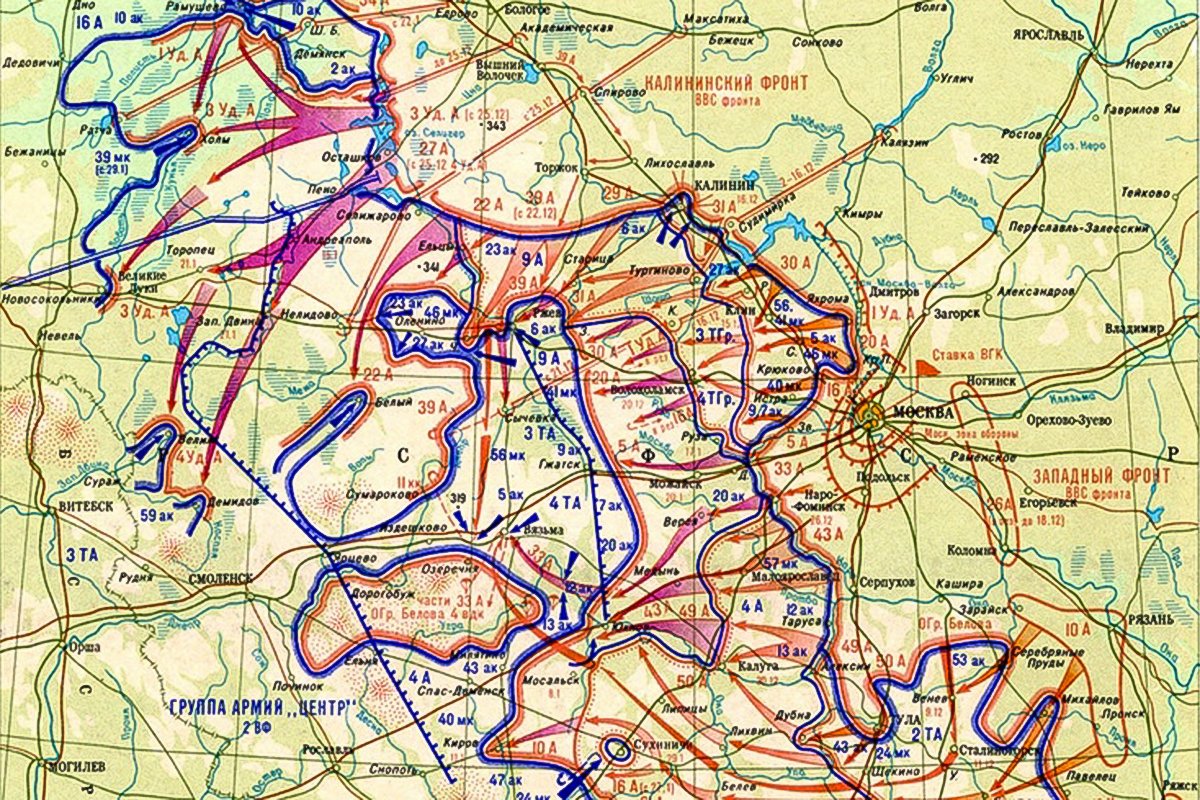 Месяц полк стоял под городом Горький, пока не получили установки, стрелявшие прямой наводкой и заряжавшиеся 24 реактивными снарядами. Немцы охотились за «Катюшей» и боялись её.
Месяц полк стоял под городом Горький, пока не получили установки, стрелявшие прямой наводкой и заряжавшиеся 24 реактивными снарядами. Немцы охотились за «Катюшей» и боялись её.
В 1944 году полк перебросили в Забайкалье, где японцы нарушали границу. Ехали открыто, не маскируясь, с целью устрашить японскую армию.
Наступил день победы, но война еще не закончена
День Победы 9 мая 1945 года Аркадий Иванович встретил в Забайкалье, где проводились учения Забайкальского фронта. В тот день ученья отменили, пели песни, радовались, но знали, что для них война ещё продолжается.
В июле 1945 года полк был направлен на границу и до 8 августа стоял около реки Аргун. Спали в машинах. По установленному понтонному мосту танки с установками «Катюша» перешли через реку.
Утром 22 августа 1945 года началась атака. Аркадий Иванович — командир орудия, комсорг дивизиона открыл огонь — за 6 секунд вылетело 48 снарядов. Один залп дали в городе Хайларе, сила у него была такая, что в испуг пришли не только японцы, но и наши забайкальцы, которые не участвовали в военных действиях с Германией. Вечером г. Хайлар сдался. Как выяснилось позднее, японское командование не знало, что против них воюет только одна дивизия, иначе бы они не сдались, т.к. были хорошо экипированы, имели большие запасы продуктов на длительное время, в каждой сопке было возведено до 50 дотов.
Вечером г. Хайлар сдался. Как выяснилось позднее, японское командование не знало, что против них воюет только одна дивизия, иначе бы они не сдались, т.к. были хорошо экипированы, имели большие запасы продуктов на длительное время, в каждой сопке было возведено до 50 дотов.
Действия японцев во многом были построены на древних традициях самураев. Им внушалось, что у русских танки фанерные и бояться их не надо. Такой был случай. Идут наши танки со скоростью 70 км/ч, а навстречу — японский автомобиль «летит» и не сворачивает. Оказался под гусеницами танка. Так поступали японские смертники, считавшие советские танки фанерными. Были случаи, когда японский смертник летит на самолёте и врезается в американские корабли, следуя заповеди: «Японец погибнет один, а американцев погибнет много».
Однажды была обнаружена долина, в которой находилось 2 отделения японских смертников. Они устроили в земле узкий лаз, переходящий в более широкий внизу, сверху маскировались ветками — никого не видно. Аркадий Иванович участвовал в их уничтожении, когда советские солдаты перебегали к замаскированным окопам — лазам и расстреливали находящихся там смертников.
Аркадий Иванович участвовал в их уничтожении, когда советские солдаты перебегали к замаскированным окопам — лазам и расстреливали находящихся там смертников.
Как-то группа прорыва Забайкальского фронта подошла к болоту, деревянный мостик через которое был разобран. Из сарая выскочили ожидавшие русский батальон японцы, но не успели предпринять никаких действий, т.к. наши танки стали их давить, того, кто заскочил обратно в сарай, расстреливали.
Был и смешной случай. Шёл Аркадий Иванович по китайской деревне и нашёл пачку незнакомых ему денежных купюр. Часть оставил себе, остальные раздал товарищам. И встречает китайца, везущего тележку с огурцами невиданной длины (40 см). Захотелось Аркадию Ивановичу порадовать сослуживцев. Достал из кармана одну из купюр, на которой написано «500» неизвестно чего и нарисован старый дед с бородой, и предложил её китайцу, показывая рукой на тележку и говоря: «Шаньго (что значит «хорошо»)». Торговец с удивлением схватил, вероятно, не маленькую деньгу, бросил товар и, пятясь задом, скрылся за углом. А Аркадий Иванович с удовольствием угощал друзей необыкновенным приобретением.
А Аркадий Иванович с удовольствием угощал друзей необыкновенным приобретением.
Война закончилась!
Японская армия капитулировала. Наконец-то война закончилась и для Аркадия Ивановича. В декабре 1946 года он демобилизовался из Монголии.
Награды за отвагу
У Попова Аркадия Ивановича 18 военных наград, в том числе орден Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги», медаль Первой Ударной армии, медаль «Министра военно-морского флота Кузнецова», медаль «Катюша», юбилейные медали «300-летие морского флота» и «60 лет битвы под Москвой».
Жизнь после войны
Возвратившись к мирной жизни, Аркадий Иванович закончил техникум дорожного машиностроения, 27,5 лет отработал на Челябинском заводе измерительных инструментов «Калибр» кладовщиком, секретарём комитета комсомола завода, начальником цеха. Затем перешёл на Челябинский радиозавод «Полёт», работал заместителем начальника цеха, начальником смены.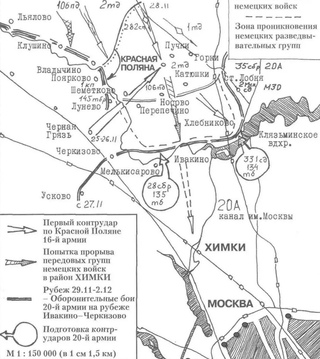 Затем вышел на заслуженный отдых, но усидеть дома не смог и через год вернулся на завод контролёром в родной цех, проработав ещё 4 года.
Затем вышел на заслуженный отдых, но усидеть дома не смог и через год вернулся на завод контролёром в родной цех, проработав ещё 4 года.
У Аркадия Ивановича дружная семья: заботливая и внимательная жена Зинаида Константиновна и два замечательных сына, которые уважают и ценят отца — фронтовика. Решил Аркадий Иванович показать своим близким места боевой славы. Проехали они всё Подмосковье, побывали на братской могиле, в которой захоронено более 970 человек, были в городах Яхрома, Клин, Дмитров, Волоколамск. В Музее вооружённых сил СССР в Москве долго стояли у стенда, в котором были собраны реликвии солдатской славы родной для Аркадия Ивановича 84 бригады морской пехоты, материал о славном командире бригады полковнике Молеве, погибшем под Москвой. И в это время к стенду подошла группа курсантов, экскурсовод которым сказал, что все в дивизии погибли, кроме тех, кто был ранен. А рядом стоял Попов Аркадий Иванович — ветеран войны, участник битвы под Москвой, свидетель тех страшных военных событий. Живая легенда! Но курсанты не знали об этом, а скромный фронтовик представиться не решился.
Живая легенда! Но курсанты не знали об этом, а скромный фронтовик представиться не решился.
В архиве семьи Поповых мне встретилось стихотворение, адресованное родственницей Аркадию Ивановичу: военному герою, бесстрашному солдату, перенёсшему все тяготы войны, ранение и сохранившему боевой дух после недавней серьёзной операции, ветерану труда, застенчивому, спокойному любящему дедушке, отцу и мужу, единственному оставшемуся в живых фронтовику из многочисленной родни. Прочитайте это посвящение и Вы.
Посвящается Попову Аркадию Ивановичу
Свет Иванович Аркадий,
Ведь не зря слывёшь ты дядей,
И поэтому недаром,
Опалённая пожаром,
Русь фашисту не сдана.
Пулемётчик был лихой
С пулемётом за спиной,
С другом Петькой неразлучным
Всю войну прошёл. Живой
Возвращается домой.
А рассказчик ты какой…
Ведь не зря тебя ребята
Окружали, как галчата,
Раскрывали рты пошире
И тогда по всей квартире
Слышно было, как солдат
На себе тащил в санбат…
Обработала текст Мария Терновая
Битва за Москву: 1941 год
В декабре 1940 года Генштаб сухопутных войск Германии проводил военно-штабную игру, в которой рассматривались разные варианты наступления на СССР. Руководил ею генерал Фридрих Паулюс (пленённый позднее советскими войсками под Сталинградом). Результаты игры легли в основу директивы № 21, известной как план «Барбаросса» (в переводе с итальянского — «рыжая борода»; таким было прозвище Фридриха I, императора Священной Римской империи). В этом плане Гитлер и его генералитет ставили перед германской армией задачу в быстротечной кампании (максимум за пять месяцев) разгромить Советский Союз. Отдельно подчёркивалось: захват Москвы означает «как в политическом, так и в экономическом отношении решающий успех».
Руководил ею генерал Фридрих Паулюс (пленённый позднее советскими войсками под Сталинградом). Результаты игры легли в основу директивы № 21, известной как план «Барбаросса» (в переводе с итальянского — «рыжая борода»; таким было прозвище Фридриха I, императора Священной Римской империи). В этом плане Гитлер и его генералитет ставили перед германской армией задачу в быстротечной кампании (максимум за пять месяцев) разгромить Советский Союз. Отдельно подчёркивалось: захват Москвы означает «как в политическом, так и в экономическом отношении решающий успех».Бородинское поле. 1941 год. У памятника героям Отечественной войны 1812 года. Фото Павла Трошкина.
Военный парад на Красной площади. Москва, 7 ноября 1941 года. Фото Аркадия Шайхета.
‹
›
Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву.
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков
Операция «Барбаросса»
Операцию «Барбаросса» должны были осуществить три группы армий. Группа армий «Север» под командованием фельдмаршала Вильгельма фон Лееба захватывала Прибалтику и двигалась на Ленинград. Группе армий «Юг» под началом Гердта фон Рундштедта надлежало взять Киев. Группа армий «Центр» (ею командовал фельдмаршал Фёдор фон Бок) наступала на Москву, предварительно заняв Минск, — неслучайно эта группа имела самое лучшее вооружение, половину всех танковых дивизий, в том числе её элитные части.
Группа армий «Север» под командованием фельдмаршала Вильгельма фон Лееба захватывала Прибалтику и двигалась на Ленинград. Группе армий «Юг» под началом Гердта фон Рундштедта надлежало взять Киев. Группа армий «Центр» (ею командовал фельдмаршал Фёдор фон Бок) наступала на Москву, предварительно заняв Минск, — неслучайно эта группа имела самое лучшее вооружение, половину всех танковых дивизий, в том числе её элитные части.
Как и Наполеон 129 лет назад, Гитлер начал войну против Советского Союза в те же июньские дни.
22 июня 1941 года, в 3 часа 12 минут утра по берлинскому времени, раздались первые залпы немецкой артиллерии. Для вторжения в СССР вермахт сосредоточил самые грандиозные силы, когда-либо участвовавшие в битвах за всю историю войн: 4 000 000 солдат, 3350 танков, 7000 орудий и свыше 2000 самолётов.
За пехотой шли первые волны авиации люфтваффе — бомбардировщики и истребители. Их лётчики уже знали, где находятся скопления советских танков, штабы советских армий, транспортные узлы. К полудню 22 июня было уничтожено 1200 советских самолётов — большинство из них на земле. Пилоты «мессершмитов» не верили своим глазам: сотни советских самолётов стояли у взлётно-посадочных полос, без какого-либо прикрытия, не замаскированные. Некоторые советские лётчики, поднявшись в воздух, в отчаянии пытались вести свои устаревшие самолёты на таран…
К полудню 22 июня было уничтожено 1200 советских самолётов — большинство из них на земле. Пилоты «мессершмитов» не верили своим глазам: сотни советских самолётов стояли у взлётно-посадочных полос, без какого-либо прикрытия, не замаскированные. Некоторые советские лётчики, поднявшись в воздух, в отчаянии пытались вести свои устаревшие самолёты на таран…
Гитлеровская армия придерживалась принципа, оправдавшего себя в кампаниях против Польши, Франции и других покорённых европейских стран: быстро и невзирая ни на что — вперёд! В ранцах немецких солдат лежали разговорники со словами: «Руки вверх!», «Где председатель колхоза?», «Ты — коммунист?», «Стреляю!». В документах пленных немецких солдат попадались свидетельства на право владения земельным наделом в России после её покорения.
На что надеялся Гитлер, затевая восточный поход? Казалось бы, козырей на руках у него имелось предостаточно.
Первый. Он верил в своих солдат: молодые, хорошо обученные, с богатым опытом сражений, уверенные в своих силах.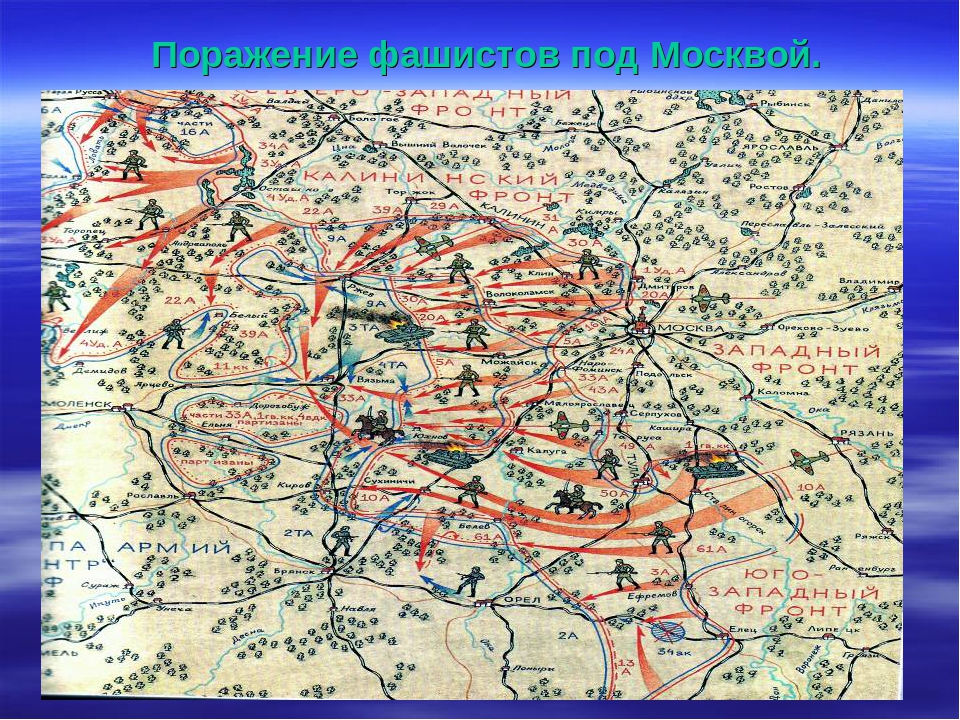 Тем паче, фюрер обещал им лёгкую и быструю победу над восточными «варварами».
Тем паче, фюрер обещал им лёгкую и быструю победу над восточными «варварами».
Второй. Гитлер хорошо знал о проведённых в СССР в 1937 году репрессиях против командиров Красной Армии. Волны Большого террора, подобно цунами, пронеслись сквозь Вооружённые силы СССР. Тогда пострадали почти 37 тысяч кадровых офицеров. Из них 706 находились в звании комбрига и выше. А если точнее, то были уничтожены 3 из 5 маршалов, 13 из 15 командующих армиями, 8 из 9 адмиралов флота и вице-адмиралов, 50 из 57 командующих корпусами, 154 из 186 командиров дивизий и так далее вниз по иерархической цепочке.
Третий. Фюрер был уверен, что советское общество, больше двадцати лет находившееся под прессом деспотии и террора, не сможет устоять перед ударом извне. И тёплый приём «освободителей от сталинского режима», который гражданское население поначалу оказывало захватчикам (особенно в Прибалтике, Западной Украине и Западной Белоруссии), убеждал немцев: они победят. Впрочем, этот очень благоприятный для немцев козырь действовал недолго. Слухи о чинимых оккупантами жестокостях быстро распространялись от деревни к деревне, от города к городу.
Слухи о чинимых оккупантами жестокостях быстро распространялись от деревни к деревне, от города к городу.
Четвёртый козырь. Гитлер полагал, что Советская страна, ослабленная Гражданской войной и интервенцией, все ещё не создала промышленность, способную производить все виды новейших вооружений. Незадолго до вторжения в Россию офицеры Генерального штаба провели по приказу Гитлера конференцию о состоянии советской экономики. Её вывод: страна ещё не способна производить хорошее вооружение взамен потерянного в боях.
И, наконец, пятый козырь. Внезапность нападения, дающая возможность полностью уничтожить части Красной Армии, сосредоточенные у западных границ Советского Союза. Неслучайно Гитлер уверял своё окружение в конце 1940 года, что к следующей весне немецкая армия будет в «зените», а советские войска — в «несомненном надире» (арабское слово: точка небесной сферы, противоположная зениту). В январе 1941 года он добавил: «Поскольку Россию надо разгромить в любом случае, лучше сделать это сейчас, когда её войска лишены командования и плохо вооружены».
И казалось, фашистский диктатор прав. За два месяца боёв, к 21 августа 1941 года, немцы окружили Ленинград и готовились им овладеть, собирались взять Киев, а группа армий «Центр» перед завершающим броском на Москву подошла к Смоленску и Ельне.
Был ли Советский Союз готов к войне?
О том, что Германия вот-вот нападёт на СССР, Сталину сообщали президент США Франклин Делано Рузвельт и английский премьер-министр Уинстон Черчилль. Но он, никого не слушая, неколебимо верил в идеальный сценарий: Советский Союз и нацистская Германия не будут воевать между собой. Немцы и западные союзники измотают друг друга в длительной войне, а за это время СССР наберётся сил, окрепнет. Возможно, ему даже представится шанс для дальнейших территориальных приобретений… И, строго придерживаясь условий пакта Молотова — Риббентропа, он пунктуально отправлял в Германию эшелон за эшелоном с зерном, нефтью, лесом, медью, марганцевой рудой, резиной — всем тем, что предполагали торговые обязательства в период действия пакта.
За десять дней до нападения Германии начальник Генштаба Георгий Константинович Жуков составил проект директивы о приведении в полную боевую готовность войск западных военных округов (у границ с Германией) и доложил о ней наркому обороны, маршалу Семёну Константиновичу Тимошенко. Последний сразу же позвонил Сталину с просьбой разрешить направить директиву войскам. В ответ услышал «нет».
21 июня к советским пограничникам явился перебежчик, немецкий фельдфебель, и уверял, что на рассвете следующего дня немецкие войска нападут на Советский Союз. Эту весть тут же сообщили Сталину, собрались члены Политбюро и военные. И вновь возникла мысль дать войскам пограничных округов упредительную директиву о полной боевой готовности. Но Сталин отклонил и её. «Такую директиву сейчас давать преждевременно, — сказал он, — может быть, вопрос ещё уладится мирным путём… Войска пограничных округов не должны поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений».
Советский разведчик в Токио Рихард Зорге слал своему начальству в ГРУ (Главное разведывательное управление) доклад за докладом, один тревожнее другого.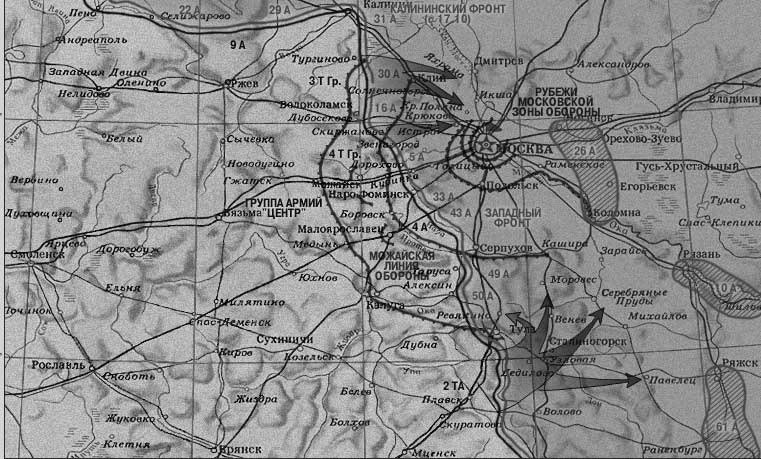 А за неделю до нападения немцев (15 июня) Зорге, рискуя жизнью (Япония была союзницей Германии), сумел передать в Москву: «Война будет начата 22 июня 1941 года»…
А за неделю до нападения немцев (15 июня) Зорге, рискуя жизнью (Япония была союзницей Германии), сумел передать в Москву: «Война будет начата 22 июня 1941 года»…
В половине шестого утра 22 июня, спустя два часа после фактического начала агрессии, посол Германии в СССР граф Вернер фон дер Шуленбург получил декларацию об объявлении нацистской Германией войны. Зачитав её текст министру иностранных дел Молотову, Шуленбург уже от себя добавил: «Решение Гитлера начать войну с Россией — полное сумасшествие».
Молотов поспешил в кабинет Сталина, где заседало Политбюро. Услышав новость, «отец народов», не сказав ни слова, безвольно опустился на стул. Размышления его, вероятно, были горькими: он, политик, известный своей изворотливостью, мастер изощрённой интриги, попал в ловушку, сооружённую, главным образом, собственными руками!
С фронтов пошла лавина катастрофических известий. На секретном совещании у Сталина высказывалась мысль заключить с Гитлером мир на любых, даже кабальных условиях, вплоть до того, чтобы отдать фюреру бóльшую часть Украины и Белоруссии, всю Прибалтику. Вызвали в Кремль болгарского посла Ивана Стаменова и попросили его стать посредником в переговорах с Германией. Тот наотрез отказался исполнить эту миссию. И привёл удивительный резон: «Даже если вам придётся отступить до Урала, всё равно, в конце концов, вы победите».
Вызвали в Кремль болгарского посла Ивана Стаменова и попросили его стать посредником в переговорах с Германией. Тот наотрез отказался исполнить эту миссию. И привёл удивительный резон: «Даже если вам придётся отступить до Урала, всё равно, в конце концов, вы победите».
Вязкое болото восточной войны
На тактику «блицкрига» Гитлер возлагал большие надежды. Как полагали и он и немецкий Генеральный штаб, слабость Красной Армии давала возможность за пять-шесть недель захватить громадные территории Советского Союза — до рубежа Архангельск — Волга — Астрахань. Основная роль в наступлении отводилась танковым соединениям, молниеносно продвигающимся вперёд под прикрытием собственного огня, при поддержке артиллерии и крупных сил штурмовой авиации.
Начать наступление предполагалось одним из двух способов. Либо фронтальным ударом на одном участке, когда вбивается «клин» в позицию противника и его оборона разрезается на части. Либо двумя ударами на разных участках, но по сходящимся направлениям, и тогда противника берут в «клещи».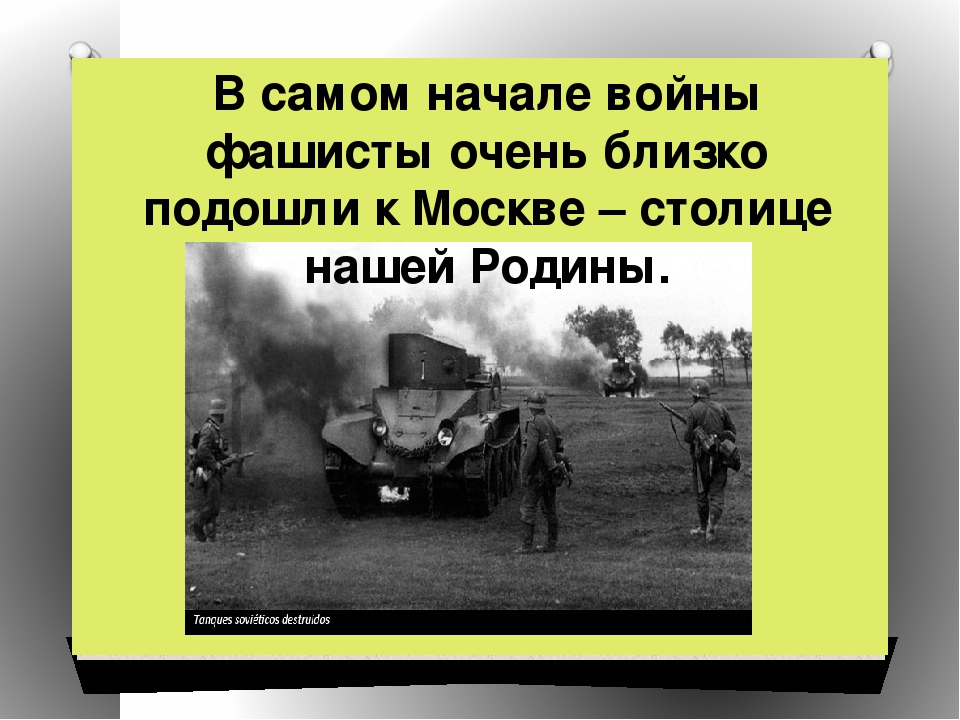
Тактика «клина» и «клещей» уже не раз была опробована немцами в военных действиях в Европе. Прорвав линию фронта, танковые соединения разрушали коммуникации, окружали и уничтожали войска противника. Управление частями происходило с помощью широкого использования радиосвязи.
Вначале дело у немцев шло по плану и на территории СССР. Уже 28 июня они захватили Минск. В окружение попали 400 тысяч советских солдат и офицеров. Но уже в ходе сражений за Смоленск (с 10 по 29 июля 1941 года) немецкое командование начало понимать, что план молниеносной войны рушится. Их пехотные дивизии не поспевали за продвижением танковых соединений, а сопротивление частей Красной Армии, попавших в окружение, создавало дополнительные трудности, на преодоление которых требовалось время и немалое.
Во время скоротечных кампаний в Польше, Норвегии, Франции и на Балканах проблемы снабжения, бесспорно, возникали, но никогда не создавали чего-то трудноразрешимого. В России же материально-техническое обеспечение приобрело для Германии такое же решающее значение, какое имели огневая поддержка, мобильность войск, их моральное состояние.
Вермахт, исповедуя доктрину «блицкрига», одновременно зависел от состояния 600 000 лошадей для орудийных упряжек и для перевозки санитарных и маркитантских фургонов. Пехотные дивизии проходили в день лишь 30 километров: скорость наступления войск вермахта пешим маршем вряд ли могла быть выше, чем у армии Наполеона.
Чаще, чем предполагалось, портилась техника. Двигатели выходили из строя из-за песка и пыли, а подвоз запасных частей опаздывал. Более широкая, чем в Европе, железнодорожная колея замедляла передвижение составов, которым требовалась замена колёсных пар при пересечении границы. Шоссейные дороги, отмеченные на картах, оказывались обычными просёлками, моментально превращавшимися в непролазные болота после коротких, но частых летних дождей. И немецким войскам нередко приходилось мостить дороги поваленными стволами берёз. Но чем глубже они проникали на территорию России, тем медленнее становились темпы их продвижения: труднее было подвозить боеприпасы и продовольствие, а ударная сила нашествия — танковые колонны — часто останавливались из-за банальной нехватки горючего.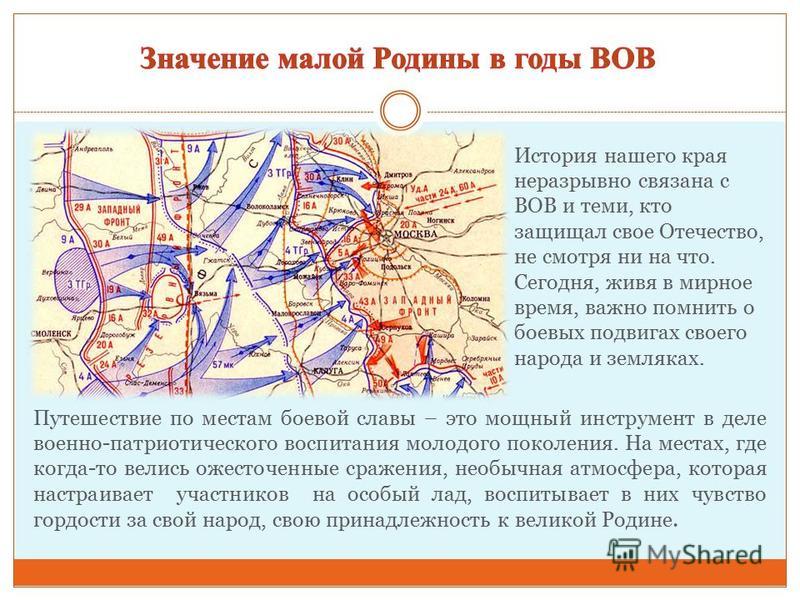
Чтобы держать территорию до 3000 километров по фронту и до 1000 километров в глубину, элементарно не хватало войск. Начальник Генштаба немецких сухопутных войск Франц Гальдер писал в своём военном дневнике: «На всех участках фронта, где не ведётся наступательных действий, войска измотаны. В сражение брошены наши последние силы. Общая обстановка всё очевиднее и яснее показывает, что колосс — Россия… был нами недооценён».
И ещё одна запись от 11 августа (через 51 день после начала Восточного похода на Советский Союз): «Накануне войны мы насчитывали около 200 вражеских дивизий. А сейчас перед нами стоят уже 360». И Гальдер вынужден был признать назревающую возможность превращения «блицкрига» в войну позиционную.
Операция «Тайфун»
После захвата Смоленска и Ельни у немцев не хватало сил для победного выхода на шоссе Минск — Смоленск — Москва. И Гитлер меняет план действий. Он временно приостанавливает движение войск на Москву, сосредоточившись на взятии Киева.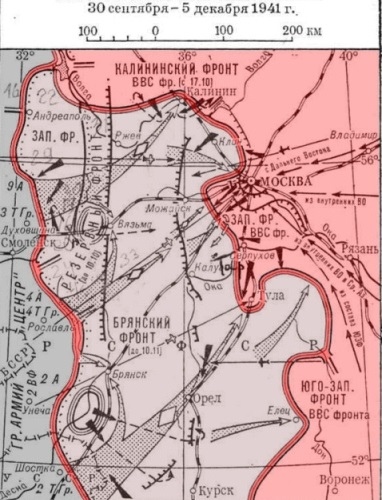
Немецкие генералы пытались протестовать. По их мнению, Москва представляла собой главный транспортный и промышленный центр, где производилось большое количество вооружений. Если её удастся захватить, рассуждали они, то у русских появятся большие проблемы с переброской живой силы и необходимых припасов. Помимо того, Москва — это «политическое солнечное сплетение» страны. И её захват поднимет боевой дух немецких войск, а русским нанесёт жестокий психологический удар.
Так рассуждали генералы, и мысли их были полны смысла. Но Гитлер заявил, что они ничего не понимают в экономике. Захват Ленинграда и Прибалтики обезопасит торговые пути в Скандинавию и в первую очередь — в Швецию. А продукция сельского хозяйства Украины — зерно и мясо — жизненно необходимы Германии. Ценен и богатый сырьём Донецкий бассейн.
30 июля последовала директива № 34. Группа армий «Центр», захватившая Смоленск, получила приказ остановиться. Бóльшую часть танков генерала Германа Гота Гитлер направил на север, в помощь войскам, наступавшим на Ленинград. А для нанесения завершающего удара по советским войскам, окружённым под Киевом, была повёрнута танковая армия генерала Хайнца Гудериана.
А для нанесения завершающего удара по советским войскам, окружённым под Киевом, была повёрнута танковая армия генерала Хайнца Гудериана.
Переброска немецких сил, сложные военные операции, борьба за овладение Киевом — на всё это ушло примерно полтора месяца (с начала августа по 20 сентября). После этого возник новый план наступления на Москву — операция «Тайфун» — и появилась директива № 35 о большом осеннем наступлении с главным ударом на Московском направлении.
Никогда прежде немецкое командование не использовало столь большие силы в составе одной группы армий и не развёртывало на одном направлении сразу три (из имевшихся четырёх) танковые группы. Только на Москву противник бросил больше танковых и моторизованных дивизий, чем применил в мае 1940 года против Франции, Бельгии и Нидерландов, вместе взятых. От общего количества военной силы, сосредоточенной на советско-германском фронте, на столицу СССР нацеливалось 75% танков (1700), 42% личного состава (1800 тысяч человек), 33% орудий и миномётов (свыше 14 тысяч), около 50% самолётов (1390).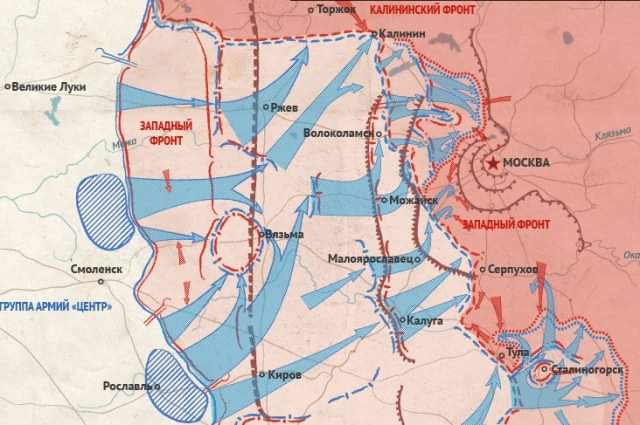
Войска трёх советских фронтов могли противопоставить силам противника около 1250 тысяч человек, 990 танков, 7600 орудий и миномётов, 677 самолётов (с учётом резервных авиагрупп).
План «Тайфун» предполагал развернуть боевые действия по линии фронта на 640 километров, а в глубину — на 400 километров. Ставилась задача: расчленить советскую оборону тремя мощными ударами танковых группировок. План предусматривал безостановочное продвижение немецко-фашистских войск к Москве. Расчёт был на то, что войска Красной Армии будут разгромлены на дальних подступах к Москве и защищать столицу будет уже некому. «Я разрушу этот проклятый город, а на его месте устрою искусственное озеро с центральным освещением. Название “Москва” исчезнет навсегда», — так говорил Адольф Гитлер.
Великая Отечественная
Операция «Тайфун» началась 30 сентября. Поначалу танковые группы фон Бока действовали успешно. Они окружили на центральном Московском направлении две русские армии — в районе Брянска и вокруг Вязьмы. В плен попало более полумиллиона красноармейцев, была уничтожена и захвачена тысяча советских танков — больше, чем имелось во всех трёх танковых группах фон Бока. А тем временем началась настоящая осенняя распутица. Уже 6 октября выпал первый снег. Он быстро растаял, дороги превратились в реки жидкой грязи, в которой увязли германские грузовики. Единственным средством передвижения стали крестьянские телеги с запряжёнными в них лошадьми. (В некоторых безлесных местностях временные дороги настилали из трупов погибших советских солдат, их использовали вместо брёвен.)
В плен попало более полумиллиона красноармейцев, была уничтожена и захвачена тысяча советских танков — больше, чем имелось во всех трёх танковых группах фон Бока. А тем временем началась настоящая осенняя распутица. Уже 6 октября выпал первый снег. Он быстро растаял, дороги превратились в реки жидкой грязи, в которой увязли германские грузовики. Единственным средством передвижения стали крестьянские телеги с запряжёнными в них лошадьми. (В некоторых безлесных местностях временные дороги настилали из трупов погибших советских солдат, их использовали вместо брёвен.)
Пехота вермахта теряла обувь в грязи, доходившей солдатам до колен. Командиры, автомобили которых выносили из грязи «на руках» солдаты, недоумевали, как можно воевать в подобных условиях. «Лишь тот, кто на себе испытал, что такое жизнь в грязевых канавах, которые мы называли дорогами, может понять, что должны были терпеть люди и машины, и трезво судить о ситуации на фронте», — писал тогда генерал Гудериан.
Для немцев наступили дни тяжёлой борьбы не только с отчаянно оборонявшимися советскими войсками. Во второй половине октября зима обрушилась со всей силой — со снегопадами, жестокими ветрами и температурой до минус 20 градусов по Цельсию. Двигатели немецких танков замерзали. На линии фронта немцы копали блиндажи, чтобы укрыться от мороза и от разрывов снарядов, но земля превратилась в камень, и, перед тем как копать, приходилось разводить большие костры. «Многие солдаты ходят, замотав ноги бумагой», — писал командир одного танкового корпуса генералу Фридриху Паулюсу. К началу декабря случаи обморожения стремительно обгоняли число раненых, до Рождества обморозилось более 100 тысяч человек.
Во второй половине октября зима обрушилась со всей силой — со снегопадами, жестокими ветрами и температурой до минус 20 градусов по Цельсию. Двигатели немецких танков замерзали. На линии фронта немцы копали блиндажи, чтобы укрыться от мороза и от разрывов снарядов, но земля превратилась в камень, и, перед тем как копать, приходилось разводить большие костры. «Многие солдаты ходят, замотав ноги бумагой», — писал командир одного танкового корпуса генералу Фридриху Паулюсу. К началу декабря случаи обморожения стремительно обгоняли число раненых, до Рождества обморозилось более 100 тысяч человек.
Но ведь и Красная Армия сражалась в тех же условиях, но смогла в итоге переломить ход событий. Почему?
Для большей части населения СССР политические мотивы борьбы с фашизмом имели второстепенное значение. Основным стимулом стал врождённый патриотизм русского человека, поднявшегося на защиту родной земли. Война с гитлеризмом вскоре получила название «Великой Отечественной».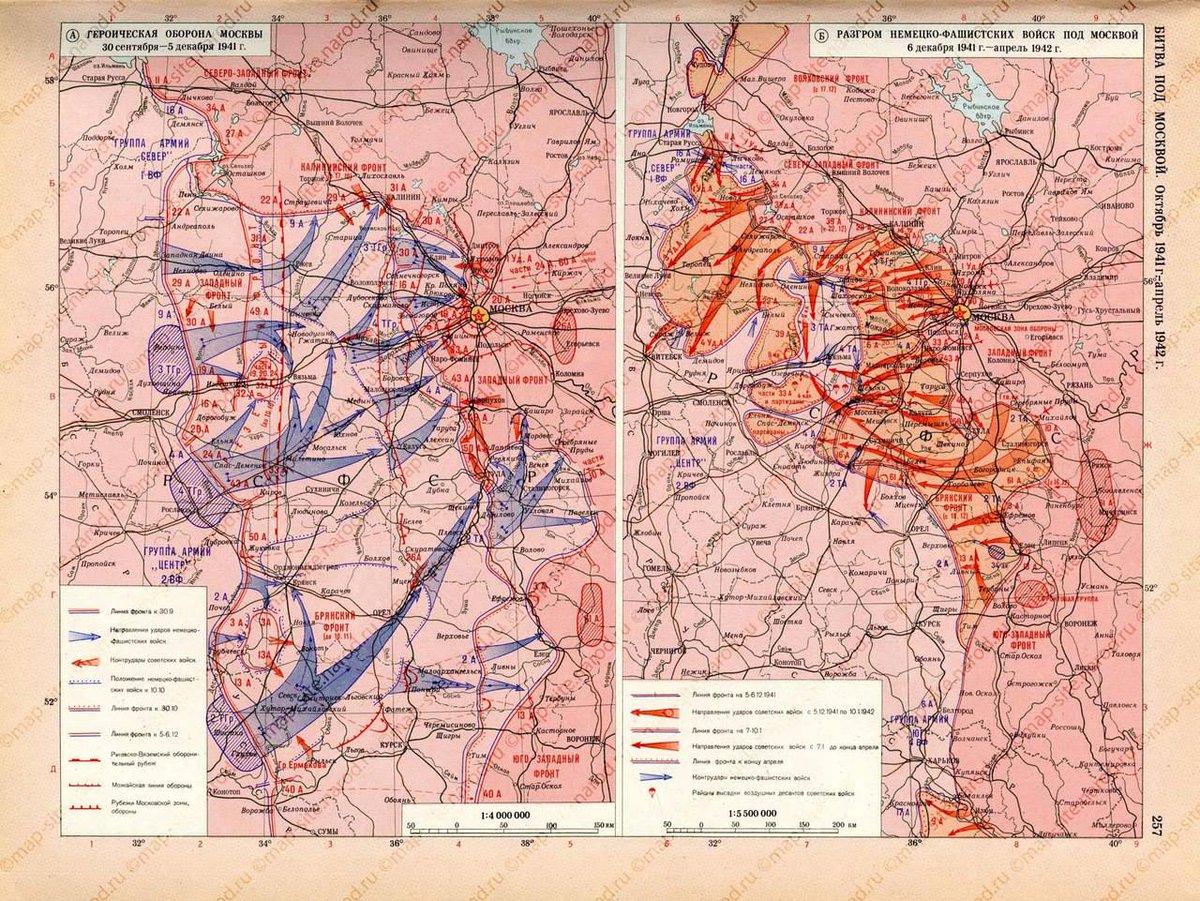
Но в тяжёлые времена народу нужен командир, вождь. Страной руководил Сталин. Тиран, восточный деспот, самодур, организатор массовых репрессий. Что ж из того? Большинство населения деспотизма, увы, не замечало или не хотело замечать. Другого вождя у страны не было. И решение Сталина остаться в столице после того, как он отдал приказ начать эвакуацию из Москвы правительственных, военных и гражданских учреждений, было воспринято в войсках с энтузиазмом.
Американский журналист Эндрю Нагорский пишет:
«Сталин был живым доказательством изречения Макиавелли: “Для государя безопаснее, чтобы его боялись, чем любили”, но временами он близко подходил к флорентийскому идеалу: “Нужно, чтобы тебя и боялись, и любили”».
Сталин это понимал. Он охотно принял сравнение войны против Гитлера с
Отечественной войной против нашествия Наполеона. Вождь пошёл ещё дальше и воззвал к памяти «непролетарских» героев русской истории — Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова.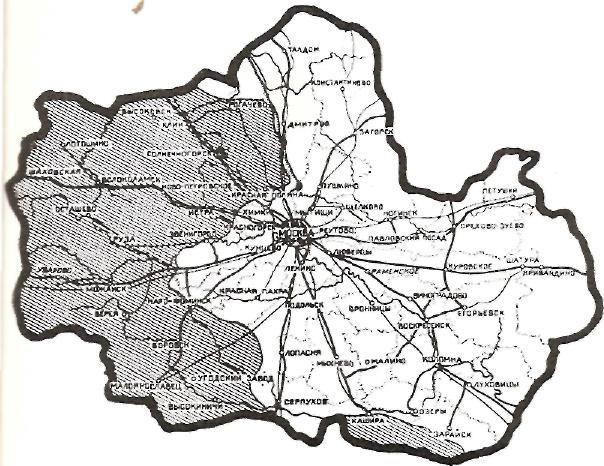 А в радиовыступлении 3 июля 1941 года даже обратился к народу с удивительными словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». И с беспрецедентной откровенностью заявил, что Родина находится в смертельной опасности, поскольку немецкие войска продвинулись далеко в глубь территории Советского Союза. А ведь ранее в официальных сообщениях говорилось только о тяжёлых потерях, понесённых противником…
А в радиовыступлении 3 июля 1941 года даже обратился к народу с удивительными словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». И с беспрецедентной откровенностью заявил, что Родина находится в смертельной опасности, поскольку немецкие войска продвинулись далеко в глубь территории Советского Союза. А ведь ранее в официальных сообщениях говорилось только о тяжёлых потерях, понесённых противником…
В самые трудные дни, когда немцы находились на ближних подступах к Москве, когда над столицей нависла смертельная угроза, более 100 тысяч человек записались в дивизии народного ополчения, а четверть миллиона москвичей, в основном женщины и подростки, рыли противотанковые рвы.
7 ноября 1941 года подкрепления для армий Жукова проходили парадом у стен Кремля и прямо оттуда направлялись на передовую сражаться с захватчиками. Молотов и Берия (Сталин называл последнего «наш Гиммлер») считали идею проведения ноябрьского парада безумной, боясь авиации люфтваффе, которая тогда господствовала в воздухе. Однако Сталин, осознавая символическую значимость проведения традиционного парада на Красной площади, приказал сосредоточить все имевшиеся в наличии силы ПВО и зенитные батареи на Московском направлении. Он прекрасно представлял себе, какой эффект произведут документальные съёмки и фотографии этого события, когда их покажут во всём мире. Теперь он знал правильный ответ на речи Гитлера: «Если немцы хотят войны на уничтожение, — заявил он накануне праздничного парада, — они её получат!»
Однако Сталин, осознавая символическую значимость проведения традиционного парада на Красной площади, приказал сосредоточить все имевшиеся в наличии силы ПВО и зенитные батареи на Московском направлении. Он прекрасно представлял себе, какой эффект произведут документальные съёмки и фотографии этого события, когда их покажут во всём мире. Теперь он знал правильный ответ на речи Гитлера: «Если немцы хотят войны на уничтожение, — заявил он накануне праздничного парада, — они её получат!»
Советское военное чудо
В один из самых трудных моментов обороны Москвы было созвано чрезвычайное заседание ГКО (Государственного комитета обороны) и Сталин приказал Жукову, который в то время жёсткими мерами укреплял оборону Ленинграда, немедленно вылететь в Москву и на месте изучить обстановку. Затем Жуков получил приказ организовать из остатков частей, вырвавшихся из окружения, новый Западный фронт — все мало-мальски боеспособные соединения направлялись на некое подобие линии фронта с приказом держаться до подхода резервов Ставки.
Жуков стал одним из организаторов того «русского военного чуда», которому не устаёт удивляться мир. Разгромленная, обес-
кровленная, почти полностью уничтоженная Красная Армия в конце ноября 1941 года словно бы восстала из мёртвых и в декабре отбросила силы вермахта от Москвы.
Исход Московской битвы решили вовсе не «генералы Грязь и Мороз» (как их часто величают на Западе), не глупость и некомпетентность Гитлера (на самом деле он был неплохим стратегом), а возросшее за четыре месяца в боях мастерство советского командования и, пожалуй, главное — самоотверженность и стойкость Русского Солдата.
Самой большой ошибкой, совершённой немецкими генералами, была недооценка простых красноармейцев — «Ивáнов», как их нередко называли нацисты. Генерал Гальдер, который в начале июля был уверен: ещё немного — и победа уже в руках у немцев, вскоре почувствовал, что уверенность эта тает. «Русские повсюду сражаются до последнего человека, — записал он в своём дневнике. — Они очень редко сдаются». Ему докладывали, что советские танкисты не сдаются в плен, они продолжают отстреливаться из горящих танков.
— Они очень редко сдаются». Ему докладывали, что советские танкисты не сдаются в плен, они продолжают отстреливаться из горящих танков.
Из письма к жене немецкого рядового А. Фольтгеймера, декабрь 1941 года: «Здесь ад. Русские не хотят уходить из Москвы. Они начали наступать. Каждый час приносит страшные для нас вести… Умоляю тебя, перестань мне писать о шёлке и резиновых ботиках, которые я обещал тебе привезти из Москвы. Пойми, я погибаю, я умру, я это чувствую…»
Если дух советских солдат закалялся в сражениях, то метаморфозы, творящиеся с немецкими солдатами, шли прямо в противоположном направлении. И это — ещё один фактор, обусловивший поражение немцев в битве за Москву.
Стойкость, дисциплинированность, умение наступать и держаться в обороне отличали немецкого солдата в 1939—1941 годах. Германские генералы верили в своих подчинённых. В большинстве это были волевые, грамотные в военном отношении, хорошо вооружённые бойцы, имевшие опыт боевых действий и убеждённые в своём превосходстве над противником. В полную силу работала и германская пропаганда. Всюду ходила по рукам брошюра «Почему мы начали войну со Сталиным». Их страницы пестрели лозунгами и призывами к германским солдатам бороться «со злыми происками проеврейского сталинского правительства».
В полную силу работала и германская пропаганда. Всюду ходила по рукам брошюра «Почему мы начали войну со Сталиным». Их страницы пестрели лозунгами и призывами к германским солдатам бороться «со злыми происками проеврейского сталинского правительства».
Начало советского контрнаступления под Москвой вызвало уже панические настроения. Из письма солдата Алоиса Пфушера своим родителям от 25 февраля 1942 года: «Мы находимся в адском котле, и кто выберется отсюда с целыми костями, будет благодарить бога… Борьба идёт до последней капли крови. Мы встречали женщин, стреляющих из пулемёта, они не сдавались, и мы их расстреливали… Ни за что на свете не хотел бы я провести ещё одну зиму в России…»
И ещё одна характерная выдержка из письма ефрейтора Якоба Штадлера, написанного 28 февраля 1942 года: «Здесь, в России, страшная война, не знаешь, где находится фронт: стреляют со всех четырёх сторон…»
В ходе отступления к худшему менялись взаимоотношения между солдатами в боевых частях.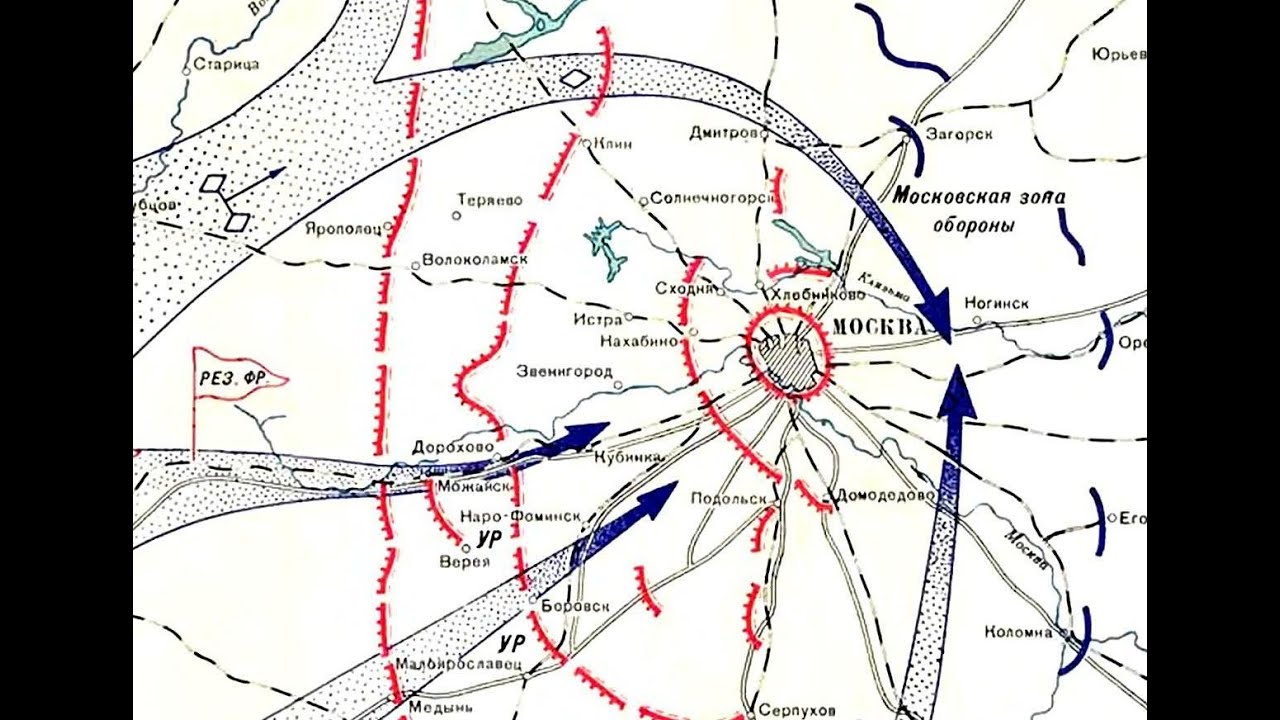 Появились недостойные военнослужащих вермахта поступки — кража у товарищей, грабежи, драки. Возникло и ироническое отношение к наградам. После учреждения в 1942 году медали за зимнюю русскую кампанию ей тут же дали прозвище: «Орден замёрзшей плоти».
Появились недостойные военнослужащих вермахта поступки — кража у товарищей, грабежи, драки. Возникло и ироническое отношение к наградам. После учреждения в 1942 году медали за зимнюю русскую кампанию ей тут же дали прозвище: «Орден замёрзшей плоти».
Вскоре стали проявляться и гораздо более серьёзные примеры недовольства солдат. Так, командующий 6-й армией фельдмаршал Вальтер фон Райхенау буквально потерял самообладание, когда накануне Рождества на стене дома, предназначенного для его штаб-квартиры, обнаружил надпись: «Мы хотим обратно в Германию! Нам это надоело. Мы грязные и завшивленные и хотим домой!»
Об огромном моральном уроне, который немцы понесли зимой 1941 года, говорят и такие факты: гитлеровские военные трибуналы осудили тогда 62 тысячи солдат и офицеров — за дезертирство, самовольный отход, неповиновение и т.д. Тогда же от занимаемых постов были отстранены 35 высших чинов. Среди них — генерал-фельдмаршалы Вальтер фон Браухич и Фёдор фон Бок, командующие 2-й и 4-й танковыми армиями генералы Хайнц Гудериан и Эрих Гёпнер и другие.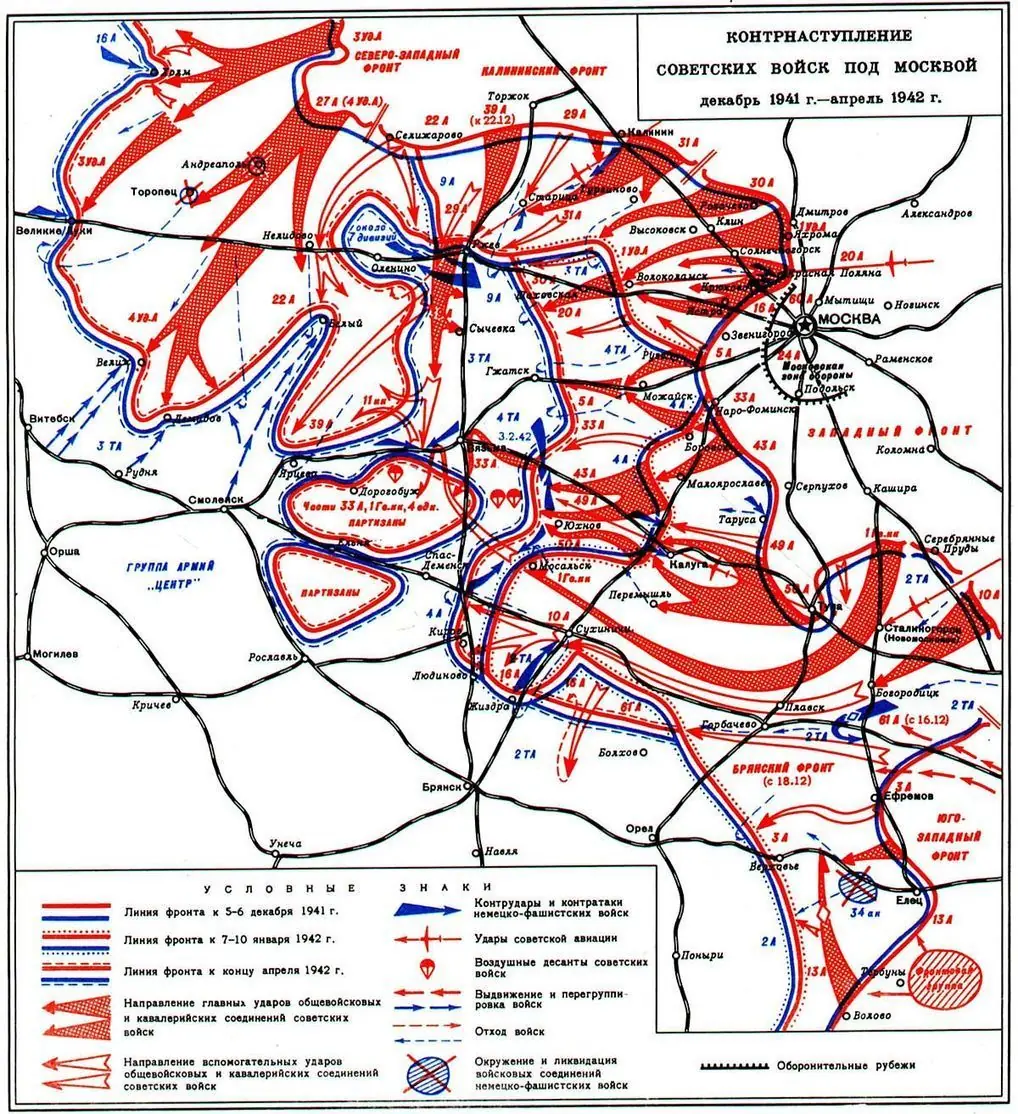
Откат немцев от Москвы
Враг, оказавшийся в некоторых местах всего в 25 километрах от столицы, был остановлен и лишён способности продолжать наступление. А затем начался отход немецких войск на запад. 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта под командованием генерала Ивана Степановича Конева атаковали немецкие войска. Залпы «катюш», которым солдаты вермахта дали название «сталинские оргáны», возвестили о начале решительного контрнаступления.
Задержки и проволочки с наступлением немцев на Москву дали Сталину время убедиться в том, что Япония, союзница Германии, не намерена нападать на Советский Союз с востока. Рихард Зорге выяснил, что Япония планирует нанести удар не по советскому Дальнему Востоку, как ожидалось, а в районе Тихого океана, против американцев. Всё это позволило перебросить на защиту Москвы по Транссибирской железнодорожной магистрали стоявшие на маньчжурской границе сибирские дивизии. И первые два стрелковых полка сибиряков сразу же вступили в бой с дивизией СС «Дас Рейх» на Бородинском поле.
Очень скоро стало ясно, что советское командование планирует окружить противника. В полосы предстоящих боевых действий советских войск стали выдвигаться резервные армии. Были проведены и две воздушные операции по разгрому авиации противника: впервые советская авиация завоевала оперативное господство в воздухе.
Армии фон Бока начали стремительно отступать и за десять дней отошли на 150—400 километров. Были полностью освобождены Московская, Тульская и Рязанская области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей. Немцы потеряли свыше 400 тысяч человек, 1300 танков, 2500 орудий, свыше 15 тысяч машин и много другой техники. В Московской битве советские войска впервые с начала Второй мировой войны нанесли крупное поражение армиям фашистской Германии.
Ещё предстояли Сталинградское сражение и битва на Курской дуге, операция «Багратион» (освобождение Белоруссии) и финальный эпизод — взятие Берлина.
В книге «Танковый блицкриг» военный историк Михаил Борисович Барятинский пишет: «…Налицо явная недооценка противником как военных ресурсов, так и мобилизационных возможностей Советского Союза, приведшая к непониманию того факта, что окончательно и бесповоротно разгромить Красную Армию в приграничном сражении нельзя.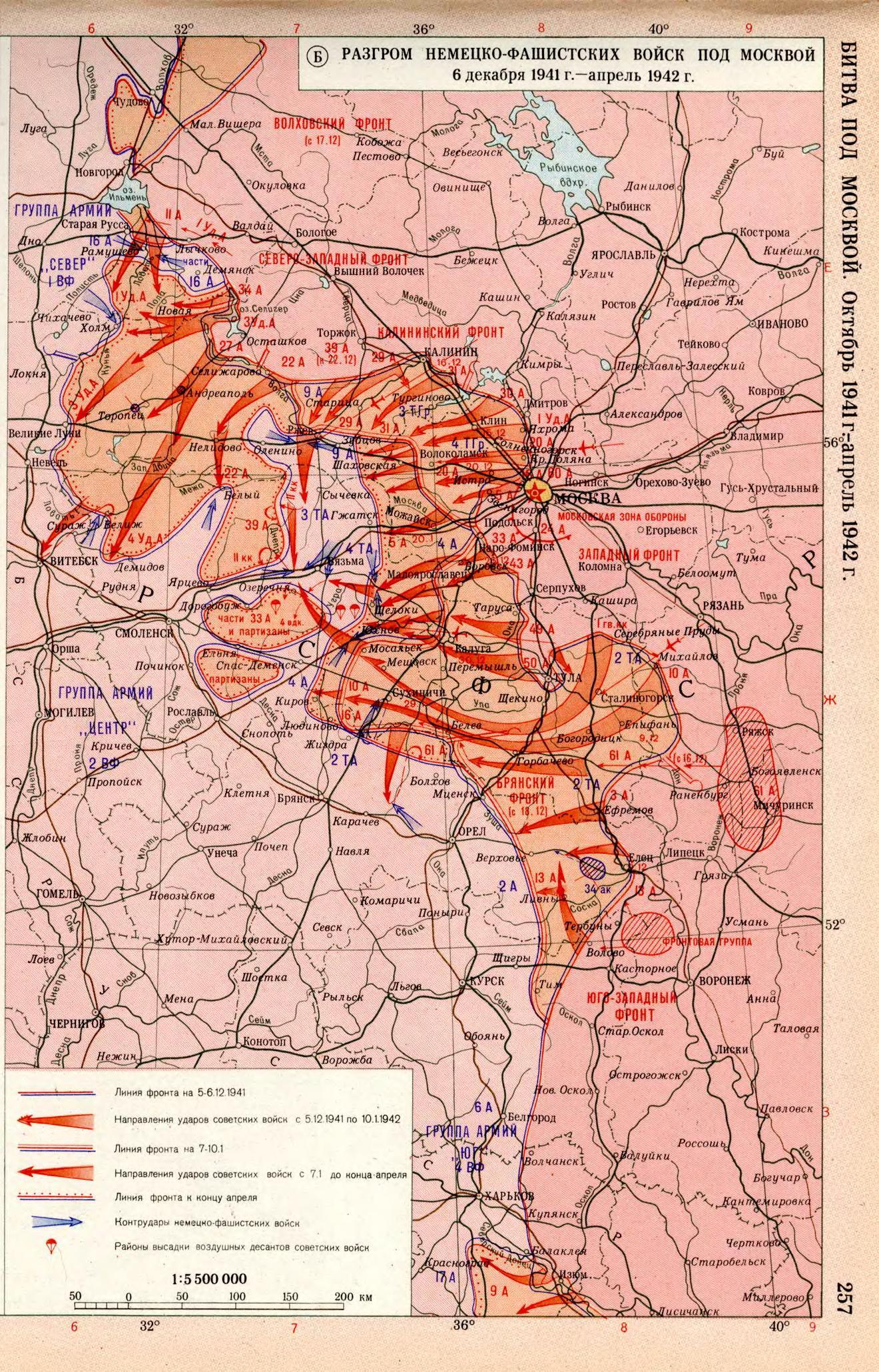 На смену разбитой всё равно придёт ещё одна Красная Армия. Это в Европе разгром армии означал и одновременный захват всей или почти всей территории страны. В России такой номер не проходил».
На смену разбитой всё равно придёт ещё одна Красная Армия. Это в Европе разгром армии означал и одновременный захват всей или почти всей территории страны. В России такой номер не проходил».
Портретная галерея
Дорогие коллеги и гости Евразийской экономической комиссии!
Для граждан многонационального евразийского пространства 2020 год ознаменован большим событием – 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
В странах ЕАЭС в юбилейном году организовано множество мероприятий, посвящённых этому великому и скорбному событию.
В это время мы говорим о недопустимости забвения памяти наших славных предков, победивших в страшной войне.
Молодежный совет Евразийской экономической комиссии тоже решил внести свою лепту, организовав в честь 75-летия Великой Победы проект «Наши Герои», который посвящен памяти наших предков – участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и их безмерному самоотверженному подвигу.
Каждый из народов государств – членов Евразийского экономического союза внёс свой вклад в общую Великую Победу, которая была достигнута ценой неимоверных лишений и миллионов жизней наших героических бабушек и дедушек, участвовавших в ожесточенных боях за свободу и благополучие своей Родины и будущих поколений – нас с вами!
На фотографиях проекта «Наши Герои» – родные и близкие членов Коллегии (министров), должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии (в том числе бывших служащих).
Победа в Великой Отечественной войне – это не только славные военные сражения, это миллионы судеб.
За каждым портретом и каждой фамилией стоит особая история героизма и невыносимых лишений.
Наша задача – делиться этими историями друг с другом, и тогда память о наших предках будет храниться в сердце каждого.
Вечная память и Вечная слава нашим Героям!
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
В 1941 году фашисты смогли занять Калинин, но тут же оказались в западне
Мы продолжаем проект к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наши рассказы о городах-героях и городах воинской славы. Сегодня — Тверь. Этот рубеж фашисты Смогли занять. Но тут же оказались в западне. Выступить оттуда на Москву им не дали.
Наши рассказы о городах-героях и городах воинской славы. Сегодня — Тверь. Этот рубеж фашисты Смогли занять. Но тут же оказались в западне. Выступить оттуда на Москву им не дали.
Владимир Митрофанов видел войну очень близко на улицах родного города, который тогда назывался Калинин, теперь это Тверь. Когда немцы захватили город, ему было всего 8 лет. Увиденное в детстве в память врезалось на всю жизнь.
«Мы оказались в обороне, где немцы были. На левом берегу Волги были наши, а на правом мы с немцами оказались. Видел я, как наши самолёты горели, как лётчики падали. Я тоже был контужен», — вспоминает труженик тыла Владимир Митрофанов.
Это было в октябре 41-го. Немцы, прорвавшись в Калинин, планировали дальше наступать сразу по трем направлениям: на Москву, Ленинград и Ярославль. Наши войска этого не допустили, они сражались за Калинин два месяца. В самом начале оккупации свой подвиг совершил легендарный экипаж Степана Горобца. Это ему памятник в самом центре Твери. Его Т-34, единственный из всей танковой колонны, смог прорваться в захваченный Калинин. Остальные на подступах к нему были подбиты. Экипаж Горобца ворвался в город, проехал по центральным улицам, обстрелял и уничтожил немецкую технику. В их танк тоже стреляли, он горел, глох, но экипажу удалось выехать из города невредимым.
Остальные на подступах к нему были подбиты. Экипаж Горобца ворвался в город, проехал по центральным улицам, обстрелял и уничтожил немецкую технику. В их танк тоже стреляли, он горел, глох, но экипажу удалось выехать из города невредимым.
«Такого за всю войну не было. За этот беспримерный подвиг лично командующий 30-й армией Хоменко снял орден Красного знамени и вручил его командиру этого экипажа Степану», — рассказывает военный историк Владимир Пяткин.
Подвиг совершила и дивизия под командованием лейтенанта Кацитадзе, которая защищала Тверецкий мост и не давала немецкой танковой дивизии прорваться дальше, к Москве. Силы были неравны, у наших войск было всего 4 противотанковых орудия. Но батарея не отступала и три дня отбивала атаки, пока на помощь не подоспела 256-я стрелковая дивизия.
«Вся суть Калинина в том, что немцы-то вошли, а выйти им не дали. Они рвались на Бержск – не вышло, на Москву – 5-я дивизия костьми легла, подошли наши другие дивизии. Остановили и держали целый месяц. Если бы немцы прорвались к Москве, это была бы трагедия», — говорит Владимир Митрофанов.
Если бы немцы прорвались к Москве, это была бы трагедия», — говорит Владимир Митрофанов.
Чтобы они не прорвались, 19 октября был создан Калининский фронт под командованием генерала-полковника Конева. Попытки освободить город были постоянно, но сделать это удалось только в декабре. 14 числа солдаты 29-й и 31-й армий обошли Калинин с юго-востока, перерезали Волоколамское и Тургиновское шоссе. К концу следующего дня кольцо советских войск под Калининым почти сомкнулось. Немцы, бросив всю технику, бежали из города. На Доме офицеров в тот же день, 16 декабря, появилось красное знамя как символ освобождения.
За два месяца оккупации город изменился до неузнаваемости — целые районы были сожжены. В центре города немцы устроили захоронения своих солдат. Символ города — старый Волжский мост, по которому сегодня едут машины, в 1941-м был взорван. Его восстановили примерно через год.
Антонина Гордеева вернулась в Калинин уже после оккупации и не узнала даже улицу, на которой прожила всё детство.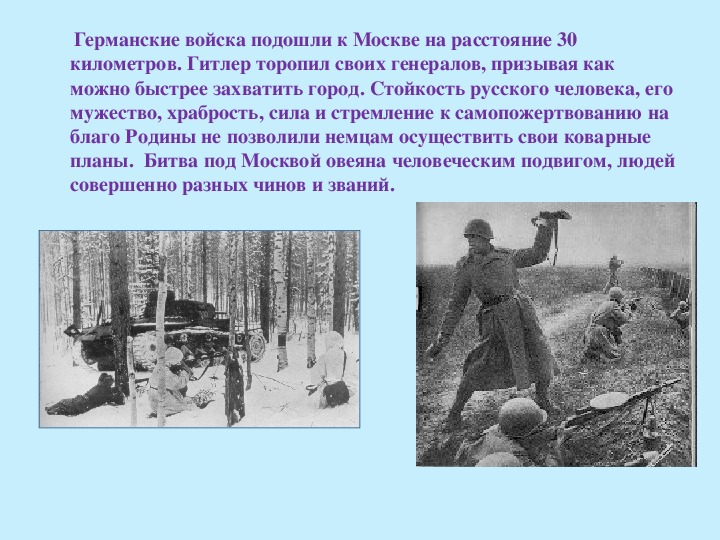 Из родного города она уехала в самом начале войны, вместе с госпиталем, в который пришла работать 17-летней девчонкой.
Из родного города она уехала в самом начале войны, вместе с госпиталем, в который пришла работать 17-летней девчонкой.
«По трое суток мы не отходили от перевязочного стола. Нам кто-нибудь сухарик или галету пихнёт в рот из санитаров, попоит чем-нибудь. Приходилось очень туго», — вспоминает участник Великой Отечественной войны Антонина Гордеева.
Антонина Филипповна помнит, как Калинин начали восстанавливать. Все вместе — женщины, старики, дети — в морозный январь выходили на улицу, разбирали завалы, очищали город от немецких кладбищ. Одним из первых заработал стекольный завод, вслед за ним — вагоностроительный. И на том, и на другом трудились подростки. Калинин постепенно возвращался к жизни, пусть пока не к мирной, но вне оккупации. Он стал первым областным центром, который Красная армия освободила в ходе контрнаступления под Москвой.
КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н. ТУПОЛЕВА
Воспоминания о войне
(Исаак Ехиелевич Великовский, доцент кафедры режущих станков и инструментов)
22 июня 1941 года жители города Йошкар-Олы собрались на главной площади города. Отмечалась 25-я годовщина образования Марийской автономной республики. По окончании митинга мы колоннами возвращались в школы. Неожиданно нас остановила конная милиция и предложила вернуться на площадь. Те же руководители республики с трибуны объявили: «Сегодня в 4 часа утра без объявления войны Германия вероломно напала на нашу страну».
Отмечалась 25-я годовщина образования Марийской автономной республики. По окончании митинга мы колоннами возвращались в школы. Неожиданно нас остановила конная милиция и предложила вернуться на площадь. Те же руководители республики с трибуны объявили: «Сегодня в 4 часа утра без объявления войны Германия вероломно напала на нашу страну».
1-го сентября начались занятия. Из 4-х школ города в трех разместили госпитали для раненых и бойцов. Наша школа работала – с 7 до 23 часов. В городе не было электричества, его давали только на военные объекты. В середине класса висела одна керосиновая лампа – вот и все освещение.
В ноябре 1941 года наступили сильные морозы – до минус 35°. Бои шли уже под Москвой. Наш класс, как и другие, решил послать подарки бойцам к новому 1942 году. Собрали теплые вещи: варежки, шерстяные носки и шарфы, мыло, сухари, конфеты; сшили кисеты и наполнили их папиросами и махоркой. Попросили бойцов действующей армии крепче бить фашистов.
Какова же была наша радость, когда через месяц мы получили письмо с фронта с благодарностью за наш скромный подарок.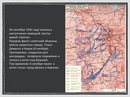 Бойцы обещали уничтожить фашистскую гадину и освободить нашу священную землю: «Победа будет за нами и окончательный разгром врага близится». А ведь до дня Победы было еще три тяжелейших года войны, и не все бойцы, подписавшие это письмо, дожили до этого дня.
Бойцы обещали уничтожить фашистскую гадину и освободить нашу священную землю: «Победа будет за нами и окончательный разгром врага близится». А ведь до дня Победы было еще три тяжелейших года войны, и не все бойцы, подписавшие это письмо, дожили до этого дня.
Это письмо с фронта я бережно храню уже более 60 лет и вот оно перед вами.
Дорогие товарищи, молодые патриоты нашей Великой Родины, примите наш пламенный боевой привет. Нет слов выразить чувства искренней благодарности за полученный от Вас очень дорогой для нас подарок.
Эти строки благодарности пишем под грохот артиллерийских залпов наших славных артиллеристов – воинов страны социализма.
Кончилось то время, когда фашистские стервятники и бандиты с большой дороги своими снарядами разрушали наши мирные города и села. Им не удалось выполнить приказы обербандита Гитлера: торжествовать победу в сердце нашей Родины – Москве.
Рады Вам сообщить, что последние дни наша часть освободила от фашистов 8 населенных пунктов и многим «арийцам» пришлось поплатиться жизнью за страдания многомиллионного Советского народа и за осквернение нашей священной земли. Трудно и даже невозможно передать ту радость, с которой население встречало наших славных бойцов.
Трудно и даже невозможно передать ту радость, с которой население встречало наших славных бойцов.
В 3 часа ночи стар и мал выходили встречать освободителей.
В нашей части в этой освободительной – Отечественной войне выросли во весь рост ряд Героев, до этого ничем не заметных советских людей. Десятки из них представляются к высшей правительственной награде. Вот один: рядовой боец тов. Розанов в бою уничтожил больше десятка фашистских мерзавцев и когда командир взвода был тяжело ранен – он истинный патриот нашей родины, возглавил взвод и с призывом «За Родину, за Сталина!!!» – повел бойцов и уничтожил фашистов, занял село А.
Эти скромные подарки свидетельствуют о Вашей Любви к нашей славной армии. Мы это понимаем и помимо чувств благодарности заверяем Вас, что Ваши надежды и чаяния об уничтожении фашистской гадины и освобождении нашей священной земли, мы оправдаем с честью.
Каждый боец, командир и политработник окружен заботой и поддержкой многомиллионного советского народа, а в бой нас ведет Великий Сталин.
Победа будет за нами и окончательный разгром врага близится.
Дорогие друзья!!! Примите нашу благодарность и пожелания успеха в учебе.
31.12.1941 г.
Писано в землянке при свете керосиновой лампы.
Наступил январь 1942 года. В Йошкар-Олу были перебазированы военные заводы из Ленинграда, Москвы, Воронежа и других городов страны. Не хватало кадровых рабочих, так как большинство ушло на фронт. Заводчане обратились в школы города с просьбой подготовить кадры для работы на заводах.
Я и мои товарищи прошли подготовку в первом ремесленном училище города, и через месяц нас направили на военные заводы. Я стал работать на оборонном заводе, эвакуированном из Ленинграда. Меня прикрепили к наставнику – опытному рабочему, и через 2-3 месяца мы уже выполняли сложные работы на токарных, фрезерных и сверлильных станках и собирали готовые узлы. Это были оптические приборы для наших бомбардировщиков. Работали в 2 смены: с 7 утра до 7 вечера и ночью с 7 вечера до 7 утра. Часто нас оставляли до 11 часов вечера. Мы получали «стахановский ужин» – стакан чая и 100 граммов хлеба и очень гордились этим. У входа на завод висели сводки типа: «Фронтовая бригада коммуниста N выполнила срочное задание, не уходила с рабочего места 2-е суток».
Работали в 2 смены: с 7 утра до 7 вечера и ночью с 7 вечера до 7 утра. Часто нас оставляли до 11 часов вечера. Мы получали «стахановский ужин» – стакан чая и 100 граммов хлеба и очень гордились этим. У входа на завод висели сводки типа: «Фронтовая бригада коммуниста N выполнила срочное задание, не уходила с рабочего места 2-е суток».
На этом заводе я работал около двух лет. В числе нескольких молодых рабочих в мае 1943 г. был награжден грамотой Отличника всесоюзного соцсоревнования трудовых резервов.
Осенью 1943 года я закончил экстерном среднюю школу и ремесленное училище и был принят в Казанский авиационный институт. Несмотря на опоздание к началу занятий на 2 месяца проректор по учебной работе Ю. Г. Одиноков зачислил меня студентом с условием успешной сдачи зимней сессии. После окончания первого курса студенты нашего моторостроительного факультета месяц работали в одном из колхозов республики. На следующий год нас направили в город Сталинград. Там мы – студенты-мотористы – разбирали на металлолом авиационные моторы, снятые с самолетов, а студенты первого факультета разбирали самолеты. Это было огромное поле, куда свезли разбитую технику: кладбище танков, самолетов и моторов. За выполнение нормы – один разобранный мотор в день на двоих, мы получали премию – миску кукурузного супа. В начале было трудно, но затем работа наладилась.
Это было огромное поле, куда свезли разбитую технику: кладбище танков, самолетов и моторов. За выполнение нормы – один разобранный мотор в день на двоих, мы получали премию – миску кукурузного супа. В начале было трудно, но затем работа наладилась.
Запомнился наш поход в разрушенный до основания город. Идем по шоссе: с двух сторон заросли высокого бурьяна. Видим справа высокий столб. Подошли, читаем на нем: «улица Рабоче-Крестьянская». И только тут мы поняли, что это все, что осталось от целого жилого массива…
О моем детстве
(Анатолий Лукич Новиков, профессор кафедры физического воспитания)
Перед самым началом Великой Отечественной войны наша семья жила в деревне Чебоксарск Новошешминского района ТАССР, недалеко от города Чистополя. Отец был директором школы, а мама заведовала школьным хозяйством. Мы с братом учились в этой школе: он в пятом классе, я – в первом. Дома оставалась маленькая 4-х летняя сестренка Розочка.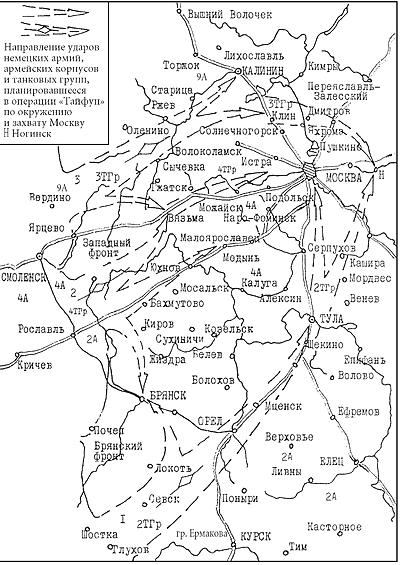
22 июня мы с ребятами были на рыбалке, а возвращаясь домой, увидели, что почти все жители деревни собрались у репродуктора около сельсовета. Многие плакали. Передавали сообщения В. М. Молотова о вероломном нападении на нашу Родину фашистской Германии. Так началась война.
Вечером в школу пришли преподаватели и много односельчан. Отец успокаивал их, говорил, что воевать мы умеем, скоро немцы за все ответят. На другой день он получил повестку, и мы сразу же стали готовиться к отъезду в г. Казань, к родителям мамы – бабушке Анне и дедушке Петру. Так закончилось мое беззаботное веселое детство.
Хорошо помню тот день, когда провожали отца на фронт. Мама, брат Саша и я пришли к нему на сборный пункт, который находился на берегу Кабана, Розочка была маленькая и осталась дома с бабушкой. Папа был очень красивый, стройный, в военной офицерской форме с портупеей на боку и биноклем на ремне. Мама обняла его и заплакала, мы с братом тоже прижались к нему. Отец нас расцеловал и стал успокаивать маму. Он поднял меня на руки. Я снял с него пилотку и надел себе на голову. Отец сказал: «Ну вот ты и будущий офицер. Нравится тебе моя пилотка?». Я утвердительно кивнул. Саша попросил у отца бинокль, и мы смотрели в него, как на озере катаются на лодках, и на самолет, который пролетал над городом. Папа поднимал меня на руки несколько раз, целовал. Наверное, чувствовал, что видит нас последний раз. Потом что-то говорил Саше и маме. Мама не отходила от него ни на шаг, а он все что-то показывал ей, а она прижималась к нему и плакала. Потом отец предложил погулять по берегу. Сколько времени мы гуляли, я не помню. Помню только: папа сказал, что ему пора идти – готовиться к отправке и что эшелон пойдет на фронт поздно ночью и мама может туда прийти его проводить, а с нами он попрощается сейчас. Нам с братом он дал по рублю и велел сходить в кино посмотреть фильм «Чапаев», который тогда шел в кинотеатре «Рот-фронт». Его просьбу мы с большим удовольствием выполнили. А впоследствии я этот фильм смотрел много, много раз и всегда передо мной стоял образ отца.
Он поднял меня на руки. Я снял с него пилотку и надел себе на голову. Отец сказал: «Ну вот ты и будущий офицер. Нравится тебе моя пилотка?». Я утвердительно кивнул. Саша попросил у отца бинокль, и мы смотрели в него, как на озере катаются на лодках, и на самолет, который пролетал над городом. Папа поднимал меня на руки несколько раз, целовал. Наверное, чувствовал, что видит нас последний раз. Потом что-то говорил Саше и маме. Мама не отходила от него ни на шаг, а он все что-то показывал ей, а она прижималась к нему и плакала. Потом отец предложил погулять по берегу. Сколько времени мы гуляли, я не помню. Помню только: папа сказал, что ему пора идти – готовиться к отправке и что эшелон пойдет на фронт поздно ночью и мама может туда прийти его проводить, а с нами он попрощается сейчас. Нам с братом он дал по рублю и велел сходить в кино посмотреть фильм «Чапаев», который тогда шел в кинотеатре «Рот-фронт». Его просьбу мы с большим удовольствием выполнили. А впоследствии я этот фильм смотрел много, много раз и всегда передо мной стоял образ отца. Мы получили от него несколько писем. Одно из них почему-то было напечатано на машинке. А через 3 месяца пришло извещение о том, что он пропал без вести. Позже к нам пришли офицеры из его части и рассказали, как он погиб. Они попали в окружение на Вяземском направлении при обороне Москвы. Отец был политруком и отвечал за вывоз документов полка. Когда машину подорвали, он, не имея невозможности вырваться из окружения, взорвал себя вместе с документами.
Мы получили от него несколько писем. Одно из них почему-то было напечатано на машинке. А через 3 месяца пришло извещение о том, что он пропал без вести. Позже к нам пришли офицеры из его части и рассказали, как он погиб. Они попали в окружение на Вяземском направлении при обороне Москвы. Отец был политруком и отвечал за вывоз документов полка. Когда машину подорвали, он, не имея невозможности вырваться из окружения, взорвал себя вместе с документами.
В его смерть мы не верили всю войну. Когда я видел на улице раненого военнослужащего, я забегал вперед и смотрел: не отец ли это. А когда мы ходили в госпиталь, который находился в доме на улице Ленина (который жители называли «Бегемот»), то всегда расспрашивал раненых, не видели ли они моего отца.
«Тогда эти люди спасли нас…»
(Евгений Гаврилович Павлов, доцент кафедры приборов и информационно-измерительных систем, к.т.н.)
Я родился в семье Павловых – Порошиных.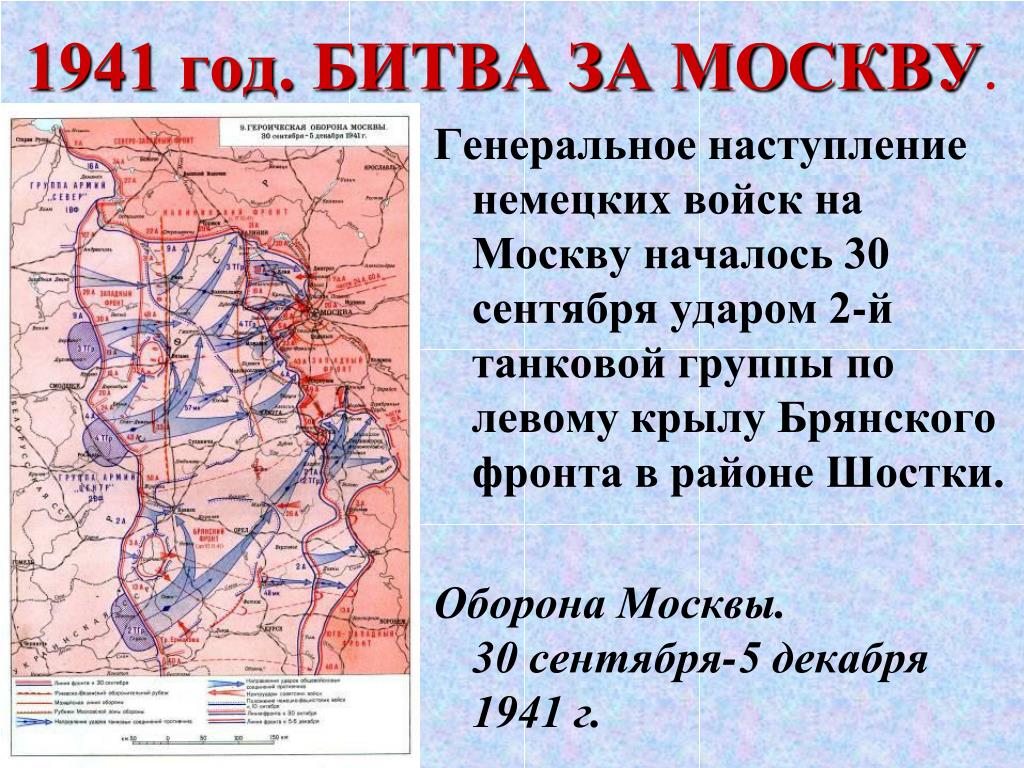
Отец окончил Академию бронетанковых войск.
В 1932 году он начал работать в Генштабе во внешней разведке – они испытывали танки. В этом же году у них родился первый сын, мой старший брат – Валентин. В 1937 году родился я.
В Москве (а точнее, в Тушино) в то время проходили парады. И отец как военный всегда присутствовал на них. Однажды он взял с собой Валентина, который к тому времени уже был пионером. И произошел такой забавный случай: Валентин подбежал к С. М. Буденному и сказал: «Буденный, будь готов!». А тот ответил: «Всегда готов!». И подхватил его на руки. Этот момент успели запечатлеть на фото.
В мае 1939 года наша семья должна была уехать в Германию, но Валентин заболел – у него началось воспаление легких. И мы остались в Москве.
Наступил 1941 год. Немцы начали бомбить страну. Паники как таковой тогда еще не было. Началась эвакуация. В первую очередь эвакуировали заводы, оборудование. Затем начали эвакуировать население. Однако вышел приказ, что семьи военнослужащих должны остаться. Это было сделано для того, чтобы не создавать панику. Так наша семья осталась в Москве. Мне на тот момент было четыре года. Когда начинали бомбить, я говорил: «Пойдем в бомбоубежище!». При этом говорили, что у меня был очень смешной вид: с правой стороны ко мне был привязан противогаз, а с левой – горшок.
Это было сделано для того, чтобы не создавать панику. Так наша семья осталась в Москве. Мне на тот момент было четыре года. Когда начинали бомбить, я говорил: «Пойдем в бомбоубежище!». При этом говорили, что у меня был очень смешной вид: с правой стороны ко мне был привязан противогаз, а с левой – горшок.
Так в Москве мы оставались до конца сентября, а отец остался там еще до декабря. Потом он уехал в Куйбышев. Где мы находились (на тот момент) – он не знал. А нас посадили в поезд, и мы поехали в неизвестном мне направлении. Эта поездка глубоко впечаталась в мою память. Мы ехали очень долго, было очень холодно. Однажды ночью поезд остановился, потому что кончилось топливо. Люди начали замерзать. В вагон вошли какие-то люди в остроконечных шапках – казахи или калмыки. Кто-то из них начал растирать мне ноги. Тогда эти люди спасли нас от холода. Именно этот момент я запомнил до мельчайших подробностей.
В скором времени мы поехали дальше. И прибыли в поселок Купино – на границу восточной и западной Сибири. В 1942 году начались страшные морозы. Доходило до того, что птицы на лету, замерзая, падали вниз. Но те морозы нам, к счастью, удалось пережить.
В 1942 году начались страшные морозы. Доходило до того, что птицы на лету, замерзая, падали вниз. Но те морозы нам, к счастью, удалось пережить.
Спустя время нас вновь куда-то повезли. На это раз, как оказалось, в Омск…
О некоторых эпизодах жизни в военные годы
(Светлана Павловна Хайруллина, доцент кафедры сопротивления материалов)
Я родилась в 1929 году в г. Харькове. Мой отец, П. Г. Бенинг, перед войной работал в Харьковском авиационном институте (ХАИ). Мама, В. М. Шатунова, была заведующей химической лабораторией в харьковском дворце пионеров.
Сообщение о начале войны застало меня в деревне Валентиновка, расположенной недалеко от Москвы. Туда на каникулы меня отправили мои родители отдохнуть на даче в семье тетки, то есть начало войны я встретила вдали от своей семьи.
Мне было 11 лет, и я очень удивилась, когда на веранду выбежала рыдающая тетя Юля с криком: «Война! Война!»
Почему она плачет? Мне тогда казалось, что война – это вроде чтения интересной книги. Тогда ни в каком страшном сне мне не могли присниться все ужасы этой войны.
Тогда ни в каком страшном сне мне не могли присниться все ужасы этой войны.
В тот день дядю Колю вызвали в Москву, он уехал, а мы остались в Валентиновке еще на 5 дней.
Буквально со следующего дня начались налеты на Москву. Как известно, немцы – народ очень пунктуальный. Каждый вечер в 19 или 20 часов над нашими головами пролетали их самолеты. Они летели бомбить Москву. Через несколько минут в вечернем небе над Москвой зажигались лучи прожекторов, слышались разрывы снарядов.
Вскоре дядя вызвал нас в Москву и сообщил, что его с семьей направляют в в геологоразведочную экспедицию на Восток на поиски вольфрама и молибдена.
В Москве мы пробыли два дня. За это время было три налета, и мы бегали в бомбоубежище, точнее в метро на станции «Кропоткинская».
Затем двое суток мы провели на железнодорожной станции «Москва Сортировочная» в ожидании, пока сформируют наш эшелон. Было еще два налета.
Вечером при объявлении тревоги мы спустились в бомбоубежище, а утром при налете мы уже не могли воспользоваться бомбоубежищем, так как эшелон был сформирован, и надо было садиться в поезд.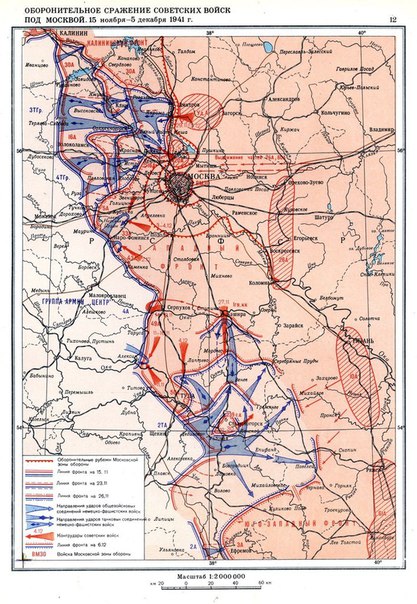 Нашей экспедиции было выделено два товарных вагона (теплушки). В вагонах были настилы в два этажа. Нашей семье досталась часть настила на втором этаже. Мы расположились, и поезд тронулся. Вдруг женщины начали в ужасе кричать и плакать. Оказалось, нас преследует немецкий самолет. Но все кончилось хорошо. Самолет был сбит, мы видели, как он горел и падал. Так началась наша эвакуация.
Нашей экспедиции было выделено два товарных вагона (теплушки). В вагонах были настилы в два этажа. Нашей семье досталась часть настила на втором этаже. Мы расположились, и поезд тронулся. Вдруг женщины начали в ужасе кричать и плакать. Оказалось, нас преследует немецкий самолет. Но все кончилось хорошо. Самолет был сбит, мы видели, как он горел и падал. Так началась наша эвакуация.
Ехали мы до конечной цели (г. Усть-Каменогорск) целый месяц.
В то время железнодорожные линии на Восток были однопутные. Состав доезжал до разъезда и ждал, когда пройдет встречный поезд. А навстречу все шли составы с танками, пушками, солдатами…
Рассказывают сотрудники. Историю рассказала Соловьева Екатерина Сергеевна
ПАРАШИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
(1922 – 2005)
Странно, но я совсем не помню, чтобы в детстве дедушка рассказывал мне о войне. Возможно, ему не хотелось вспоминать об этом страшном времени. Уже на пенсии он написал мемуары о своей жизни и в том числе о военных годах. Прочитав их, я была поражена. Я думала, каково это оказаться на его месте, как страшно, когда смерть так близко. Но одновременно думала, что во всем этом кошмаре есть место и для жизни, для смелых авантюр, для добрых шуток, взаимовыручки и поддержки.
Прочитав их, я была поражена. Я думала, каково это оказаться на его месте, как страшно, когда смерть так близко. Но одновременно думала, что во всем этом кошмаре есть место и для жизни, для смелых авантюр, для добрых шуток, взаимовыручки и поддержки.
За время войны дедушка был награжден Орденом «Красной звезды», медалью «За отвагу», медалью «За взятие Кенигсберга». Ниже отрывки из его воспоминаний.
«Война меня застала в лагерях. 22 июня 1941 г. утром нас подняли по тревоге. Весь полк в считанные минуты был выстроен на красной линейке. Командир полка полковник Розов от волнения дрожащим голосом сказал:
Товарищи офицеры, сержанты и солдаты! В 4 часа утра Германия нарушила наши границы и без объявления войны напала на нашу страну. Приказываю: немедленно разобрать весь палаточный городок, все тщательно замаскировать.
В первую очередь укрыть материальную часть. Все привести в боевую готовность. Прекратить хождение, рассредоточиться по местности, соблюдать светомаскировку.
Последовала команда: «Разойдись!»
Солдаты со своими командирами, как муравьи разобрали палатки, все замаскировали и стали копать ровики, окапывать орудия, трактора, автомашины. К обеду гремя моторами, один за другим покидали военные самолеты аэродром.
С наступлением темноты в небе появились немецкие бомбардировщики. Они, проходя над нашими головами, сбрасывали бомбы на аэродром. Душераздирающий вой и сплошная канонада от рвущихся бомб потрясла живописную местность лагеря. Вспыхивали пожары, вероятно от загоревших цистерн с горючим. Яркое зарево окутало все небо. Когда самолеты улетели, долго еще доносилось до нас глухие взрывы с пожарища, которые нам казались совсем рядом.
По телу шла дрожь от испуга, состояние было ужасное. Каждый из нас думал, а что будет дальше с нами? Как развернуться события. В эту ночь никто не спал, курили украдкой, пряча сигарету в рукав. Вдруг я почувствовал едким запах горелой тряпки. Оказалось, что вата в моей новой телогрейке горела полосой по всему рукаву.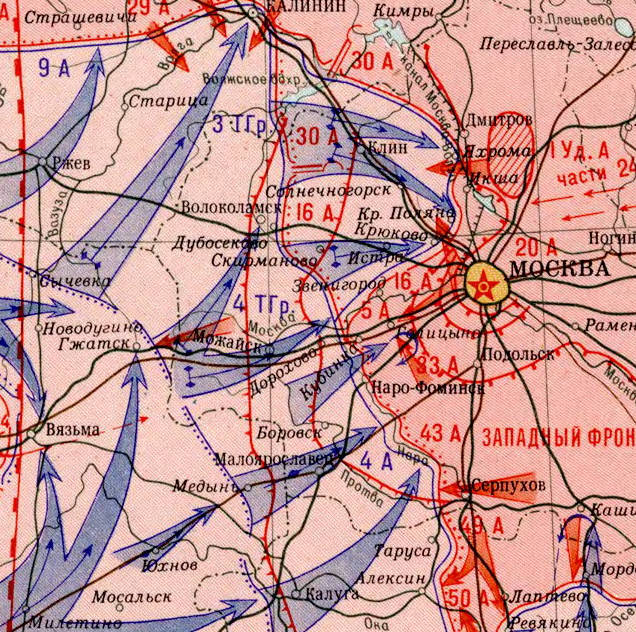 Снял телогрейку и долго возился, пока не потушил и не убедился, что горение прекратилось.
Снял телогрейку и долго возился, пока не потушил и не убедился, что горение прекратилось.
Утром полковая разведка доложила, что в Бобруйск ворвались немецкие танки. Нас с городом разделяла только река Березина, через которую шли два моста: железнодорожный и автомобильный. Полковник Розов дал команду нацелить орудия на мосты. Несколько выстрелов и оба моста были разбиты, фермы пролетов упали в реку, тем самым перекрыли движение танкам.
[…]
Прибыли в г. Горький, расположились в Гороховецких лагерях. Тяжелую технику сдали. Был организован новый 537 артполк со 107 мм легкими пушками с колесами на резиновом ходу. Не прошло и недели, как нас отправили на оборону Москвы. Немцы в это время подошли к самой Москве. Пехоты было мало. Натиск противника сдерживали артиллерией. Огонь вели беспрерывно и днем и ночью. В это время мы впервые услышали залпы наших знаменитых «Катюш», которые останавливались прямо на дороге, отстреляются и тут же уезжают в тыл.
[…]
Прямо в ходе боев наш 537 артполк расформировали и образовали 149 артбригаду АРГК резерва главного командования. Дали нам новые пушки 152 мм и один дивизион 122 мм. Позже бригаду включили в состав 11-й гвардейской ударной армии, меня перевели из связистов в вычислители. В мои обязанности входило производить привязку наблюдательных пунктов, батарей своего 2-го дивизиона, готовить данные для стрельбы по целям, засеченным разведкой.
Дали нам новые пушки 152 мм и один дивизион 122 мм. Позже бригаду включили в состав 11-й гвардейской ударной армии, меня перевели из связистов в вычислители. В мои обязанности входило производить привязку наблюдательных пунктов, батарей своего 2-го дивизиона, готовить данные для стрельбы по целям, засеченным разведкой.
По карте отыскивали репера и теодолитом или бусолью делали ходы, наносили координаты на планшет. Подготовку данных для стрельбы готовили графические, позже я научился делать подготовку данных аналитически, с учетом данных по метеосводкам учитывая давление воздуха, скорость и направление ветра. Калькуляторов тогда не было, все расчеты производил на логарифмической линейке.
[…]
Зима в это время была суровая, и солдаты сильно уставали, не было места, где можно бы обогреться и поспать. На передний край обед приносили в котелках, и пока идут — он замерзнет. Огонь разводить нельзя, чтобы не демаскировать свой ПП. Мерзлый хлеб пилили пилой, опилки съедали, а отпиленные кусочки сосали, держа во рту, пока не растает, правда от этого сильно ломило зубы от холода.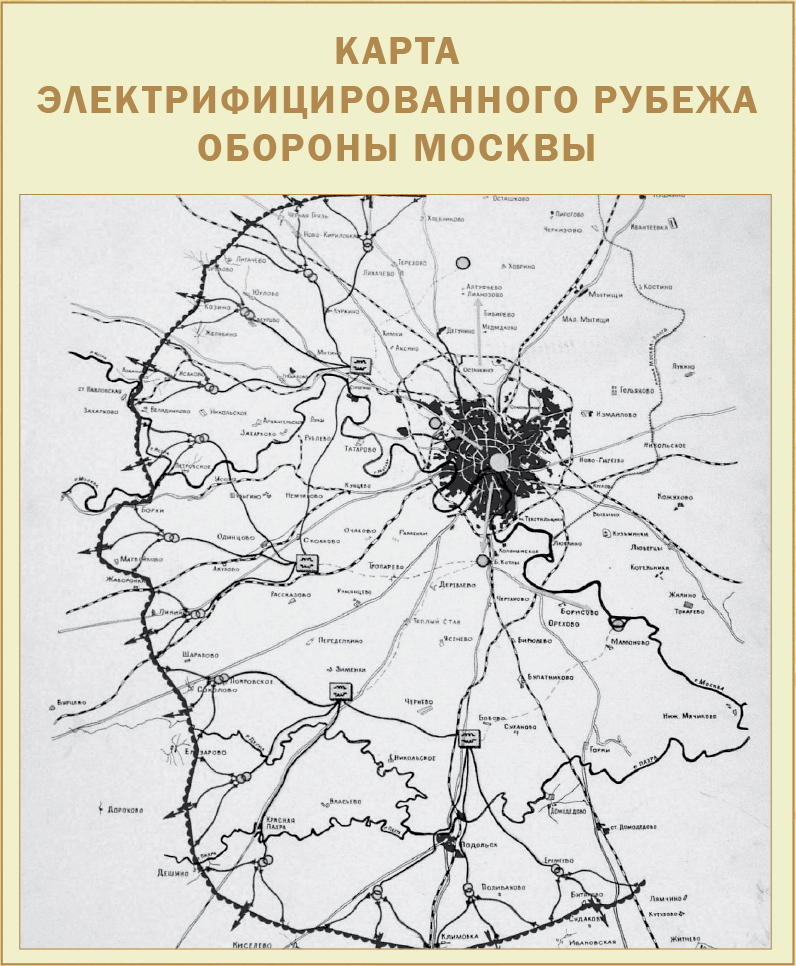 Со временем научились пользоваться немецкими противотанковыми минами. Концом топора нарубим в железной облицовке отверстия и разожжем. Тол горит синим пламенем, как примус, только успевай котелки ставить и главное не никакого дыма.
Со временем научились пользоваться немецкими противотанковыми минами. Концом топора нарубим в железной облицовке отверстия и разожжем. Тол горит синим пламенем, как примус, только успевай котелки ставить и главное не никакого дыма.
[…]
Во время очередной бомбежки мы попрятались в ровики, которые наполовину были перекрыты, надежно защищали от осколков. Был слышен: сплошной свист падающих бомб и вдруг сильный удар! Земля, как зыбка, закачалась в разные стороны. Падающей землей от взрыва засыпало мне ноги. Осталось пространство над головой и туловищем под перекрытием. Я попытался вытащить ноги, не получилось. Становилось трудно дышать. На несколько минут в голове пролетело все детство, родная Козловка с Волгой, мать и братья с сестренкой, и даже как ловил раков на Большой Кокшаге, когда жили в Аргамаче.
Вдруг слышу какие-то стуки, это ребята откапывали меня. Оказывается и лейтенанта Осипова завалило одной бомбой, упавшей между нашими ровиками. Я, когда освободился от земли и вылез из ровика, первым делом попросил ребят дать мне закурить. Смотрю, они губами шевелят, а я ни чего не слышу, Мне от сильного удара немного контузило, как мне сказали в бригадной санчасти, куда нас увезли вместе с лейтенантом. Через два дня я вернулся в свой дивизион, хотя еще и не прошли головная боль, но слух восстановился.
Смотрю, они губами шевелят, а я ни чего не слышу, Мне от сильного удара немного контузило, как мне сказали в бригадной санчасти, куда нас увезли вместе с лейтенантом. Через два дня я вернулся в свой дивизион, хотя еще и не прошли головная боль, но слух восстановился.
[…]
Однажды остановились вечером на опушке леса на кратковременный отдых, солдаты развели костры, чай кипятят, техника стоит в походном состоянии.
А когда утренняя зорька осветила горизонт, увидели, что в 200-300 метрах от нас стоит немецкая часть. Сначала автоматная перестрелка пошла, пришлось с автоматом залечь за колеса штабной машины и вести огонь по противнику. Пули изрешетили кузов машины и прострелили два баллона, которые со свистом спустили воздух и сели на диски. Рядом с нами стояла установка «Катюши», она дала залп по лесу, а подоспевшие танки помогли, большая группа немецких солдат и офицеров оставшиеся в живых, вышли из леса и сдались в плен.
На другой день к нам пришел адъютант нашего командира бригады генерал-майора Дарькова Костя Проданчук — цыган. Он под Москвой служил у нас в дивизионе в разведке. Генералу он понравился, может, потому, что он знал немецкий язык, и он забрал его к себе адъютантом. Костя мне говорит:
Он под Москвой служил у нас в дивизионе в разведке. Генералу он понравился, может, потому, что он знал немецкий язык, и он забрал его к себе адъютантом. Костя мне говорит:
— Слушай, Лешка! Говорят, что здесь в лесу совсем рядом разбитая немецкая часть находится. Пойдем, предложим сдаться им в плен. Им деваться некуда, кругом наши части, а пехота далеко вперед ушла?
— Как, вдвоем?
— Ну и что, не все ли равно им кому сдаваться, у них другого выхода нет.
— Надо командиру доложить — сказал я.
— Не надо, мы через час вернемся, мой генерал меня на вечер отпустил.
Я взял автомат, запасной диск с патронами, проверил наличие патронов в пистолете, на всякий случай предупредил сержанта Селиверстова, что пошел с Костей, через час-полтора вернусь, если спросит меня майор Кибец. И мы пошли около перелеска, рядом с дорогой, по которой двигались войска. Недалеко от нашей части пошла проселочная дорога прямо в лес. Мы свернули на нее, курили и рассуждали: вдруг они убьют или ранят нас.
— Нет, не посмеют, они сейчас не знают, как им спасти свою шкуру — сказал Костя.
Не далеко от леса стояла небольшая избенка. Костя зашел в нее, там жила одна старушка, которая сказала, что немцы ушли в лес, там было их много.
[…]Мы решили идти к лесу на некотором расстоянии друг от друга. Чтобы в случае, если одного ранят или не дай Бог убьют, второй смог дать ответный огонь и вызвать своих. Костя шел слева от меня, я правее перебежкой приближался к лесу. Когда я добежал до опушки, встал за дерево, чтобы оглядеться. Недалеко от дороги, ведущей в лес, я увидел, как один немец лежал на земле, поднял автомат и стал целиться в Костю, второй видно спал за ним. Я испугался, что он откроет огонь по Косте и, опережая его, дал автоматную очередь и крикнул:
— Хенде Хох!
С земли поднялись два Фрица с поднятыми руками. Они вероятно спали, находясь в дозоре.
Подбежал Костя, мы отошли от опушки леса к густому кустарнику. Костя стал их расспрашивать. Один немец был легко ранен, вероятно моя пуля царапнула по касательной руку. Костя вынул из кармана пакет, перебинтовал немцу руку, стал закуривать. Немец вытащил свои сигареты, мы взяли у него по одной и закурили. После маршанской махорки сигареты показались слабыми и нам не понравились.
Костя вынул из кармана пакет, перебинтовал немцу руку, стал закуривать. Немец вытащил свои сигареты, мы взяли у него по одной и закурили. После маршанской махорки сигареты показались слабыми и нам не понравились.
Костя послал одного немца к своим, чтобы они выходили с белым флагом и сдавались в плен.
Всем сдавшимся жизнь гарантируем. Мы остались с раненым немцем. От него мы узнали, что это есть пехотная часть, которая в боях потеряла почти всех людей и технику, спрятались в лесу, а дальше оказалось болото, идти некуда, кругом русские.
Достаточно долго ждали и стали беспокоиться, что как бы нам не попало от своего начальства. Наконец, увидели большую группу с белым флагом, которые выходили из лесу. Костя пошел к ним, что-то там с офицерами говорил. Автомат у него висел на плече, а он все объяснял и махал руками. Я стоял в стороне и держал автомат наготове. Из лесу немцы все выходили и выходили, бросали в кучу свои автоматы, вставали в строй. Колонна человек 150-200 шла к основной дороге, Костя шел впереди. Какое-то подразделение чуть не обстреляло нас, увидев строй немцев. Пленных мы отдали пехотинцам, которые двигались по дороге, а офицеров, в том числе и одного высокопоставленного офицера, наверное, командира этой части, мы повели в свой штаб бригады, сказав, что действовали по спецзаданию и сами должны доставить своему генералу.
Какое-то подразделение чуть не обстреляло нас, увидев строй немцев. Пленных мы отдали пехотинцам, которые двигались по дороге, а офицеров, в том числе и одного высокопоставленного офицера, наверное, командира этой части, мы повели в свой штаб бригады, сказав, что действовали по спецзаданию и сами должны доставить своему генералу.
Пришли к штабу бригады, который находился не далеко от нашего подразделения в штабных машинах. Вышел Генерал-майор Царьков из машины. Костя доложил, что мы конвоировали остатки пехотной части. Солдат человек 200 сдали пехотной части, а офицеров 12 человек привели к вам.
Костя переводил, что говорили немецкие офицеры, переводил вопросы нашего генерала к немцам. Генерал спрашивал немцев: какая часть, армия, дивизия и т.д. Пленных отправили в штаб Армии.
Прошло некоторое время и меня вызвали в штаб бригады, где Генерал-майор от Президиума Верховного Совета СССР вручил нам с Костей Проданчуком по ордену «Красная звезда» за храбрость, мужество военную находчивость, проявленную при пленении немцев.
[…]
13 декабря 1943 года наши гвардейцы 11 ударной Армии атаковали противника южнее города Невеля. Там была окружена и уничтожена большая группа немецких войск в районе станции Бычиха. Овладев городом и ж.д. станцией Городок, наши части раскололи оборонительную линию Орша-Витебск-Ново-сокольники, считавшуюся у немцев неприступной. Бои были тяжелыми, немцы подтянули свой резерв, да и погода не радовала нас. Часто не могли доставить продукты, оставались без обеда или без ужина. Солдаты соберутся в землянке и начинают аппетитные разговоры:
— А вы кушали сибирские пельмени из медвежьего мяса с лучком и со свининой? — спрашивает сибиряк.
— Пельмени что, а вот шашлык из свежей баранины, пальчики оближешь — отвечает узбек.
— Нет, сейчас бы украинских галушек или сырников с холодным молоком.
И так каждый перебирает, чтобы он сейчас искушал. Во взводе был один азербайджанец, он плохо говорил по-русски, его звали Жopa. Кто-то его спросил:
— Жора! А ты троллейбус кушал?
— Нет, даже не слышал такого кушанья — ответил он. Все только посмеялись, не сказав больше ни слова. На другой день опять собрались и снова стали перебирать, кто что бы сейчас съел. А кто-то Жору спросил:
Все только посмеялись, не сказав больше ни слова. На другой день опять собрались и снова стали перебирать, кто что бы сейчас съел. А кто-то Жору спросил:
— Жора! А ты индюшку жаренную ел?
— Не обманешь, она железная — ответил он.
Конечно, все долго смеялись, а кушать все равно всем очень хотелось.
[…]
27 июня 1944 года наши части под командованием Генерала Галицкого (он принял командование 11 Гвардейской Армии, а Генерал Баграмян был назначен командующим Прибалтийским фронтом) овладели городом Орша — мощным бастионом обороны немцев. Таким образом, мне пришлось побывать в Орше дважды, в начале войны и почти в ее конце.
В это время я больше всего находился с разведкой, майор меня посылал, чтобы точно привязать место расположения наблюдательного пункта и помочь связистам установить связь. Начальник разведки лейтенант Усенко уточнил обстановку в штабе и по заданному маршруту мы двинулись в путь на машине разведки. Утром рано, еще зорька чуть, чуть засветилась, мы подъехали к окраине какой-то небольшой деревушки.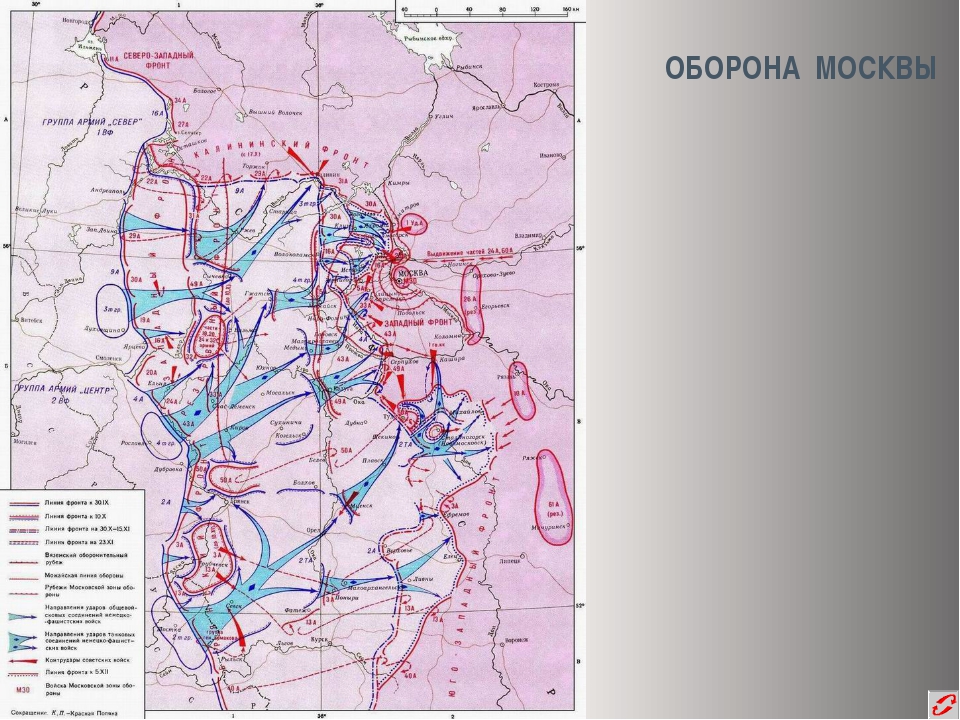 Машина остановилась, и мы спрыгнули с кузова на землю. Вдруг прострочила автоматная очередь, пули просвистели над головой. Заняли оборону. Кто- то сделал ответные очереди. Оказалось, что в деревне находились немцы, то ли обстановку не правильно донес лейтенант, или с ориентировкой спутался. Водитель пытался развернуть машину, но был сражен автоматной очередью.
Машина остановилась, и мы спрыгнули с кузова на землю. Вдруг прострочила автоматная очередь, пули просвистели над головой. Заняли оборону. Кто- то сделал ответные очереди. Оказалось, что в деревне находились немцы, то ли обстановку не правильно донес лейтенант, или с ориентировкой спутался. Водитель пытался развернуть машину, но был сражен автоматной очередью.
Мы с разведчиками стали отступать. Один прикрывает другие бегут, а немцы не обращая на это бегут за нами, вероятно, хотели взять живыми в качестве языка. Помню, хочется быстрее оторваться, а ноги не слушаются. Впереди чистое поле и нет никакого укрытия. Бегу зигзагом, чтобы под пули не попасть, а немцы совсем близко.
Вдруг впереди нас застрочил пулемет, я упал на землю и никак не могу отдышаться от волнения. Это наши пехотинцы открыли огонь по немцам. Теперь пули над нашими головами свистели и спереди и сзади. Оказалось, что мы немного не добежали до линии обороны наших пехотинцев, которые были так хорошо укрыты и замаскированы, что мы проехали между подразделениями и никто нас не остановил и не окликнул.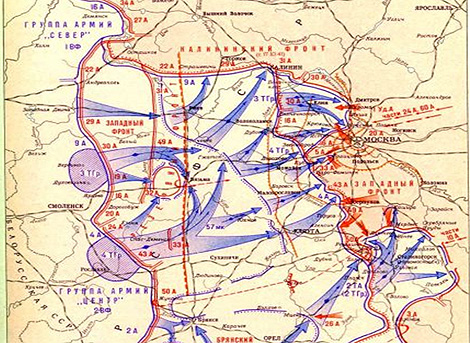
Четыре разведчика и я остались живы. Один из разведчиков был ранен в плече. У деревни были убиты: водитель, лейтенант и два разведчика.
[…]
14 июля мы вышли к реке Неман, около литовского города Алитус. Быстро окопались, укрыли штабную машину. Перед нами встала преграда достаточно широкая и бурная река Неман. Немцы опомнились и начали обстреливать наши позиции. Мы с Селиверстовым Иваном залезли только что выкопанный ровик, который был небольшой, и мы сидели так тесно, что пока немец обстреливал, затекли ноги. Когда кончили стрелять, я говорю:
— Ваня! Пойдем к штабной машине, там укроемся под колесами, мне здесь что-то не по себе. Он согласился, и мы быстро перешли к машине, минут через 15 начался второй период обстрела. Спокойно пролежали, хотя снаряды с воем пролетали над нашими головами и рвались далеко за нами. Когда обстрел закончился, мы увидели, что вместо ровика, в котором мы укрывались, была большая воронка от снаряда. Я как увидел, так у меня по телу прошла дрожь. Недаром мне хотелось уйти из ровика, вероятно у людей имеется какое-то предчувствие.
Недаром мне хотелось уйти из ровика, вероятно у людей имеется какое-то предчувствие.
[…]
9 мая 1945 года по всей стране прогремели салюты Победы. Наш дивизион выстроили, и майор Кибец сказал:
Дорогие товарищи! Мы с вами прошли трудные километры пути фронтовыми дорогами, добиваясь победы над фашисткой Германией. Сегодня объявили, что Великая Отечественная война закончилась, фашистская Германия капитулировала
— Дорогие товарищи! Мы с вами прошли трудные километры пути фронтовыми дорогами, добиваясь победы над фашисткой Германией. Сегодня объявили, что Великая Отечественная война закончилась, фашистская Германия капитулировала.
Вечная память нашим товарищам, которые не дожили до этого дня, отдав свою жизнь за независимость нашей Родины! Вечная память о них. Почтим их память минуток молчания.
Когда разошлись, солдаты стали обниматься, целоваться, у многих были слезы на глазах от счастья, что остались в живых и они этих слез не стыдились.
В этот же день мы въехали в Кенигсберг, остановились на северной окраине в местечке Марауненхов. Наша 149 артиллерийская, Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригада, с которой я прошел путь от Москвы до Кенигсберга, расквартировалась в уцелевших особняках и кирпичных домах.
Наша 149 артиллерийская, Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригада, с которой я прошел путь от Москвы до Кенигсберга, расквартировалась в уцелевших особняках и кирпичных домах.
Как близко немцы были к Москве [1558×1464] : MapPorn
Некоторые утверждают, что летом 1941 года немцы должны были наступать прямо на Москву, а не поворачивать на юг, чтобы окружить советские войска вокруг Киева. Я с уважением не согласен.
Лучшее оперативное резюме относительно немецких вариантов в конце лета 1941 г. можно найти в книге Вайнберга «Мир в оружии» (ИМХО лучший отдельный том по истории Второй мировой войны):
«Немцы должны были решить, возобновлять ли наступление на Центральный фронт или на юге и севере.Сам факт того, что они не смогли повторить предыдущее одновременное наступление на всех трех участках, свидетельствует об ослаблении немецкой ударной силы или удлинении фронта по мере продвижения на восток, а также об очевидном существовании продолжающегося советского сопротивления.
… Если они продвинутся в центре к Москве, они рискуют столкнуться с очень серьезными опасностями на южном фланге такого удара, опасностями, для отражения которых у них не было резерва. Если они воспользуются дальнейшим продвижением в центре, чтобы прорваться в тыл сдерживающим их на юге советским войскам, они потеряют время на центральном фронте.
В то время спор шел столь же яростно, как и среди историков с тех пор; спор, по моему мнению, игнорирует тот факт, что немецкое нападение на Советский Союз не достигло своей цели и что в этот момент они могли добиться дальнейших тактических успехов на том или ином участке фронта, но они уже потеряли все шансы, которые они могли иметь. теоретически должны были разгромить СССР(а).
Кроме того, как убедительно показал тщательный анализ транспортной системы и проблем со снабжением, немцы были просто не в состоянии немедленно возобновить наступление на центральном участке фронта после того, как они достигли географических пределов системы автомобильного снабжения на от которого зависело их первоначальное продвижение.
Что бы они ни планировали делать дальше, им сначала нужно было отремонтировать железные дороги, чтобы они могли нести бремя материально-технического обеспечения операций дальше на восток. (b)
(a) Здесь интересно повторение ситуации на Западном фронте весной 1918 года. Как только первоначальное немецкое наступление не принесло им победы в войне, они могли нанести дополнительные удары — и сделали это, но уже потеряли все возможности для победы, которые у них могли быть.
(b) Из сносок:
«Этот пункт становится абсолютно ясным благодаря очень тщательному изучению проблем тылового обеспечения, которое сделало любое дальнейшее крупное наступление Германии на центральном участке фронта невозможным и другими способами обрекло Немецкие войска к задержке и расстройству… В бумагах фельдмаршала фон Рейхса есть интересные письма, в которых указывается, насколько мудрее была киевская операция, чем любое наступление на Москву, до которого все равно нельзя было дойти в 1941 году, и говорится, что фон Рундштедт был того же мнения .
.. В книге Шулера показано, что никакая операция на Центральном фронте не могла быть начата раньше конца сентября, в любом случае начала октября». Умань была правильным оперативным решением в конце лета 1941 года.Не продвинувшись так далеко за пределы начальной точки Барбаросса, как AG Center, AG South все еще мог снабжаться грузовиками. Если немцы хотели продолжать оказывать давление на русских, поворот танка «Гудериан» на юг за Киев был единственным логичным (на самом деле, единственно возможным) вариантом, открытым для немцев. Прямой въезд в Москву в настоящее время кажется логистической фантазией.
Военные любители говорят о стратегии, военные профессионалы говорят о логистике.
Потеря Москвы не вызовет политического краха Советского Союза больше, чем оккупация Москвы Наполеоном заставила царя сдаться.Реальное значение Москвы заключалось в том, что она была железнодорожным узлом (в Советском Союзе буквально все железные дороги вели в Москву). Потеря Москвы сделала бы стратегическую передислокацию советских войск трудной, если не невозможной,
Баку и его нефтяные месторождения были гораздо важнее Москвы.
Баку был настоящей ахиллесовой пятой СССР.
СССР 90% своей нефти получал с кавказских нефтепромыслов (Майкоп, Грозный и особенно Баку). Их потеря (даже если бы у Германии не было средств для добычи и перекачки нефти для собственных нужд) или уничтожение нанесли бы ущерб Красной Армии и ВВС.Тогда Красной Армии пришлось бы сражаться в пешем строю.
Логистические ограничения предотвратили бы полную победу Германии и продвижение к Уралу (что в любом случае было логистической фантазией), но полное отсутствие нефти предотвратило бы любые советские контрнаступления, оставив Германии контроль над большей частью Европы. Россия и Советы вынуждены просить мира, даже если они держатся за Москву. Результатом было бы что-то вроде еще одного Брест-Литовского договора, положившего конец участию имперской России в Первой мировой войне, и на этот раз Советы уступили Прибалтику, Белоруссию, Украину, Крым и Кавказ Германии
Немыслимо, неизбежно, Невозможный союз: уроки на сегодня из периода Второй мировой войны Советско-западные отношения — Московский Центр Карнеги
Опыт советско-американо-британской коалиции военного времени был уникальным и неповторимым.
Вернуть американо-российские отношения с грани конфронтации к менее антагонистическому соперничеству можно будет только в случае серьезных изменений во внутренней политике одной или обеих стран.
скачать PDF
Во время Второй мировой войны Советский Союз, США и Великобритания объединили свои силы для борьбы со смертельным врагом. В партнерстве с советским лидером Иосифом Сталиным для борьбы с гитлеровской Германией премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Д.Рузвельты руководствовались пониманием невозможности победить нацистскую Германию в одиночку, а также геополитическими реалиями. Приняв такое решение, они отбросили идеологические соображения.
Советским и западным лидерам потребовалось много лет, чтобы осознать, что нацистская Германия является их общим врагом и что само выживание их стран зависит от их объединения сил против немецкой агрессии. Но после того, как Германия вторглась в Советский Союз, Лондон и Москва стали близкими союзниками, к которым позже присоединился Вашингтон после нападения Японии на Соединенные Штаты в Перл-Харборе.
Объединившись, Москва, Вашингтон и Лондон остались верными союзниками, несмотря на противоречивые интересы и убеждения. Три союзника в разное время войны воздерживались от заключения сепаратных мирных договоров, и СССР выполнил свое обещание объявить войну Японии через три месяца после окончания боевых действий на европейском театре военных действий.
Однако, когда союзники выиграли войну и их общая угроза была устранена, на первый план вышли старые разногласия.Эти разногласия обострились еще больше, когда союзники приступили к организации послевоенного мира. Всего за три года союз военного времени переродился в послевоенное противостояние между США и Великобританией с одной стороны и Советским Союзом с другой. То, что это было «холодное» противостояние, было результатом не джентльменского соглашения, а скорее результатом развития ядерного оружия, грозившего гибелью человеческой цивилизации в случае новой войны.
Продолжение тесного сотрудничества между США и Советским Союзом стало невозможным из-за непреодолимых идеологических и политических разногласий.
Хотя холодная война в том виде, в каком она происходила, не была ни неизбежной, ни результатом случайности, злой воли или неудачного стечения обстоятельств.
Опыт военного союза военного времени неприменим к современным отношениям России и Запада. Новые угрозы, которые различные наблюдатели пытались сопоставить с угрозой нацизма, гораздо меньше по масштабу и гораздо более неравномерны по своему воздействию на обе стороны. Более того, Москва не играет той роли в борьбе с этими новыми угрозами, которая соизмерима с тем, как она противостояла нацистской Германии во Второй мировой войне, когда Советский Союз принял на себя основной удар вермахта и разгромил основную часть германских вооруженных сил.
Наконец, Вашингтон сейчас рассматривает Россию как слабеющую державу. Москва, конечно, не согласна с такой оценкой, но любые попытки с ее стороны реанимировать образ антигитлеровской коалиции, объединить усилия России и Запада в борьбе с международным терроризмом, пандемией, изменением климата или чем-либо еще бесперспективны.
и только сбивает с толку потенциальных союзников России.
Даже если бы реальное партнерство, основанное на общих интересах, было бы возможно между Россией и Западом в какой-то момент в будущем, было бы очень трудно достичь условий, приемлемых для России, и успех — или, тем более, неудача — такого партнерства лишь вернуло бы ситуацию к статус-кво противоречий интересов и существенных расхождений в идеологиях.
Немыслимый Союз
Хотя и Запад, и Советский Союз могли видеть угрозу немецкой агрессии в 1930-е годы, антигитлеровская коалиция не была сформирована до тех пор, пока Германия не напала на Советский Союз.
В 1938 году, вместо того чтобы объединить силы против Германии в соответствии с существующими военными и политическими соглашениями между Парижем, Прагой и Москвой, Великобритания и Франция предпочли достичь соглашения в Мюнхене, позволяющего Гитлеру аннексировать части Чехословакии. Западные лидеры и элиты опасались не только новой войны, но и возможного усиления советского и коммунистического влияния в Восточной Европе.
Сделка с Гитлером дала им, как оказалось, ложную надежду на мир с Германией.
Даже когда обстановка в Восточной Европе обострилась, Париж, Лондон и Москва не смогли договориться о совместных действиях. Великобритания и Франция не могли решить, что для них важнее — заручиться советской помощью в случае германской агрессии или выиграть время в надежде, что такая агрессия будет направлена на восток.
Между тем, с 1939 года Сталин уже не делал различий между Германией, с одной стороны, и Англией и Францией, с другой.Он рассматривал оба лагеря как капиталистические страны, враждебные Советскому Союзу и борющиеся между собой за рынки и контроль над ними. С марксистско-ленинской точки зрения войны свойственны империализму, и Сталин рассматривал надвигающуюся Вторую мировую войну как логическое следствие Первой мировой войны.
Согласно дневнику лидера Коммунистического Интернационала (Коминтерна) Георгия Димитрова, в сентябре 1939 года Сталин заметил по поводу только что начавшейся войны: «Мы не видим ничего плохого в том, что они хорошо дрались и ослабляли друг друга […] деление капиталистических государств на фашистские и демократические больше не имеет смысла.
1
Сталин принял решение, исходя из своей оценки советских интересов. Пакт Молотова-Риббентропа о ненападении между СССР и Германией, с точки зрения советского лидера, давал Москве больше времени и отдавал ей стратегически важную территорию, одновременно перенаправляя войну на запад, подрывая капитализм. Тем временем Сталин принялся готовиться к неизбежной войне с Германией, укрепляя стратегические фланги — нападая на Финляндию; присоединение Эстонии, Латвии и Литвы; и захват Бессарабии.
К тому времени Сталин уже перестал рассматривать коалицию с Лондоном и Парижем: война между Советским Союзом и Финляндией фактически превратила СССР в противника как Англии, так и Франции. Страны Запада стали все чаще ассоциировать Советский Союз с гитлеровской Германией. Сталин считал, что англичане и французы собираются напасть на СССР с юга, и в 1940 году усилил оборону Баку. 2
Сталин рассчитывал быть вынужденным вступить в войну с Германией не ранее лета 1942 года, после вероятной капитуляции Великобритании.
3 Советский лидер был уверен, что Гитлер запомнит уроки Первой мировой войны и избежит войны на два фронта. Однако удивительно быстрое и полное поражение Франции, а также готовность Гитлера идти на риск не оправдали ожиданий Сталина.
Неизбежный Союз
Союз между Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами стал неизбежен после нападения Германии на СССР, коренным образом изменившего ситуацию в Европе и глобальный расклад сил.Вечером 22 июня 1941 года Черчилль заявил в радиопередаче: «Любой человек или государство, которые продолжают бороться против нацизма, получат нашу помощь. Любой человек или государство, которые идут с Гитлером, — наши враги… Отсюда следует, что мы окажем любую помощь, какую сможем, России и русскому народу». 4
Черчилль не смягчился в своей полной оппозиции коммунизму, и он сомневался в способности СССР противостоять нападению Германии, но он видел во вторжении Германии в Советский Союз шанс на спасение для Великобритании, которая отбивалась от Германии на свой собственный в течение года после поражения Франции.
Летом 1941 года в Соединенных Штатах еще были сильны изоляционистские настроения. Сенатор-демократ Гарри Трумэн сказал тогда: «Если мы увидим, что Германия побеждает, мы должны помочь России, а если Россия побеждает, мы должны помочь Германии, и таким образом, пусть они убивают как можно больше». 5 Однако президент Рузвельт придерживался другой позиции. Он рассматривал Германию вместе с ее союзником Японией как угрозу Соединенным Штатам. Через четыре дня после нападения Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года Германия объявила войну Соединенным Штатам.
Таким образом, немыслимый до войны союз стал неизбежным в военное время. Потенциальная угроза не смогла объединить Лондон, Вашингтон и Москву, но когда все трое подверглись нападению, они объединились, несмотря на свои политические и идеологические разногласия.
Были проблемы в партнерстве. Два вопроса, которые оставались постоянным источником напряженности, — это открытие второго фронта на севере Франции — шаг, на котором год за годом настаивал Сталин и против которого столь же последовательно выступал Черчилль, — и желание Москвы добиться от своих союзников признания советских границ.
июня 1941 г. как можно быстрее. 6 Тем не менее, на протяжении всей войны союзники оставались верны друг другу. В трудные первые месяцы войны Сталин не подписал сепаратный мир с Гитлером, как опасался Лондон. В свою очередь, Англия и США отвергли идею сепаратного мира с Германией на заключительном этапе войны. В 1945 году Красная Армия и западные союзные войска не только избежали столкновений друг с другом внутри Германии, но и заняли четкие территориальные позиции, согласованные тремя союзными державами в 1944 году.
Пока шла война, СССР и западные союзники шли на взаимные компромиссы. Они договорились о границах послевоенной Польши, что также означало признание западной Украины и западной Белоруссии частью Советского Союза, передачу Советскому Союзу Южного Сахалина и Курильских островов. Несмотря на приписываемый Рузвельту идеализм, он признавал важность советской помощи в войне с Японией и не был чужд логике геополитических компромиссов. 7 В свою очередь, Сталин был готов распустить Коминтерн в 1943 году.
Было также много более мелких компромиссов и уступок.
В дополнение к борьбе с державами Оси три союзника также объявили о планах построить новый мировой порядок после окончания войны. Принципы этого нового порядка первоначально были изложены в Атлантической хартии, которую Рузвельт и Черчилль подписали в августе 1941 года, а Советский Союз присоединился к ней в 1942 году.
С 1944 г. СССР также принимал активное участие в работе по созданию Организации Объединенных Наций.После кропотливых переговоров союзники достигли договоренностей о принципах структуры и деятельности ООН. Устав ООН подтвердил лидирующие позиции пяти государств, ставших постоянными членами Совета Безопасности ООН с правом вето: США, Советского Союза, Великобритании, Франции и Китая, также боровшегося с японской агрессией.
Одними из наиболее прочных и последовательных результатов военного союза между Вашингтоном, Москвой и Лондоном были утверждение Устава Организации Объединенных Наций и создание разветвленной системы международных организаций, от Международного валютного фонда и Всемирного банка до ЮНЕСКО.
и Всемирной организации здравоохранения, а также предоставление центральной роли в вопросах международного мира Совету Безопасности ООН.Хотя прямое влияние ООН на международные отношения ограничено, само существование организации вносит определенный порядок в мировую политику и предлагает уникальную глобальную площадку для контактов и переговоров. Это важнейшее дипломатическое наследие антигитлеровской коалиции.
Однако совместная победа в войне означала и начало конца «большой тройки». Как заметил Сталин на заключительном банкете Ялтинской конференции в феврале 1945 года, «сохранить единство во время войны не так уж трудно, так как есть общая цель победить общего врага, понятная всем.Трудная задача встанет после войны, когда разные интересы будут разделять союзников». 8
Невозможный Союз
Победа в Великой Отечественной войне резко уменьшила взаимную зависимость союзников и столь же резко усилила их различия, особенно в их представлениях о послевоенном мире.
Одним из главных споров был подход к формированию правительств в Польше и других странах Восточной Европы.
Во время визита в Москву в октябре 1944 года Черчилль предложил разделить политическое влияние в ряде балканских и восточноевропейских стран на основе процентного соотношения просоветских и прозападных политиков в их правительствах.Напротив, Рузвельт основывал свои взгляды на более романтических вильсоновских принципах и вряд ли понял бы логику деления по процентным пунктам. Но и он заранее согласился (еще до Тегеранской конференции 1943 г.), что Польшу де-факто придется отдать Сталину после войны. 9 Рузвельт также заверил Сталина, что Вашингтон не будет мешать Москве проводить свою политику в Румынии, Болгарии, Финляндии и даже в Латвии, Литве и Эстонии, хотя Вашингтон отказался официально признать советскую аннексию Прибалтики.
Деление территории на сферы влияния было самым резким в Германии и Австрии. Еще осенью 1944 года союзники договорились, что эти две страны будут разделены на оккупационные зоны; что Берлин будет разделен на сектора; и что совместный контроль будет установлен только для центральной Вены.
Разделение на оккупационные зоны не означало сразу раздела Германии как страны. Сталин, опасавшийся, что насильственное разделение только разожжет немецкий национализм, выступал за нейтральную Германию под четырехсторонним контролем Совета союзников и его исполнительной комиссии.Подобные советы и комиссии были созданы и в других странах-сателлитах Германии, от Балкан до Финляндии.
Однако совместное управление оказалось затруднительным — и в конечном счете невозможным — из-за различий в интересах и стратегиях СССР и западных государств. Еще летом 1945 года дальновидный американский дипломат Джордж Кеннан счел раздел Европы и расчленение Германии единственно реалистичной стратегией Соединенных Штатов. 10 Вашингтон, Лондон и Париж пришли к выводу, что для них лучше полностью контролировать половину Германии, чем наполовину контролировать объединенную Германию.
Раздел Германии был прологом к разделу Европы. Доктрина Трумэна о защите «свободного мира» от коммунистической угрозы 11 и от советской экспансии в Восточное Средиземноморье 12 вскоре была дополнена Планом Маршалла по оказанию экономической помощи Западной Европе и уменьшению влияния коммунистических партий.
Москва рассматривала доктрину Трумэна и план Маршалла как попытку создать западный блок против Советского Союза.Сталин ответил проведением политики коммунизации Восточной Европы.
Германия и Европа были разделены в 1948 году. Денежная реформа в западных зонах Германии спровоцировала блокаду Берлина, первое открытое военно-политическое противостояние между коллективным Западом и СССР в период холодной войны. В Чехословакии коммунистическая партия пришла к власти в результате уличных демонстраций. Вскоре после этого было создано НАТО и началась Корейская война.
Переход от общей победы к противостоянию Востока и Запада занял всего три года.Победа заложила основы нового миропорядка (Устав ООН, международные институты, глобальная платформа международных отношений), но противостояние сформировало геополитическую, идеологическую и военно-политическую структуру этого нового миропорядка: двухполярный мир. разделена между США и СССР.
Явная угроза взаимного уничтожения в случае применения любой из сторон ядерного оружия служила сдерживающим фактором в американо-российских двусторонних отношениях.
Войны вспыхивали на флангах линии противостояния, но носили локальный характер и велись преимущественно младшими союзниками или сателлитами двух сверхдержав.
Попытки большой сделки
Мир после Второй мировой войны был разделен на сферы влияния, в которых доминировали либо Советский Союз, либо Соединенные Штаты. Это разделение не обошлось без проблем, и глобальное равновесие в его рамках было достигнуто только после опасных кризисов, таких как берлинский и кубинский.Это относительно стабильное состояние международных отношений стало известно как «мирное сосуществование» — выражение, которое использовал советский лидер Никита Хрущев. Обе стороны признавали, что в ядерный век даже закоренелые противники должны сосуществовать. По сути, это была «большая сделка».
Противостояние между двумя сверхдержавами продолжалось, но их стремление к самосохранению требовало прагматичного сотрудничества для снижения риска столкновения. Был начат контроль над вооружениями и достигнут определенный уровень разрядки, 13 , отчасти благодаря личностям руководителей.
И Хрущев, и его преемник Леонид Брежнев участвовали во Второй мировой войне и хотели избежать Третьей мировой войны; они также признали важность контактов на высоком уровне со своими американскими коллегами.
Руководство СССР и США не ограничивалось официальными дипломатическими каналами, а также использовало доверенных лиц. Самым известным и эффективным каналом связи был канал между советником по национальной безопасности США Генри Киссинджером и послом СССР в США Анатолием Добрыниным: их сотрудничество было неотъемлемой частью развития политики разрядки. 14
Попытки последнего советского лидера Михаила Горбачева выстроить новые советско-американские отношения — этакий дружественный глобальный кондоминиум — потерпели неудачу из-за прогрессирующей слабости Советского Союза, что в конечном итоге привело к распаду страны. При Борисе Ельцине, первом президенте Российской Федерации, целью фактически была уже не «большая сделка» между Москвой и Вашингтоном, а скорее присоединение России к коллективному Западу во главе с Соединенными Штатами.
Неподготовленность и предельное нежелание российских элит и общества признать безоговорочное лидерство США в новых отношениях стало главной причиной провала попыток интегрировать Россию в Запад.
Попытки договориться об этой интеграции продолжались до начала 2000-х годов. В интервью Би-би-си в марте 2000 года исполняющий обязанности президента Владимир Путин допускал возможность вступления России в НАТО. 15 А после терактов 11 сентября 2001 года заявление Путина о поддержке США и его шаг по оказанию реальной помощи в антитеррористической операции в Афганистане породили в Москве надежды на новое сотрудничество с Вашингтоном.
В ноябре 2001 года Сергей Рогов, в то время директор Института США и Канады РАН, писал: «Впервые с 1945 года у США и России появился общий враг: международный терроризм… Борьба против общего противника создает такие мощные общие интересы, что все другие цели становятся второстепенными по отношению к ним. Союз может быть стабильным, если у сторон есть другие долгосрочные интересы.
Одним из таких интересов могло бы стать нераспространение ядерного оружия. 16
Однако Соединенные Штаты рассматривали эти новые отношения как присоединение России к международной системе, возглавляемой Соединенными Штатами, тогда как для Путина Вашингтону было крайне важно рассматривать Москву как равноправного партнера, обладающего правом и способностью совместно принимать важные решения. Для Вашингтона такое ожидание было чрезмерным и неприемлемым, поскольку оно бросало вызов единоличному лидерству Соединенных Штатов и могло подорвать изнутри международную систему, которую выстроил Вашингтон.Путин в конце концов понял это и сам. В своей знаменитой мюнхенской речи в феврале 2007 года он подверг резкой критике однополярный мир и поведение его гегемона — США. 17
Таким образом, борьба с международным терроризмом не стала достаточно прочным фундаментом для нового союза двух держав, становившихся все менее равными и более далекими в ценностном и геополитическом плане.
Попытки «перезагрузить» российско-американские отношения в период президентства Дмитрия Медведева в 2008–2012 годах длились недолго и были перечеркнуты внутренними событиями в обеих странах и разногласиями между ними на международной арене.
Избрание Дональда Трампа президентом США в 2016 году возродило призрак «большой сделки» в Москве, возможно, в последний раз. Были надежды, что соглашение может быть достигнуто — не потому, что Россия примет западные ценности, а из-за равнодушия Трампа к ценностным рамкам, а также чистого прагматизма и личной «химии» между Трампом и Путиным. Однако внутренняя динамика в США привела к ухудшению американо-российских отношений.
Наконец, в начале пандемии нового коронавируса в Москве ненадолго возникла иллюзия, что совместные усилия против пандемии могут хотя бы смягчить противостояние между Вашингтоном и Москвой.На самом деле пандемия лишь обострила напряженность, подогрела недоверие США к России и подстегнула конкуренцию двух стран на рынке вакцин, переросшую в информационную войну.
18
Заключение
После победы Джо Байдена на выборах 2020 года новая администрация США решительно понизила приоритет отношений с Россией во внешней политике США, демонстративно отказавшись от традиционного обещания работать над улучшением отношений с Москвой и исключив любую перезагрузку.Президент Байден и его команда также усилили идеологическое измерение внешней политики и отказались от некоторых дипломатических тонкостей в публичной риторике, в том числе в отношении лично президента Путина.
В этих условиях обращение к идее «большой сделки» между Россией и США (или, шире, заокеанским Западом) представляется чистой утопией. Хотя могут быть некоторые практические возможности для сотрудничества — обычно перечисляемые включают предотвращение военной конфронтации, гарантии стратегической стабильности, стремление к ядерному нераспространению и заученный список сотрудничества в области изменения климата, борьбы с пандемией и борьбы с терроризмом — фактические противоречия интересы и ценности слишком остры, чтобы ожидать стабильного партнерства между Россией и США в обозримом будущем.
Опыт советско-американо-британской коалиции военного времени уникален и неповторим. Теперь, когда Россия больше не является сверхдержавой, «большая сделка» между Россией и Соединенными Штатами неправдоподобна. Вернуть американо-российские отношения с грани конфронтации к менее антагонистическому соперничеству можно будет только в случае серьезных изменений во внутренней политике одной или обеих стран. На данный момент никаких указаний на такие изменения нет.
Эта статья была опубликована в рамках кампании «Перезапуск U.Российско-российский диалог по глобальным вызовам: роль следующего поколения», реализуемый совместно с Посольством США в России. Мнения, выводы и выводы, изложенные в настоящем документе, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения Посольства США в России.
Примечания
1 Георгий Димитров, Дневник Георгия Димитрова, 1933–1949 , изд. Иво Банак (Yale University Press, 2003), 115.
2 Киммо Рентола, Сталин и судьба Финляндии [Сталин и судьба Финляндии] (М.: Весь мир, 2020), 50–51.
3 Лев Безыменский, Гитлер и Сталин перед схваткой [Гитлер и Сталин перед битвой] (М.: Вече, 2000), 277.
4 Томас Э. Рикс, Черчилль и Оруэлл: Борьба за свободу (Нью-Йорк: Penguin Press, 2017), 142–143.
5 Алан Аксельрод, Реальная история холодной войны: новый взгляд на прошлое (Нью-Йорк; Лондон: Sterling, 2009), 44.
6 Иван Майский, Воспоминания советского дипломата, 1925–1945 [Воспоминания советского дипломата, 1925–1945] (М.: Наука, 1971), 537, 578.
7 Джеймс Ф. Бирнс, Говоря откровенно (Нью-Йорк; Лондон: Harper & Brother, 1947), 42–43.
8 Бирнс, Говоря откровенно , 44.
9 Рентола, Сталин и суда Финляндии, 71–72.
10 Юрий Мельников, От Потсдама к Гуаму: Очерки американской дипломатии (М.: Политиздат, 1974), 49.
11 Роберт Шлезингер, Призраки Белого дома: президенты и их спичрайтеры (Нью-Йорк: Simon & Schuster, 2008), 47.
12 Генри Киссинджер, Дипломатия (М.: Ладомир, 1997), 427.
13 Генри Киссинджер, Годы Белого дома (Нью-Йорк: Саймон и Шустер в мягкой обложке, 2011), 949, 966.
14 Киссинджер, Белый дом Годы , 112, 138.
18 «Лавров обвинил США и их союзников в оказании давления на другие страны с помощью пандемической помощи», Коммерсантъ , 18 января 2021, https://www.kommersant.ru/doc/4652670.
Автор:
- Андрей Колесников
- Дмитрий Тренин
Июнь 1941 Операция Барбаросса Вторжение Германии в Советский Союз
Июнь 1941 г.Операция «Барбаросса» Вторжение Германии в Советский Союз
Немецкое вторжение
Немецкие войска вторглись в Россию. Немцы наступали на фронте протяженностью 2000 миль. Вместе со своими союзниками они смогли собрать 3 000 000 солдат.Первоначально у русских было 2 000 000 войск. Немецкие войска наступали по всему фронту. К сентябрю они начали осаду Ленинграда, а затем захватили Киев. К концу октября немцы достигли Крыма на юге и Подмосковья на севере.
В августе 1939 года Германия и Советский Союз подписали договор о ненападении. Хотя у Советов не было иллюзий, что это принесет вечный мир с Германией, Сталин считал, что договор даст СССР несколько лет на подготовку к войне.Он считал, что Гитлер сначала захочет победить Великобританию, прежде чем повернуть на восток. Гитлер действительно надеялся сначала победить Британию, но когда Битва за Британию не смогла победить британцев, Гитлер решил повернуть на восток.
С февраля 1941 г. немцы стали стягивать войска к границе. Нападение на Советский Союз первоначально было запланировано на 15 мая 1941 года, но решение Гитлера вторгнуться в Югославию и Грецию вынудило его отложить нападение.
Немцы подготовили самые большие силы вторжения в истории с 3.8 миллионов человек, 3350 танков, 7200 артиллерийских орудий и 2770 самолетов. Британцы предупредили Сталина, что немцы собираются напасть, но отклонил предупреждение, полагая, что британцы пытаются втянуть их в войну. У Советов была большая армия с более чем 5 миллионами под ружьем и еще 14 миллионами в резерве. У них было больше танков — 23 000, из них 14 700 боеспособных, и их лучшие танки были лучше любых немецких танков. К несчастью для Советов, их армия не была хорошо организована, и они не были готовы к войне.
22 июня 1941 года немецкая армия начала вторжение в Советский Союз. Как и все свои вторжения, немцы начали свое вторжение с воздушных ударов по фронту и вглубь Советского Союза.
Немецкая воздушная атака была успешной, уничтожив большую часть советского командования и управления. Наступление немцев велось одновременно на четырех фронтах, на Северном фронте через Прибалтику. Ко 2 июля немецкое наступление прошло 280 миль и подходило к Ленинграду.На юге немцы продвинулись вплоть до окраин Киева на Украине. На протяжении всего своего наступления Советы сталкивались с неоднократными советскими контратаками.
Немцы также продвинулись через Белоруссию, где встретили сильное сопротивление.
Крупный натиск двинулся и на Москву. Несмотря на успех немцев, немецкая армия осознала главный факт, во-первых, то, что Советская Армия была больше, чем они думали, и что они не собираются быстро рушиться.Гитлер пришел к выводу, что ему нужно захватить основные экономические центры России, включая Ленинград, и нефть на Кавказе, и уделять меньше внимания захвату Москвы, чтобы подавить Советы. Изменение направления оказалось фатальным для немецких усилий.
Барбаросса и масло | Вопросы военной истории
Филип Эндрюс отвечает на анализ Марка Корби провала Операции Барбаросса в МТ 9.
Провал «Барбароссы» на самом деле довольно прост: в конце концов, все зависело от нефти.Москва не была важна для Сталина. Он был вполне подготовлен и действительно планировал отступить со всей возможной проворностью за Урал и продолжать борьбу оттуда — лишь бы иметь возможность получать нефть с Кавказа через Каспий.
Немцы знали о незначительности Москвы для Советов (Ленинград был гораздо более символичным, поскольку был родиной Революции).Немецкий военный атташе в Москве сообщил об этом верховному командованию Германии, но его проигнорировали. Немецкое высшее командование было зациклено на крупных городах и было настроено тратить время и ресурсы на осаду городов, не имевших для Сталина реальной военной ценности.
У немцев никогда не было достаточно ресурсов для той войны, на которую они шли воевать в Советском Союзе. Во-первых, большая часть их армии была конной, а большая часть транспорта, который был механизированным, была реквизирована из оккупированных стран.Германия в начале войны имела самый низкий уровень транспортной механизации среди всех западных держав. Они полагались на лошадей гораздо больше, чем Франция, Великобритания или США. У них не было ресурсов для достаточной механизации своей армии, чтобы начать стратегическую войну против России.
Во-вторых, чтобы вывести из строя советскую промышленность и транспортную инфраструктуру, им пришлось бы развивать стратегические бомбардировочные силы по образцу англичан и американцев. После смерти генерала Вевера, незадолго до войны, они полностью отказались от идеи стратегического бомбардировщика в пользу Ju 88, который никогда не предназначался для стратегических бомбардировок.Таким образом, у них никогда не было возможности бомбить за Урал или дойти до Кавказа.
В-третьих, им потребовались бы гораздо более сильные бронетанковые механизированные силы, чем всего лишь 20 или около того танковых дивизий, с которыми они вторглись в Россию. Кроме того, они должны были разработать свою броню с широкими гусеницами для бездорожья в России и с достаточным вооружением, чтобы противостоять Т-34 и КВ-1. Как бы то ни было, их разведданные о Советском Союзе и его ресурсах, особенно людском потенциале, были ужасны или отсутствовали.
Одной из возможных стратегий победы для них было бы вторжение только на Украину с блокирующими силами на Припятских болотах. Они могли предоставить украинцам независимость, создать антикоммунистическое марионеточное правительство и использовать украинцев для борьбы с советской армией. Тем временем немецкие бронетанковые и механизированные войска могли совершить рывок к Кавказу и нефтепромыслам.
Стратегические бомбардировщики, которых у немцев никогда не было, могли быть использованы для уничтожения нефтеперевалочных пунктов на Каспии, чтобы помешать Сталину получить нефть, но без уничтожения самих месторождений.
Как только танковые силы прибыли на Кавказ, скажем, через шесть месяцев после вторжения, они, возможно, смогли захватить поля нетронутыми или, по крайней мере, отказать в них Советам.
В то время нефтяные месторождения Кавказа были единственным источником нефти, имевшимся у Советов. Если бы эта «украинская» стратегия была запланирована с самого начала — с соответствующим наращиванием бомбардировочных и танковых сил — немцы, возможно, смогли бы заставить Сталина сесть за стол переговоров, лишив его поставок нефти.Они должны были сделать это, а не тратить хороших пилотов и самолеты на бесполезные бои над Британией.
По крайней мере, это мой взгляд на Барбароссу. Я полагаю, что у Гитлера была очень сильная интуиция в отношении важности немедленного наступления на Кавказ, но его узколобые и закоснелые генералы верили в обычные боевые действия и обычные цели, такие как города. Это они, а не он, верили, что русские рухнут под тяжестью блицкрига и что война закончится через несколько месяцев.
Это было основано больше на идеологии, принятии желаемого за действительное и тотальной недооценке советской системы, чем на какой-либо рациональной оценке той разведки, которая у них была. Барбаросса в том виде, в каком она велась, была обречена с самого начала, потому что у Гитлера и его генералов были совершенно разные взгляды на Советский Союз и на то, как с ним бороться. Немецких генералов, возможно, как и генералов где бы то ни было, учили планировать и думать о тактике на поле боя, а не об общей стратегии войны. В последнем они были особенно закоснелы.Они не усвоили из Первой мировой войны, что борьба с русскими была в первую очередь вопросом стратегии, а не тактики.
Если бы немцы в 1941 году подготовились и применили советскую стратегическую концепцию «глубокого наступления» — основу впечатляюще успешного советского вторжения в оккупированную Восточную Европу в 1944–1945 годах, — «Барбаросса» мог бы добиться успеха.
Филип Эндрюс — исследователь Второй мировой войны и подписчик Military Times .Германия владеет ключом к сдерживанию действий России против Украины
Спустя тридцать лет после начала югославских войн западный альянс снова столкнулся с возможностью крупного вооруженного конфликта на периферии Европы.Россия Владимира Путина сосредоточила около 100 000 военнослужащих у границы с Украиной. Западные спецслужбы и аналитики обеспокоены тем, что в ближайшее время он может готовиться к вторжению.
Во всем этом есть леденящее кровь чувство дежавю. Однако в большинстве ключевых аспектов сегодняшняя ситуация заметно хуже, чем три десятилетия назад.
В 1990-е годы Соединенные Штаты не хотели вмешиваться в прекращение кровопролития на Балканах. Тем не менее, как только он решил вмешаться, чувство праведной ответственности пронесло его победитель в холодной войне, а вместе с ним и его европейских союзников.Деморализованная и почти обанкротившаяся постсоветская Россия держалась на расстоянии, но дипломатическое давление Москвы помогло вынудить сербского диктатора Слободана Милошевича вывести свои войска из отколовшейся провинции Косово, положив конец воздушной войне НАТО против Белграда.
Германия участвовала в этой операции, но только после мучительных споров о том, позволяет ли ей ее история.
Сегодня администрация Байдена заявляет, что твердо привержена безопасности Европы и суверенитету Украины.Тем не менее, она страдает от политической поляризации и болезненно осознает свое ограниченное влияние на электорат, уставший от войны и недоверчивый к политике. Несколько ястребов, оставшихся в Вашингтоне, нацелены на Китай. «Сдержанность» все чаще пользуется поддержкой обеих партий. Бурный вывод войск из Афганистана нанес ущерб репутации США в мире и подорвал сплоченность альянса.
Тем временем Россия помогает Беларуси использовать миграцию в Европейский Союз как оружие. Он взорвал один из своих спутников ракетой, создав поле обломков на низкой околоземной орбите, которое угрожает космической инфраструктуре глобализации.Государственный «Газпром» не выполняет свои обязательства по заполнению хранилищ газа в Германии, несмотря на дефицит поставок и резкий рост цен.
Путин недавно назвал «геноцидом» боевые действия в восточном Донбассе Украины, где Россия ведет опосредованную войну с 2014 года, в результате которой погибло более 13 000 человек.
Список пожеланий по гарантиям безопасности, представленный Кремлем США и НАТО на прошлой неделе, сводится к наложению вето на дальнейшее расширение альянса, снятию всех ограничений США.С. ядерного оружия в Европе, в том числе бомб B-61 в Германии, а также вывод войск с территорий бывшего Варшавского договора и Советского Союза.
Это уже не только Украина. По сути, Россия требует сферы интересов, которая начинается на восточной границе Германии, и прекращения совместного использования ядерного оружия в Европе — неприемлемые предложения для Запада. Даже если это просто балансирование на грани войны с целью вызвать дипломатические переговоры или переворот в Киеве, это чрезвычайно рискованно.
Но в этом году есть еще одно 30-летие: распад Советского Союза 26 декабря 1991 года. В недавно вышедшем в эфир документальном фильме Путин назвал это событие кончиной «исторической России», добавив, что оно вынудило его подрабатывать таксистом.
В эссе, опубликованном в июне, он отрицал украинскую национальность. Российская прокуратура приняла решение запретить «Мемориал», российскую правозащитную группу, занимавшуюся документированием преступлений сталинизма. Что, если Путин, историк-любитель, собирается переписать историю?
НАТО и ЕС ответили общим предложением о диалоге, отклонили требования о вето и выводе войск и предупредили Россию о «огромных последствиях и серьезных затратах» в случае, если она предпримет военные действия против Украины, оставив открытым то, что они имеют в виду под этим.Двусмысленность может быть преднамеренной, чтобы не создавать предлога для эскалации. Это также может быть попыткой скрыть разногласия в Европе. Премьер-министр Италии Марио Драги выразил скептицизм по поводу возможного российского вторжения, а министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Москва «действительно готовится к войне».
Что касается Германии, то время, когда она могла ссылаться на свою историю как на предлог, чтобы оставаться в стороне, давно прошло.
Экономический якорь Европы необходим для любых усилий Запада по сдерживанию Путина.Любая возможная мера — санкции против российских компаний, исключение России из системы электронных платежей SWIFT, отмена газопровода «Северный поток — 2» — обойдутся новому правительству канцлера Олафа Шольца с финансовой и политической точек зрения.
Но какая альтернатива? По Путину: война в Европе, которую ведет ядерная великая держава. Югославские войны длились десятилетие и унесли примерно 140 000 жизней. Балканы остаются неспокойным регионом.
Тем не менее Путину не мешало бы иметь в виду, что две из шести бывших республик коммунистической Югославии теперь входят в ЕС.Четверо в НАТО. А Милошевич предстал перед трибуналом ООН по военным преступлениям в Гааге.
Неудачная попытка Гитлера завоевать Москву | Джонатан Белл
Операция «Тайфун» и битва за Москву
Зенитчики в центре Москвы — Архив РИА Новости / Wikipedia CommonsКогда в июне 1941 года Гитлер начал операцию «Барбаросса», угроза Москве стала почти сразу очевидной.
Несмотря на несколько предупреждений о надвигающемся вторжении, нападение Германии на Советский Союз застало Сталина врасплох, а первоначальные советские оборонительные усилия были омрачены сценами хаоса и беспорядка.Когда Красная Армия была истощена и деморализована в результате предвоенных чисток ее офицерского состава, немецкие захватчики быстро продвинулись на восток по советской территории — за первые шесть месяцев конфликта советские солдаты потеряли 2 663 000 солдат убитыми и 3 350 000 взятыми в плен.
В начале «Барбароссы» Гитлер заявил: «Не пройдет и трех месяцев, как мы станем свидетелями коллапса в России, подобного которому еще не было в истории», и по мере того, как вермахт переживал волну ранних побед, гитлеровское пророчество появилось быть на грани воплощения в реальность.Немецкая стратегия в 1941 году была направлена на головокружительное наступление через Советский Союз и решительное поражение Красной Армии в течение нескольких месяцев, имитируя стремительный успех Германии во Франции, наблюдаемый в 1940 году.
Это включало трехстороннее наступление на Ленинград, Москва и Киев — при этом Гитлер оставался уверенным, что советские защитники находятся на грани краха.
Группе армий «Центр» было поручено наступление на Москву, и в июле они захватили Смоленск, известный как ворота в российскую столицу.К сентябрю 1941 года Гитлер обнаружил, что его войска приближаются к воротам Москвы, и немецкое командование начало мечтать о молниеносной победе над своими злейшими врагами. Теперь, когда столица оказалась под угрозой, был начат последний штурм Москвы с целью нанести решающий удар советскому сопротивлению.
30 сентября Гитлер инициировал операцию «Тайфун», и гонка к Москве шла полным ходом. У Сталина было 800 000 солдат для защиты западных подступов к Москве, и Советы начали строить оборонительные рубежи вокруг ключевых городов на пути к своей столице.Однако эти оборонительные позиции не смогли сдержать натиск немцев — и Орел, Брянск и Вязьма падали одна за другой, попутно захватив ошеломляющие 663 000 советских пленных.
Немецкое наступление на Москву (октябрь 1941 г.) — Национальный цифровой архив (Польша) / Wikipedia Commons ответственность за оборону Москвы генералу Георгию Жукову.Человек скромного происхождения, Жуков был известен как прямолинейный лидер, умевший давать честные отзывы с передовой, что помогло ему выделиться среди напуганных поддакивающих людей, которые часто окружали Сталина.После падения Орла немецкий генерал Альфред Йодль докладывал Гитлеру: «Мы окончательно и без всякого преувеличения выиграли войну!» и ожидания неминуемого распада СССР росли с каждой победой.
К тому времени, когда он принял командование, Жуков обнаружил, что в его распоряжении было всего 90 000 солдат, разбросанных по огромному радиусу 150 миль, по сравнению с 800 000 в начале сентября. Многие из оставшихся оборонительных частей состояли из отставших, бежавших на восток среди прежнего хаоса, при этом целые группы армий отделялись друг от друга.Сцена была еще более беспорядочной из-за бешеной разведки, поступающей с линии фронта, когда сами советские командиры не знали, где именно находятся немцы.
В самой Москве активность достигла бешеного размаха, когда его жители хлынули, чтобы предложить свои услуги на войне. Было поднято несколько добровольческих боевых дивизий, вокруг города вырыты две полосы оборонительных траншей, в том числе женщинами и детьми. Когда к середине октября немецкие войска вышли на Можайскую линию (главную линию укреплений Москвы), 15 октября Сталин приказал вывести Коммунистическую партию, правительственных чиновников и Генеральный штаб из столицы и передислоцировать их в город Куйбышев.Вид чиновников, бегущих из Москвы, вызвал волну паники в городе, когда мирные жители блокировали дороги и загромождали вокзалы, пытаясь поспешно сбежать. Вскоре было введено военное положение.
Для разрядки ситуации в столице остался сам Сталин — и это вскоре помогло развеять опасения в городе. Непокорный Сталин провозгласил, что «Москва будет защищаться до последнего!» когда он пытался сплотить москвичей для предстоящей битвы, но пока его самым большим союзником будет погода.
Дорога под Москвой заблокирована грязью (ноябрь 1941 г.) — Bundesarchiv / Wikipedia Commons ограниченное количество).В то время как немецкие войска страдали от нехватки зимнего снаряжения и обмундирования, их противники также использовали этот период, чтобы запастись зимним снаряжением, таким как зимние комбинезоны и сани, которые сыграли решающую роль в предстоящем зимнем бою.31 октября операция «Тайфун» была остановлена из-за дождя и таяния снега, которые сделали дороги непроходимыми, а немецкие линии снабжения оказались перегруженными. Все это было слишком знакомо советским защитникам, которые знали этот период как Распутица — буквально время без дорог.
Теперь, когда немцы дислоцировались всего в 50 милях от Москвы, 7 ноября на Красной площади состоялся военный парад в честь годовщины большевистской революции, и Сталин снова увидел пропагандистский и моральный потенциал такого события.Накануне торжества Сталин выступил перед собравшейся толпой с воодушевляющей речью, в которой убеждал, что «нашей задачей теперь будет уничтожить всех немцев до последнего человека! Смерть немецким захватчикам!» и предупреждение, что «если они хотят войны на истребление, они ее получат».
Празднование, однако, было недолгим, и 15 ноября немецкое наступление снова возобновилось, подготовив сцену для ожесточенного столкновения, которое вскоре охватило город.
Стратегия немцев по захвату Москвы заключалась в двух скоординированных атаках, которые, в свою очередь, захватили город в клещи и оставили защитников в окружении.3-я и 4-я танковые группы должны были форсировать канал Москва — Волга и подойти к Москве с северо-востока, а 2-я танковая армия должна была наступать на Тулу и штурмовать столицу с юга. Несмотря на хроническую нехватку горючего и боеприпасов с немецкой стороны, наступление началось в условиях ожесточенных боев — советские войска успешно остановили 2-ю танковую армию генерала Хайнца Гудериана на южном фланге. Эта нехватка снабжения вскоре стала настолько серьезной, что сам Гудериан потребовал отменить штурм.
На севере немецкое наступление дало большие результаты. Атакующим удалось успешно форсировать канал Москва-Волга, при этом 16-я армия Константина Рокоссовского не смогла удержать свои позиции — и теперь немецкие войска оказались в 20 милях от Красной площади.
К концу ноября моторизованные силы Жукова сократились до трех танковых дивизий, трех мотострелковых дивизий, двенадцати кавалерийских дивизий и четырнадцати танковых бригад, хотя в этом районе все еще оставался значительный контингент противотанковых подразделений.
Столкнувшись с еще одним потенциальным бедствием, Красная Армия, тем не менее, извлекла уроки из горьких поражений сентября и октября. Жуков неустанно работал, чтобы поддерживать контакт с линией фронта, и был полон решимости не допустить, чтобы группы армий потеряли контакт друг с другом, как это случалось ранее, и к этому моменту защитники смогли собрать 240 000 солдат, поскольку продолжали прибывать дополнительные подкрепления. Важно отметить, что советским солдатам был отдан приказ сражаться до последнего человека, иначе они столкнутся с перспективой расстрела, что предотвратило возможность массового дезертирства.
Советский пулеметчик под Тулой (ноябрь 1941 г.) — Wikipedia Commons Жуков поручил генерал-майору Павлу Белову, командующему 2-м кавалерийским корпусом, возглавить наступление и выделил ему вновь назначенный 1-й гвардейский кавалерийский корпус в качестве дополнительной поддержки.Войска Белова атаковали немцев у Каширы (в 50 милях к северо-востоку от Тулы) и почти не встречая сопротивления, сумели проникнуть на их линию фронта, что фактически положило конец наступлению на Москву с юга.
К северу немецкие солдаты достигли Химок (город на окраине Москвы) и якобы сообщили, что смогли мельком увидеть Красную площадь в бинокль, но это был самый дальний пункт их продвижения. К концу ноября немцы потеряли 25% своей эффективной численности войск, а когда в начале декабря начались советские контратаки, северный немецкий фланг быстро начал выдыхаться. 5 декабря контрнаступление 33-й армии генерала Михаила Ефремова, наконец, остановило наступление с севера на Москву — и в условиях неблагоприятной погоды и острой нехватки снабжения немецкий генерал Федор фон Бок запросил разрешения завершить операцию «Тайфун» и подготовить свои оборонительные позиции для наступления на Москву. зима.
В то время как упорное советское сопротивление смогло положить конец непосредственной угрозе Москве, Сталин все еще надеялся нанести решающий удар.
Когда немецкое наступление остановилось, фельдмаршал Вальтер фон Браухич записал в своем дневнике, что у Советов «нет доступных новых сил», а немецкая разведка уверенно полагала, что у Красной Армии закончились резервы. Однако это был серьезный просчет, и в начале декабря Советы предприняли масштабную контратаку, которая застала их противников врасплох.
К настоящему времени жестокая реальность суровой русской зимы по-настоящему вступила в свои права, с сильным снегопадом и температурой -15 градусов по Цельсию, сопровождавшими наступление советских войск. Условия были настолько неблагоприятными, что немецкие ремонтные бригады изо всех сил пытались предотвратить простое замерзание двигателей в сильный мороз. Севернее Москвы 29-я и 31-я армии Калининского фронта под командованием Ивана Конева перешли в контрнаступление и быстро вытеснили немецкую линию фронта на запад, захватив 15 декабря город Клин и отвоевав Калинин к концу месяца.К югу от Москвы аналогичная контратака кавалерийской механизированной группы Белова была нацелена на 2-ю танковую армию Гудериана, а дальнейшее наступление 50-й армии Ивана Болдина на Тулу вынудило Гудериана отойти к реке Дон.
Немецкие солдаты под Москвой (декабрь 1941 г.) — Вильгельм Гирзе / Wikipedia Commons разместить по состоянию здоровья.Вскоре после этого Гитлер лично возьмет на себя командование ситуацией и немедленно потребует, чтобы его командиры удерживали свои позиции любой ценой, даже перед лицом дальнейших советских атак. К счастью для немцев, истощенная Красная Армия быстро выдыхалась, и к январю 1942 года вермахту удалось стабилизировать ситуацию и помешать Советскому Союзу добиться дальнейших успехов.Поражение, однако, дорого обошлось немцам, так как во время боя они потеряли до 250 000 человек.В специальном отчете немецкого верховного командования об уровне морального духа в 4-й армии была сделана следующая оценка: «люди [являются] совершенно апатичными, неспособными носить или обслуживать оружие; остатки рот рассредоточены на километры; они ковыляют парами, опираясь на винтовки, обмотав ноги тряпками. Когда к ним обращались, они не слышали или начинали плакать». Когда после нескольких недель ожесточенных боев вокруг Москвы оседала пыль, унылое настроение немецких рядовых резко контрастировало с ликованием, которое испытывали их советские соперники.
Неспособность немцев взять Москву обычно связывают с жестокостью русской зимы — и это, несомненно, сыграло свою роль в сражении. Однако лютые морозы и пронизывающая температура конца 1941 года не могут единственно объяснить триумф Советского Союза во время конфликта. Как отметили Дэвид Гланц и Джонатан Хаус в своей знаменательной истории Восточного фронта «Когда титаны столкнулись, », сильно растянутые линии снабжения Германии также сыграют ключевую роль в защите Москвы, причем два историка описывают соперничающие силы. как напоминающие «двух пьяных боксеров, ненадежно стоящих на ногах, но быстро теряющих способность наносить друг другу решительные удары».
К концу операции «Тайфун» немецкое наступление было решительно остановлено, так как их запасы подкреплений были на исходе, в то время как Советскому Союзу удалось вызвать дополнительные войска и припасы в ключевые моменты битвы. Историк Ричард Овери подчеркивает замечательную способность советских военных восстанавливаться и перевооружаться после первых катастроф июня-декабря 1941 года, когда на каждую немецкую жертву приходилось 20 убитых советских солдат.
Немецкие войска в Калинине (октябрь 1941 г.) — Национальный цифровой архив (Польша) / Wikipedia Commons борьба за город.После нескольких месяцев постоянных поражений и горьких потерь на ранних этапах Барбароссы защитники начали расти в компетентности и боевых навыках, а Советы использовали домашнее преимущество (например, использование постоянных аэродромов, в отличие от временных передовых баз, используемых немцами) с большим успехом.Примером поворота советской военной доблести во время битвы может служить недавнее контрнаступление по освобождению города. За счет концентрации сил в ходе советских контрударов в декабре 1941 и январе 1942 года Красная Армия смогла добиться 2.Превосходство в личном составе над немцами в соотношении 5 к 1 к северу от Москвы и преимущество 2 к 1 на юге — демонстрация растущего тактического мастерства советских командиров на этом этапе войны. Вклад тех, кто участвовал в советских военных действиях в течение этого периода, наряду с жестокой русской зимой, помогает объяснить неожиданную победу Советского Союза под Москвой.
В контексте Второй мировой войны битва за Москву будет иметь как практические, так и психологические последствия для оставшейся части войны.Успешная оборона Москвы поднимет моральный дух Советского Союза в самый темный час и станет доказательством того, что грозный вермахт может быть побежден. С точки зрения Германии, поражение положило конец надеждам Гитлера на быструю победу над Советским Союзом и гарантировало, что война Германии на востоке теперь станет кампанией на истощение, что, в свою очередь, соответствовало огромным промышленным возможностям Советского Союза и огромным запасам природных ресурсов. .
С годами кровопролитных боев война Германии против ее восточного соперника не была выиграна или проиграна неудачей в Москве.Однако это сражение в конечном итоге ознаменовало начало советского возрождения на Восточном фронте и стало первым крупным поражением Германии в войне, когда баланс сил между двумя сторонами теперь начал медленно меняться.
Россия на Запад: день «Д» не был решающим в прекращении Второй мировой войны 16 января 2019 г.
REUTERS/Maxim Shemetov
МОСКВА (Рейтер) — В среду Россия сообщила Западу, что высадка в Нормандии в день «Д» в 1944 году не сыграла решающей роли в прекращении Второй мировой войны и что военные усилия союзников не следует преувеличивать.
Комментарии Москвы могут вызвать раздражение у ветеранов войны в Великобритании, где в среду на церемонии в Портсмуте, на которой присутствовали королева Елизавета и мировые лидеры, включая Дональда Трампа и Ангелу Меркель, было отмечено 75-летие крупнейшего морского вторжения в истории.
Выступая на еженедельной пресс-конференции в Москве, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова почтила память погибших на западном фронте Второй мировой войны и сказала, что Москва высоко оценивает военные усилия союзников.
«Конечно, не следует преувеличивать. И тем более не одновременно с умалением титанических усилий Советского Союза, без которых этой победы просто не было бы», — сказала она.
Советский Союз потерял более 25 миллионов жизней в так называемой Великой Отечественной войне, а Москва при президенте Владимире Путине стала отмечать победу в войне массовым ежегодным военным парадом на Красной площади.

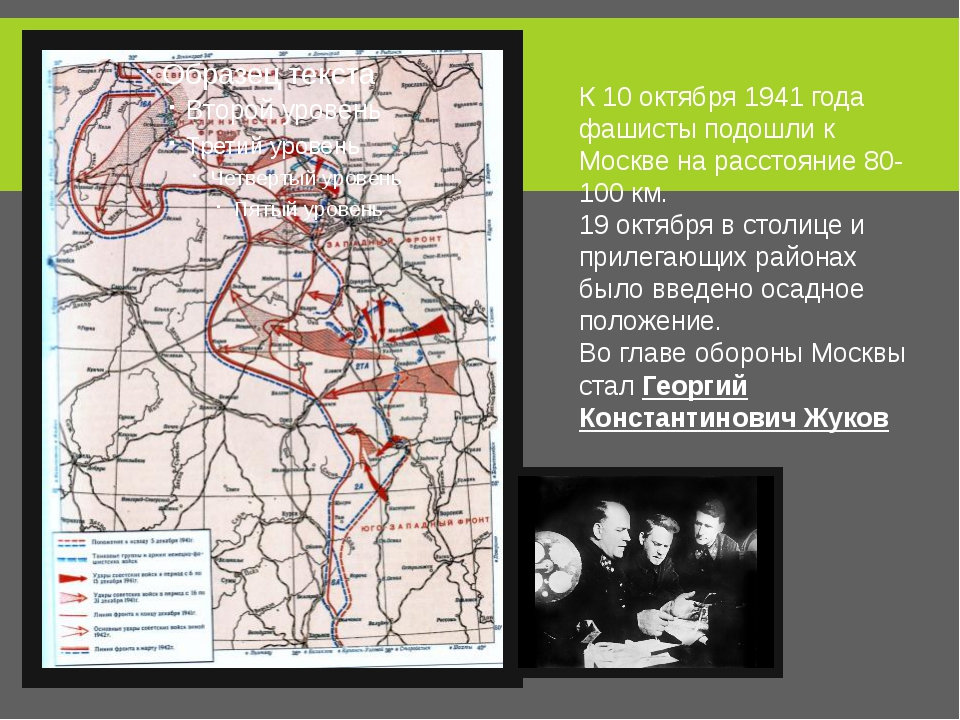 Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев (НКПС — т. Каганович обеспечивает своевременную подачу составов для миссий, а НКВД — т. Берия организует их охрану).
Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев (НКПС — т. Каганович обеспечивает своевременную подачу составов для миссий, а НКВД — т. Берия организует их охрану). … Если они продвинутся в центре к Москве, они рискуют столкнуться с очень серьезными опасностями на южном фланге такого удара, опасностями, для отражения которых у них не было резерва. Если они воспользуются дальнейшим продвижением в центре, чтобы прорваться в тыл сдерживающим их на юге советским войскам, они потеряют время на центральном фронте.
… Если они продвинутся в центре к Москве, они рискуют столкнуться с очень серьезными опасностями на южном фланге такого удара, опасностями, для отражения которых у них не было резерва. Если они воспользуются дальнейшим продвижением в центре, чтобы прорваться в тыл сдерживающим их на юге советским войскам, они потеряют время на центральном фронте. Что бы они ни планировали делать дальше, им сначала нужно было отремонтировать железные дороги, чтобы они могли нести бремя материально-технического обеспечения операций дальше на восток. (b)
Что бы они ни планировали делать дальше, им сначала нужно было отремонтировать железные дороги, чтобы они могли нести бремя материально-технического обеспечения операций дальше на восток. (b) .. В книге Шулера показано, что никакая операция на Центральном фронте не могла быть начата раньше конца сентября, в любом случае начала октября». Умань была правильным оперативным решением в конце лета 1941 года.Не продвинувшись так далеко за пределы начальной точки Барбаросса, как AG Center, AG South все еще мог снабжаться грузовиками. Если немцы хотели продолжать оказывать давление на русских, поворот танка «Гудериан» на юг за Киев был единственным логичным (на самом деле, единственно возможным) вариантом, открытым для немцев. Прямой въезд в Москву в настоящее время кажется логистической фантазией.
.. В книге Шулера показано, что никакая операция на Центральном фронте не могла быть начата раньше конца сентября, в любом случае начала октября». Умань была правильным оперативным решением в конце лета 1941 года.Не продвинувшись так далеко за пределы начальной точки Барбаросса, как AG Center, AG South все еще мог снабжаться грузовиками. Если немцы хотели продолжать оказывать давление на русских, поворот танка «Гудериан» на юг за Киев был единственным логичным (на самом деле, единственно возможным) вариантом, открытым для немцев. Прямой въезд в Москву в настоящее время кажется логистической фантазией. Баку был настоящей ахиллесовой пятой СССР.
Баку был настоящей ахиллесовой пятой СССР. Вернуть американо-российские отношения с грани конфронтации к менее антагонистическому соперничеству можно будет только в случае серьезных изменений во внутренней политике одной или обеих стран.
Вернуть американо-российские отношения с грани конфронтации к менее антагонистическому соперничеству можно будет только в случае серьезных изменений во внутренней политике одной или обеих стран. 
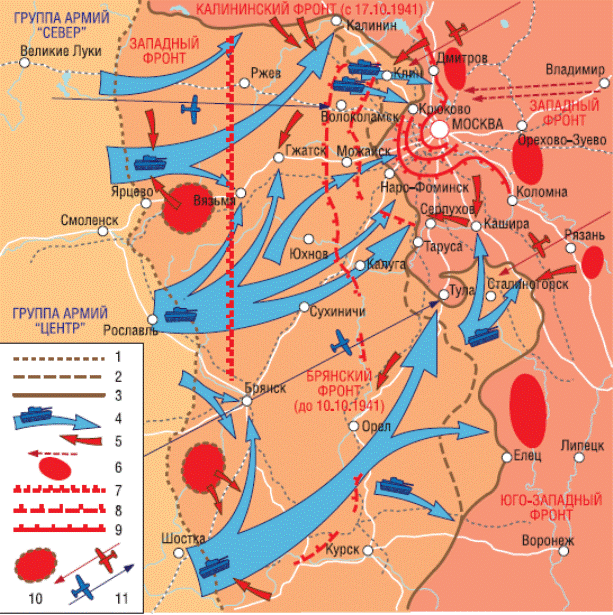 Хотя холодная война в том виде, в каком она происходила, не была ни неизбежной, ни результатом случайности, злой воли или неудачного стечения обстоятельств.
Хотя холодная война в том виде, в каком она происходила, не была ни неизбежной, ни результатом случайности, злой воли или неудачного стечения обстоятельств.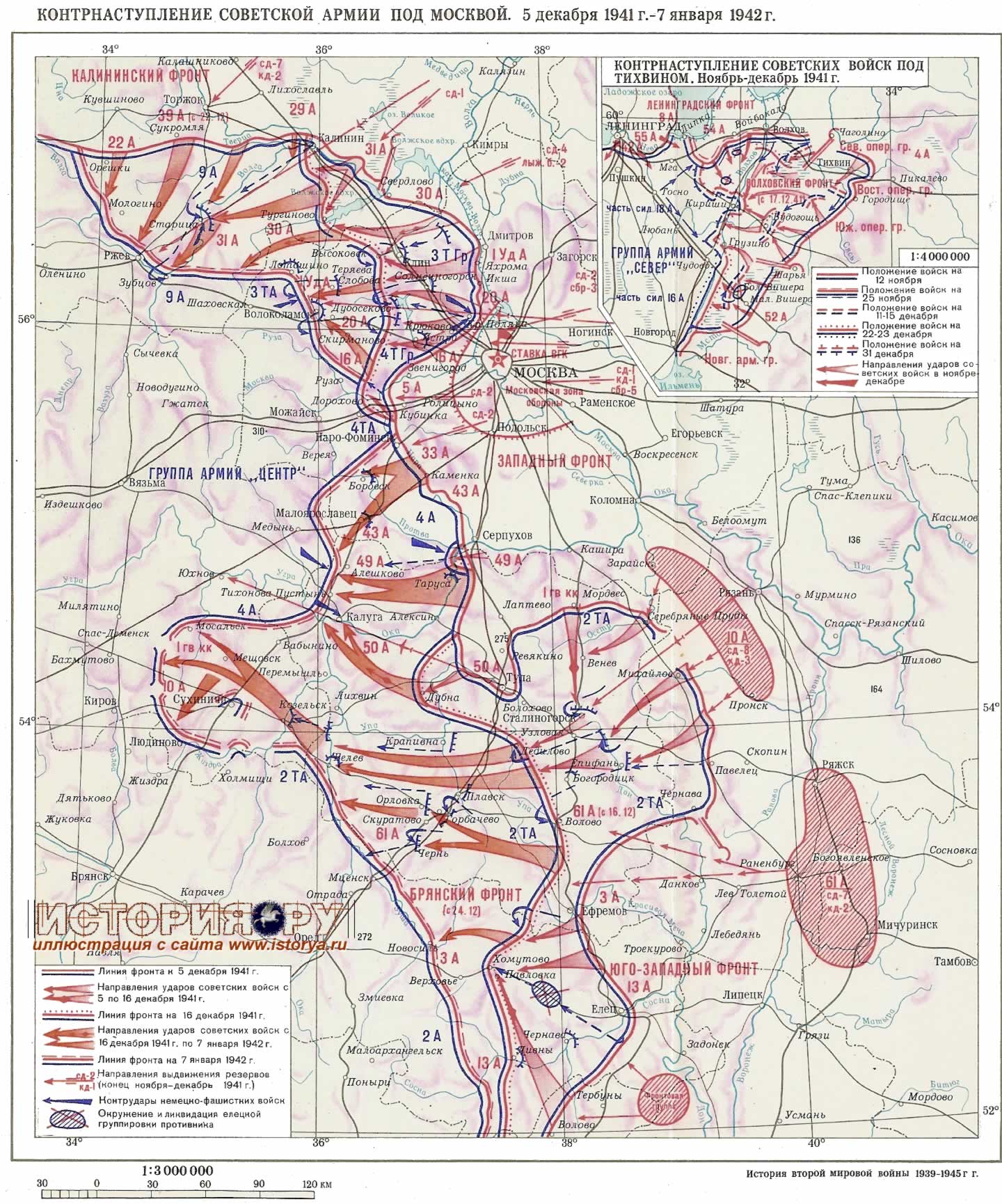 и только сбивает с толку потенциальных союзников России.
и только сбивает с толку потенциальных союзников России.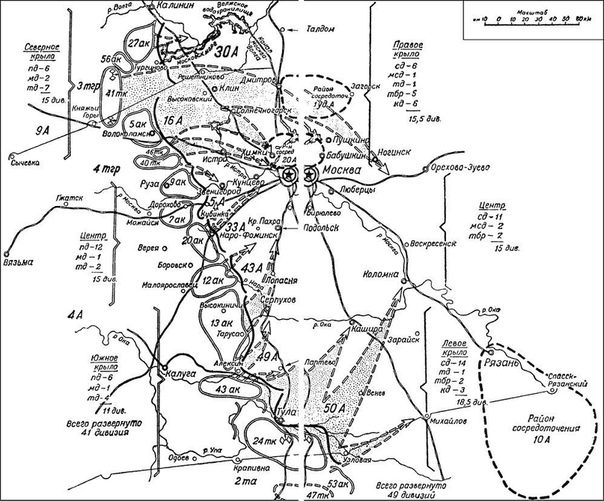 Сделка с Гитлером дала им, как оказалось, ложную надежду на мир с Германией.
Сделка с Гитлером дала им, как оказалось, ложную надежду на мир с Германией.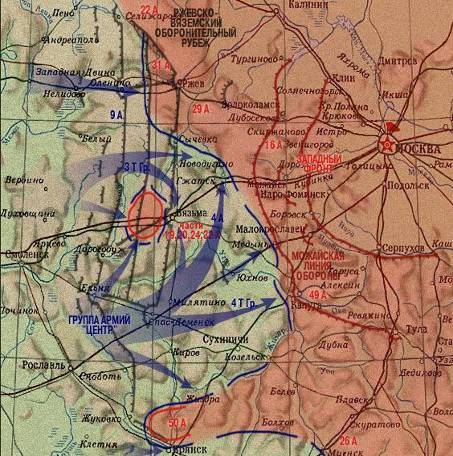 1
1 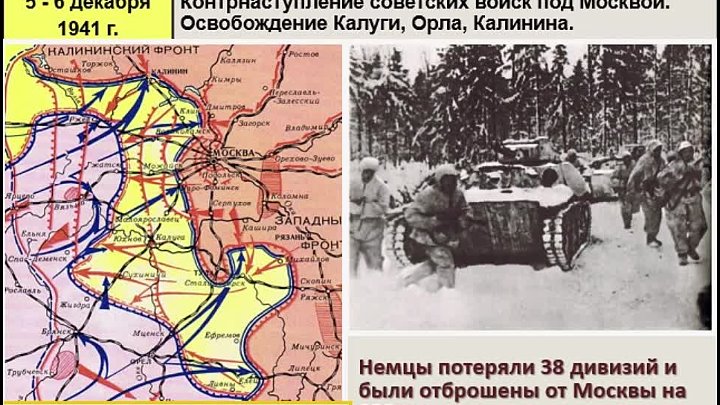 3 Советский лидер был уверен, что Гитлер запомнит уроки Первой мировой войны и избежит войны на два фронта. Однако удивительно быстрое и полное поражение Франции, а также готовность Гитлера идти на риск не оправдали ожиданий Сталина.
3 Советский лидер был уверен, что Гитлер запомнит уроки Первой мировой войны и избежит войны на два фронта. Однако удивительно быстрое и полное поражение Франции, а также готовность Гитлера идти на риск не оправдали ожиданий Сталина.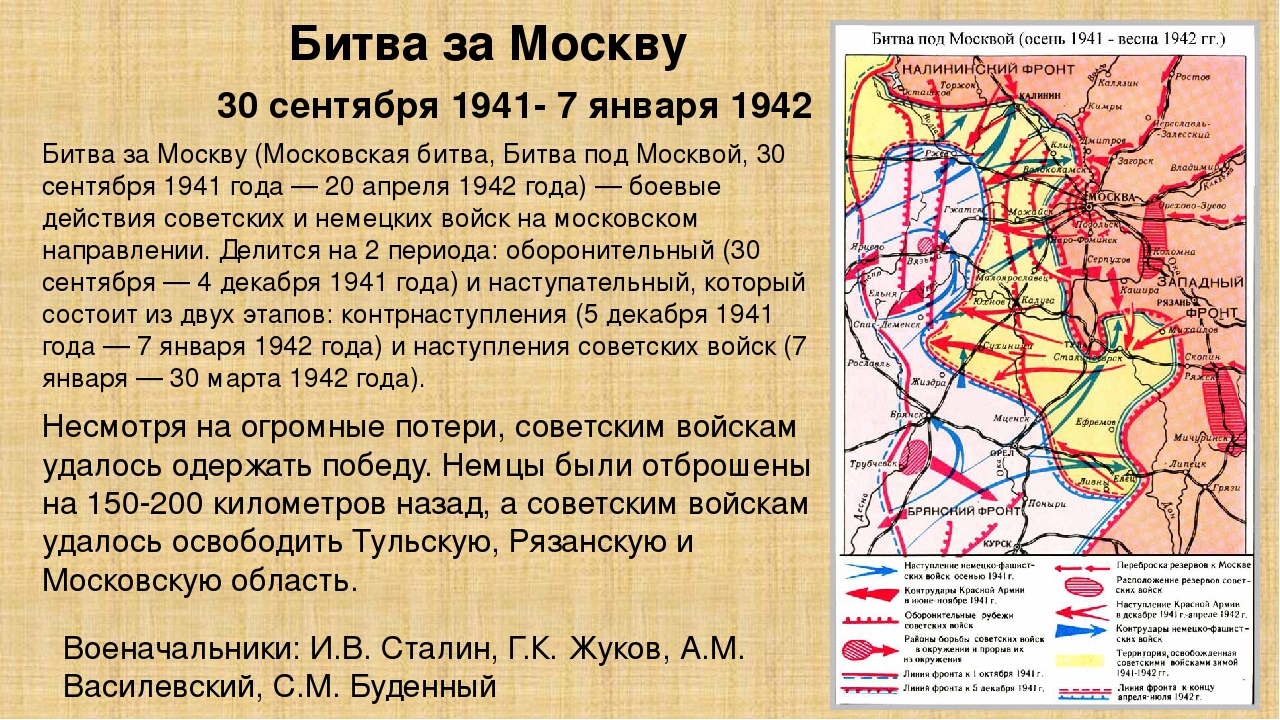
 июня 1941 г. как можно быстрее. 6 Тем не менее, на протяжении всей войны союзники оставались верны друг другу. В трудные первые месяцы войны Сталин не подписал сепаратный мир с Гитлером, как опасался Лондон. В свою очередь, Англия и США отвергли идею сепаратного мира с Германией на заключительном этапе войны. В 1945 году Красная Армия и западные союзные войска не только избежали столкновений друг с другом внутри Германии, но и заняли четкие территориальные позиции, согласованные тремя союзными державами в 1944 году.
июня 1941 г. как можно быстрее. 6 Тем не менее, на протяжении всей войны союзники оставались верны друг другу. В трудные первые месяцы войны Сталин не подписал сепаратный мир с Гитлером, как опасался Лондон. В свою очередь, Англия и США отвергли идею сепаратного мира с Германией на заключительном этапе войны. В 1945 году Красная Армия и западные союзные войска не только избежали столкновений друг с другом внутри Германии, но и заняли четкие территориальные позиции, согласованные тремя союзными державами в 1944 году.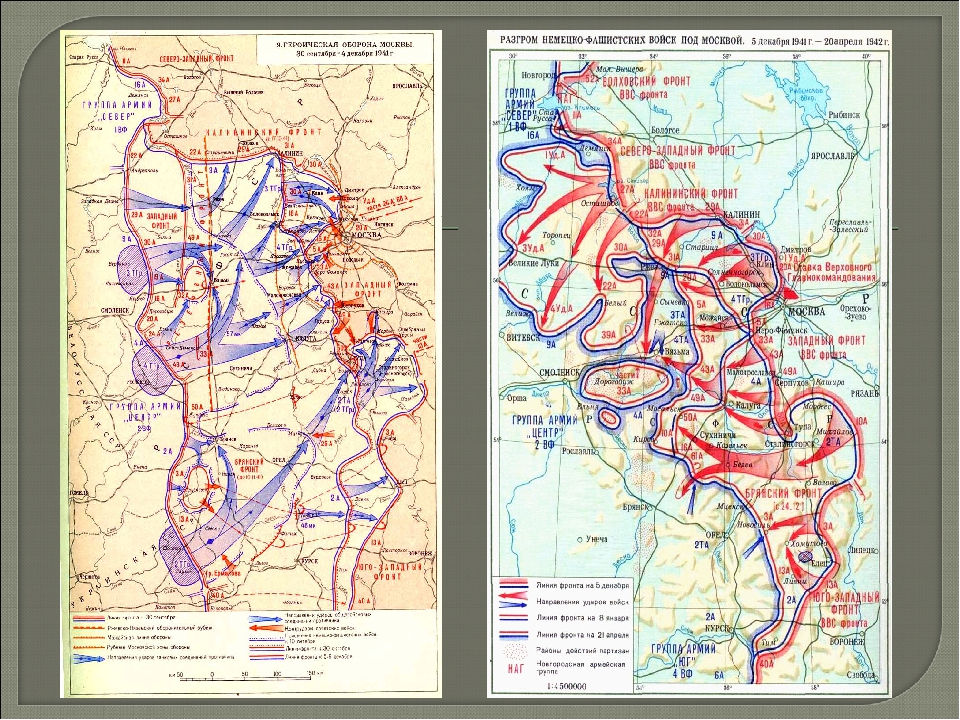 Было также много более мелких компромиссов и уступок.
Было также много более мелких компромиссов и уступок. и Всемирной организации здравоохранения, а также предоставление центральной роли в вопросах международного мира Совету Безопасности ООН.Хотя прямое влияние ООН на международные отношения ограничено, само существование организации вносит определенный порядок в мировую политику и предлагает уникальную глобальную площадку для контактов и переговоров. Это важнейшее дипломатическое наследие антигитлеровской коалиции.
и Всемирной организации здравоохранения, а также предоставление центральной роли в вопросах международного мира Совету Безопасности ООН.Хотя прямое влияние ООН на международные отношения ограничено, само существование организации вносит определенный порядок в мировую политику и предлагает уникальную глобальную площадку для контактов и переговоров. Это важнейшее дипломатическое наследие антигитлеровской коалиции. Разделение на оккупационные зоны не означало сразу раздела Германии как страны. Сталин, опасавшийся, что насильственное разделение только разожжет немецкий национализм, выступал за нейтральную Германию под четырехсторонним контролем Совета союзников и его исполнительной комиссии.Подобные советы и комиссии были созданы и в других странах-сателлитах Германии, от Балкан до Финляндии.
Разделение на оккупационные зоны не означало сразу раздела Германии как страны. Сталин, опасавшийся, что насильственное разделение только разожжет немецкий национализм, выступал за нейтральную Германию под четырехсторонним контролем Совета союзников и его исполнительной комиссии.Подобные советы и комиссии были созданы и в других странах-сателлитах Германии, от Балкан до Финляндии. Москва рассматривала доктрину Трумэна и план Маршалла как попытку создать западный блок против Советского Союза.Сталин ответил проведением политики коммунизации Восточной Европы.
Москва рассматривала доктрину Трумэна и план Маршалла как попытку создать западный блок против Советского Союза.Сталин ответил проведением политики коммунизации Восточной Европы. Войны вспыхивали на флангах линии противостояния, но носили локальный характер и велись преимущественно младшими союзниками или сателлитами двух сверхдержав.
Войны вспыхивали на флангах линии противостояния, но носили локальный характер и велись преимущественно младшими союзниками или сателлитами двух сверхдержав. И Хрущев, и его преемник Леонид Брежнев участвовали во Второй мировой войне и хотели избежать Третьей мировой войны; они также признали важность контактов на высоком уровне со своими американскими коллегами.
И Хрущев, и его преемник Леонид Брежнев участвовали во Второй мировой войне и хотели избежать Третьей мировой войны; они также признали важность контактов на высоком уровне со своими американскими коллегами. Неподготовленность и предельное нежелание российских элит и общества признать безоговорочное лидерство США в новых отношениях стало главной причиной провала попыток интегрировать Россию в Запад.
Неподготовленность и предельное нежелание российских элит и общества признать безоговорочное лидерство США в новых отношениях стало главной причиной провала попыток интегрировать Россию в Запад. Одним из таких интересов могло бы стать нераспространение ядерного оружия. 16
Одним из таких интересов могло бы стать нераспространение ядерного оружия. 16  Попытки «перезагрузить» российско-американские отношения в период президентства Дмитрия Медведева в 2008–2012 годах длились недолго и были перечеркнуты внутренними событиями в обеих странах и разногласиями между ними на международной арене.
Попытки «перезагрузить» российско-американские отношения в период президентства Дмитрия Медведева в 2008–2012 годах длились недолго и были перечеркнуты внутренними событиями в обеих странах и разногласиями между ними на международной арене.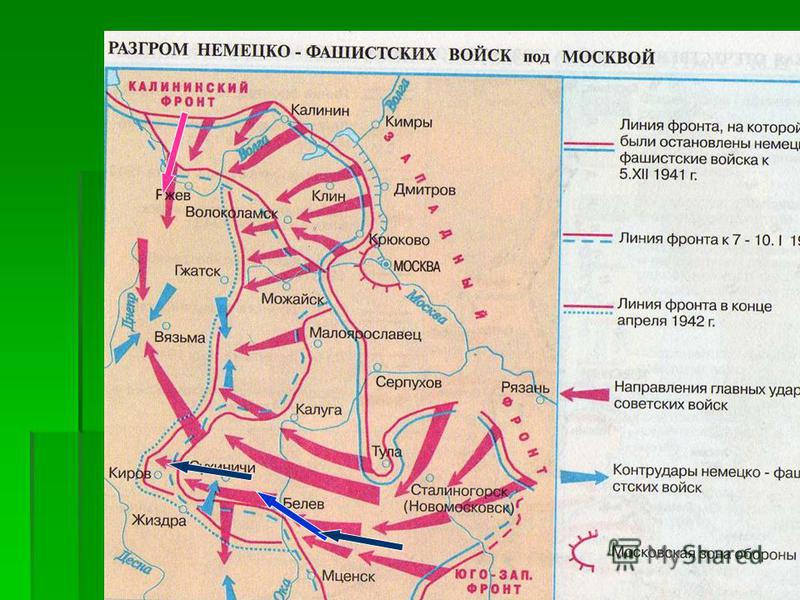 18
18 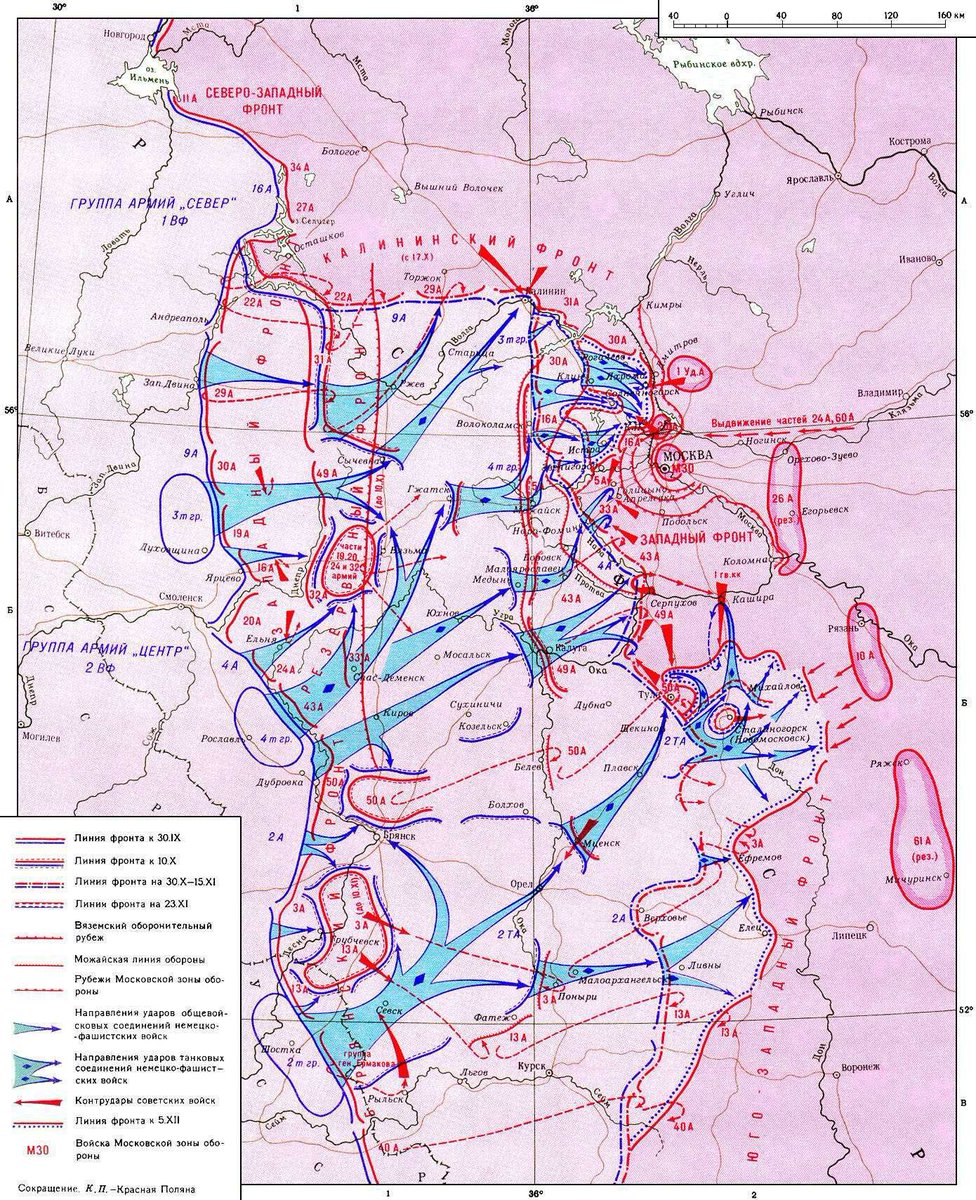


 Операция «Барбаросса» Вторжение Германии в Советский Союз
Операция «Барбаросса» Вторжение Германии в Советский Союз  С февраля 1941 г. немцы стали стягивать войска к границе. Нападение на Советский Союз первоначально было запланировано на 15 мая 1941 года, но решение Гитлера вторгнуться в Югославию и Грецию вынудило его отложить нападение.
С февраля 1941 г. немцы стали стягивать войска к границе. Нападение на Советский Союз первоначально было запланировано на 15 мая 1941 года, но решение Гитлера вторгнуться в Югославию и Грецию вынудило его отложить нападение.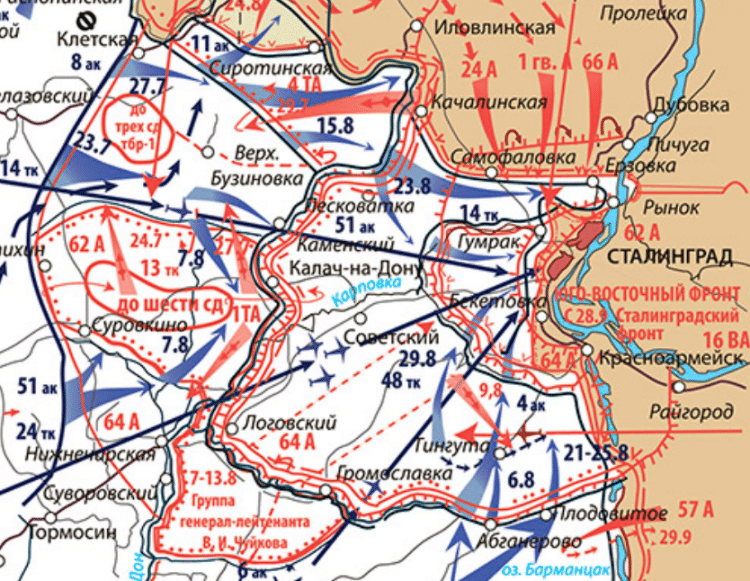 Немецкая воздушная атака была успешной, уничтожив большую часть советского командования и управления. Наступление немцев велось одновременно на четырех фронтах, на Северном фронте через Прибалтику. Ко 2 июля немецкое наступление прошло 280 миль и подходило к Ленинграду.На юге немцы продвинулись вплоть до окраин Киева на Украине. На протяжении всего своего наступления Советы сталкивались с неоднократными советскими контратаками.
Немецкая воздушная атака была успешной, уничтожив большую часть советского командования и управления. Наступление немцев велось одновременно на четырех фронтах, на Северном фронте через Прибалтику. Ко 2 июля немецкое наступление прошло 280 миль и подходило к Ленинграду.На юге немцы продвинулись вплоть до окраин Киева на Украине. На протяжении всего своего наступления Советы сталкивались с неоднократными советскими контратаками.

 Как только танковые силы прибыли на Кавказ, скажем, через шесть месяцев после вторжения, они, возможно, смогли захватить поля нетронутыми или, по крайней мере, отказать в них Советам.
Как только танковые силы прибыли на Кавказ, скажем, через шесть месяцев после вторжения, они, возможно, смогли захватить поля нетронутыми или, по крайней мере, отказать в них Советам.

 Германия участвовала в этой операции, но только после мучительных споров о том, позволяет ли ей ее история.
Германия участвовала в этой операции, но только после мучительных споров о том, позволяет ли ей ее история.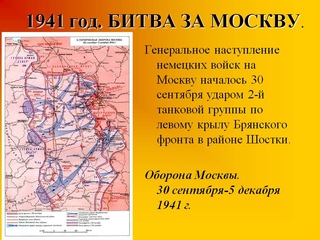 Путин недавно назвал «геноцидом» боевые действия в восточном Донбассе Украины, где Россия ведет опосредованную войну с 2014 года, в результате которой погибло более 13 000 человек.
Путин недавно назвал «геноцидом» боевые действия в восточном Донбассе Украины, где Россия ведет опосредованную войну с 2014 года, в результате которой погибло более 13 000 человек. В эссе, опубликованном в июне, он отрицал украинскую национальность. Российская прокуратура приняла решение запретить «Мемориал», российскую правозащитную группу, занимавшуюся документированием преступлений сталинизма. Что, если Путин, историк-любитель, собирается переписать историю?
В эссе, опубликованном в июне, он отрицал украинскую национальность. Российская прокуратура приняла решение запретить «Мемориал», российскую правозащитную группу, занимавшуюся документированием преступлений сталинизма. Что, если Путин, историк-любитель, собирается переписать историю? Экономический якорь Европы необходим для любых усилий Запада по сдерживанию Путина.Любая возможная мера — санкции против российских компаний, исключение России из системы электронных платежей SWIFT, отмена газопровода «Северный поток — 2» — обойдутся новому правительству канцлера Олафа Шольца с финансовой и политической точек зрения.
Экономический якорь Европы необходим для любых усилий Запада по сдерживанию Путина.Любая возможная мера — санкции против российских компаний, исключение России из системы электронных платежей SWIFT, отмена газопровода «Северный поток — 2» — обойдутся новому правительству канцлера Олафа Шольца с финансовой и политической точек зрения. Несмотря на несколько предупреждений о надвигающемся вторжении, нападение Германии на Советский Союз застало Сталина врасплох, а первоначальные советские оборонительные усилия были омрачены сценами хаоса и беспорядка.Когда Красная Армия была истощена и деморализована в результате предвоенных чисток ее офицерского состава, немецкие захватчики быстро продвинулись на восток по советской территории — за первые шесть месяцев конфликта советские солдаты потеряли 2 663 000 солдат убитыми и 3 350 000 взятыми в плен.
Несмотря на несколько предупреждений о надвигающемся вторжении, нападение Германии на Советский Союз застало Сталина врасплох, а первоначальные советские оборонительные усилия были омрачены сценами хаоса и беспорядка.Когда Красная Армия была истощена и деморализована в результате предвоенных чисток ее офицерского состава, немецкие захватчики быстро продвинулись на восток по советской территории — за первые шесть месяцев конфликта советские солдаты потеряли 2 663 000 солдат убитыми и 3 350 000 взятыми в плен.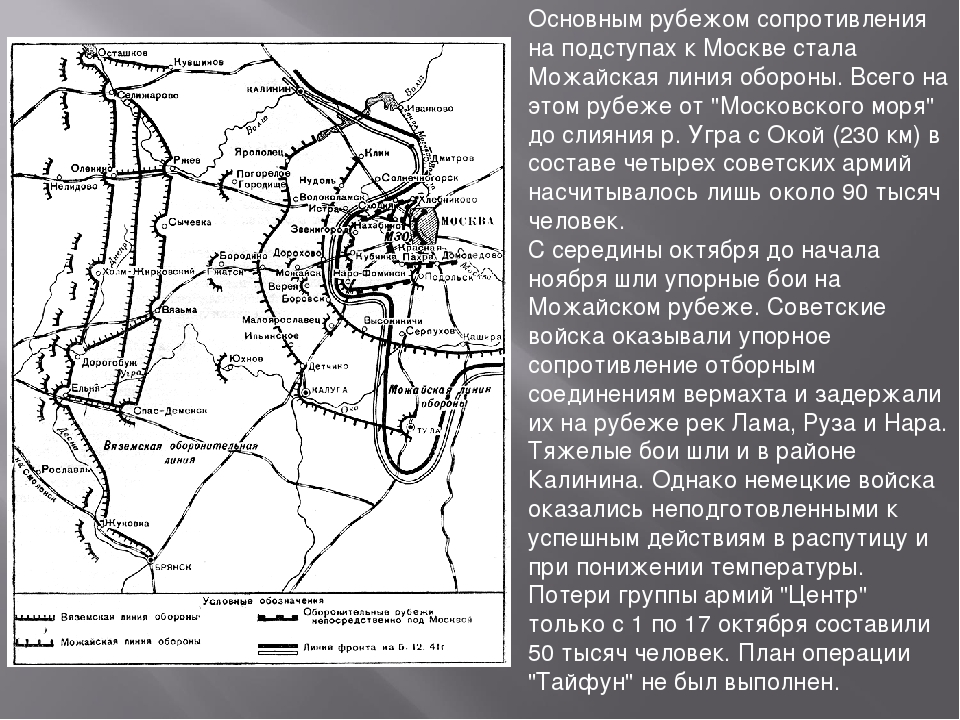 Это включало трехстороннее наступление на Ленинград, Москва и Киев — при этом Гитлер оставался уверенным, что советские защитники находятся на грани краха.
Это включало трехстороннее наступление на Ленинград, Москва и Киев — при этом Гитлер оставался уверенным, что советские защитники находятся на грани краха. После падения Орла немецкий генерал Альфред Йодль докладывал Гитлеру: «Мы окончательно и без всякого преувеличения выиграли войну!» и ожидания неминуемого распада СССР росли с каждой победой.
После падения Орла немецкий генерал Альфред Йодль докладывал Гитлеру: «Мы окончательно и без всякого преувеличения выиграли войну!» и ожидания неминуемого распада СССР росли с каждой победой.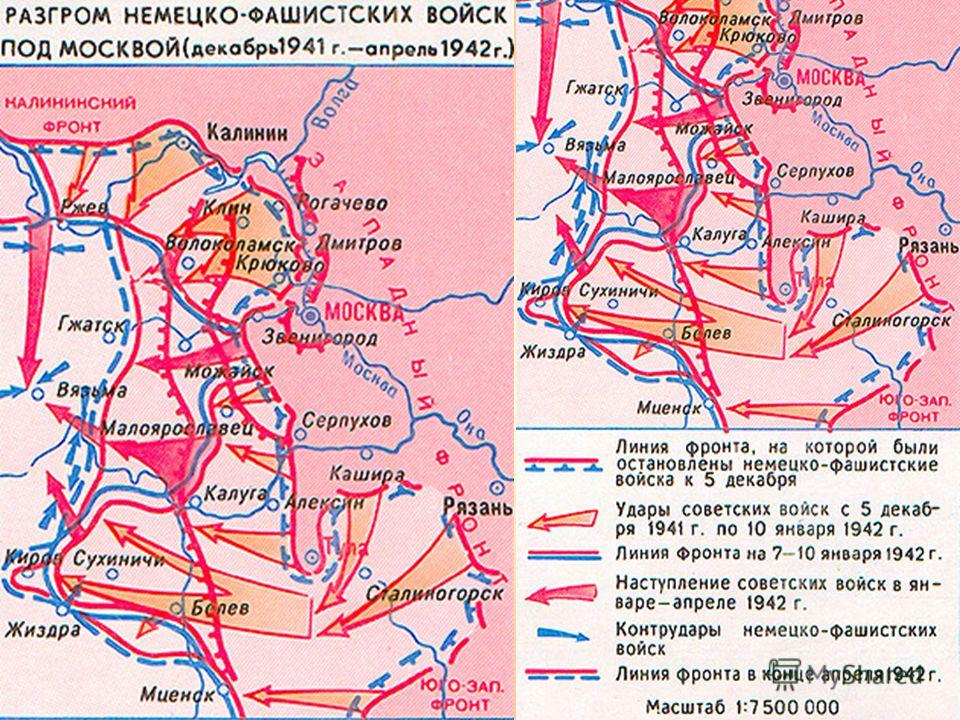
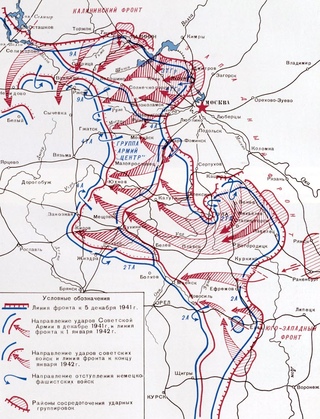 31 октября операция «Тайфун» была остановлена из-за дождя и таяния снега, которые сделали дороги непроходимыми, а немецкие линии снабжения оказались перегруженными. Все это было слишком знакомо советским защитникам, которые знали этот период как Распутица — буквально время без дорог.
31 октября операция «Тайфун» была остановлена из-за дождя и таяния снега, которые сделали дороги непроходимыми, а немецкие линии снабжения оказались перегруженными. Все это было слишком знакомо советским защитникам, которые знали этот период как Распутица — буквально время без дорог. Празднование, однако, было недолгим, и 15 ноября немецкое наступление снова возобновилось, подготовив сцену для ожесточенного столкновения, которое вскоре охватило город.
Празднование, однако, было недолгим, и 15 ноября немецкое наступление снова возобновилось, подготовив сцену для ожесточенного столкновения, которое вскоре охватило город. К концу ноября моторизованные силы Жукова сократились до трех танковых дивизий, трех мотострелковых дивизий, двенадцати кавалерийских дивизий и четырнадцати танковых бригад, хотя в этом районе все еще оставался значительный контингент противотанковых подразделений.
К концу ноября моторизованные силы Жукова сократились до трех танковых дивизий, трех мотострелковых дивизий, двенадцати кавалерийских дивизий и четырнадцати танковых бригад, хотя в этом районе все еще оставался значительный контингент противотанковых подразделений.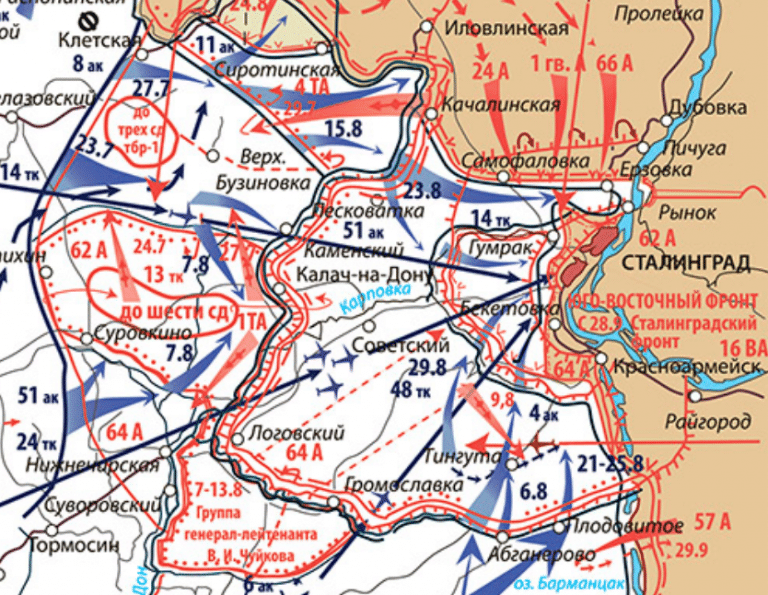 Войска Белова атаковали немцев у Каширы (в 50 милях к северо-востоку от Тулы) и почти не встречая сопротивления, сумели проникнуть на их линию фронта, что фактически положило конец наступлению на Москву с юга.
Войска Белова атаковали немцев у Каширы (в 50 милях к северо-востоку от Тулы) и почти не встречая сопротивления, сумели проникнуть на их линию фронта, что фактически положило конец наступлению на Москву с юга. Когда немецкое наступление остановилось, фельдмаршал Вальтер фон Браухич записал в своем дневнике, что у Советов «нет доступных новых сил», а немецкая разведка уверенно полагала, что у Красной Армии закончились резервы. Однако это был серьезный просчет, и в начале декабря Советы предприняли масштабную контратаку, которая застала их противников врасплох.
Когда немецкое наступление остановилось, фельдмаршал Вальтер фон Браухич записал в своем дневнике, что у Советов «нет доступных новых сил», а немецкая разведка уверенно полагала, что у Красной Армии закончились резервы. Однако это был серьезный просчет, и в начале декабря Советы предприняли масштабную контратаку, которая застала их противников врасплох.
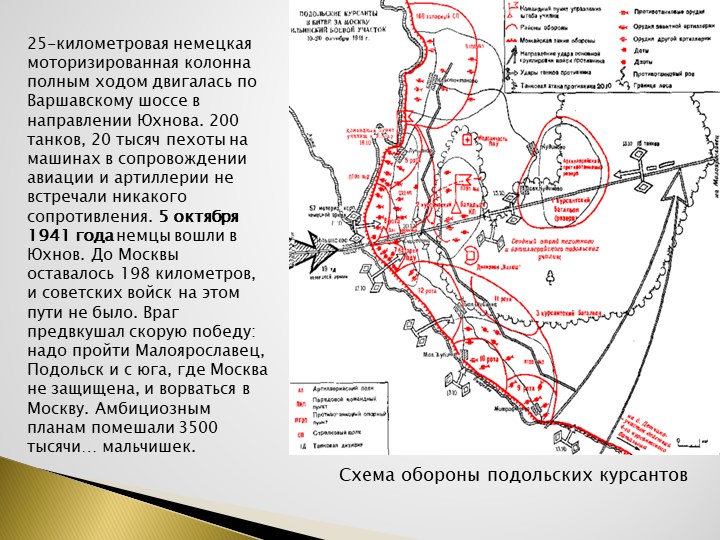

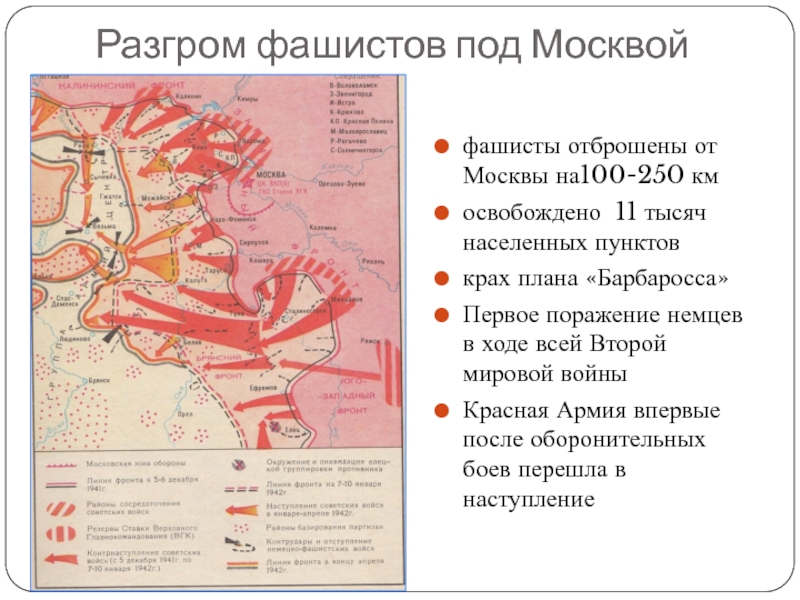
 REUTERS/Maxim Shemetov
REUTERS/Maxim Shemetov