Педагогические идеи в работах гуманистов и ранних социалистов- утопистов эпохи Западноевропейского Возрождения (XV-XVI в.в.)
Педагогические идеи в работах гуманистов и ранних социалистов- утопистов эпохи Западноевропейского Возрождения (XV-XVI в.в.)на главную1.Социально-педагогическая характеристика эпохи Возрождения.
XIV—XVI века, вошедшие в историю под названием эпохи Возрождения, характеризуются
появлением внутри феодального общества зачатков капиталистического способа производства,
развитием мануфактуры и торговли, возникновением прогрессивного тогда класса
— буржуазии, которая возродила культуру — античного мира, в частности греческую
культуру периода ее расцвета, способствовала бурному развитию науки и искусства.
В эпоху Возрождения в противовес религиозным, представлениям о земной жизни
как о подготовке к загробному миру провозглашалось право человека на радостную
жизнь на земле. Ввиду того, что в культуре XIV—XVI вв. центром внимания был
человек, она получила название гуманистической (от латинского слова humanus—человеческий).
Ввиду того, что в культуре XIV—XVI вв. центром внимания был
человек, она получила название гуманистической (от латинского слова humanus—человеческий).
Педагоги-гуманисты ставили задачей воспитать здоровых, жизнедеятельных людей, обладающих многосторонними интересами. Они уделяли большое внимание физическому и умственному воспитанию детей, которое содействовало бы развитию в них творческой активности, самодеятельности, вооружало их реальными светскими знаниями. Гуманисты считали, что обучение должно быть основано на наглядности и обеспечивать сознательное усвоение знаний учащимися.
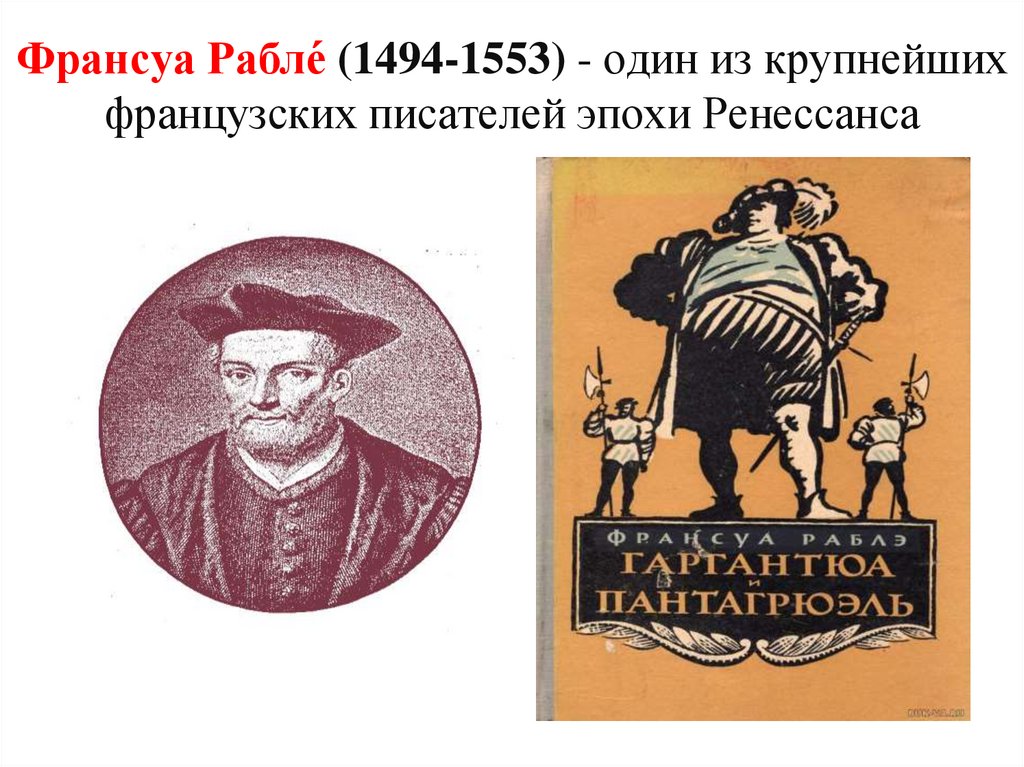 Они осуждала характерную для средневековья палочную
дисциплину, призывали бережно и внимательно подходить к ребенку, уважать его
как личность.
Они осуждала характерную для средневековья палочную
дисциплину, призывали бережно и внимательно подходить к ребенку, уважать его
как личность.Протестуя против феодальной системы воспитания, против догматизма и подавления умственных сил ребенка, педагоги-гуманисты выдвигали, безусловно, передовые для своего времени педагогические требования. Но гуманистическая педагогика, как и все культурное движение гуманизма эпохи Возрождения, не была связана с борьбой за интересы широких народных масс. Ее влияние получило распространение только в школах, где учились дети знатных и состоятельных родителей.
2. Эразм Роттердамский как идеолог реформационного движения, проповедник нового подхода к образовательно-воспитательной работе.
Самым влиятельным среди гуманистов был Эразм Роттердамский(1466
– 1536). В своём главном труде– «О первоначальном воспитании детей» — Э. Роттердамский
заявил о необходимости сочетании античной и христианской традиций при выработке
педагогических идеалов, выдвинул принцип активности воспитанника (врожденные
способности могут быть реализованы лишь через напряженный труд).
Преобразование мира, изменение государственного и церковного уклада, достижение счастья он связывал с воспитанием. Одним из первых заговорил о народном образовании, провозгласил отношение к труду критерием нравственности (работы «О том, как подобает быстро и достойно обучать детей добродетели и наукам», «О методе обучения»).
3. Воспитательные идеалы французского педагога-гуманиста Франсуа Рабле.
Ф.Рабле (1494 – 1553) едко и остроумно обличал пороки средневекового воспитания
и обучения и одновременно рисовал идеал гуманистического воспитания, в центре
которого – духовное и телесное развитие личности.
Сам Ф.Рабле получил образование в монастырских школах, окончил медицинский факультет, профессор анатомии.

Подверг уничтожающий критике цель и методы феодального школьного образования.
Пропагандировал активные методы обучения: экскурсии в природу, мастерские, наблюдение за звездами, сбор растений, эвристические беседы, развивающие игры, свободное обсуждение прочитанного, применение полученных знаний на практике (например, обсуждение за обедом «полезности и происхождения того, что подавалось на стол»), ежевечерние отчеты об изученном.
Обосновал необходимость «столь же искусно развивать телесные силы, как и силы духовные». Методы: гимнастические упражнения, игра в мяч, лапту, плавание, фехтование.
Показал, что хорошее физическое и эстетическое развитие, интересный досуг в сочетании с сильным умственным напряжением – необходимые условия гармоничного развития детей.
4. Мишель Монтень и его теория развивающее воспитательного
обучения.
Основной труд Мишеля Монтеня (1533 – 1592) «Опыты» рассматривает человека как
высшую ценность. Ребёнок от рождения обладает первозданной чистотой, которую
потом «разъедает» общество. Ребёнок превращается в личность не столько благодаря
полученным знаниям, сколько развив способность к критическим суждениям. Монтень
осуждал гипертрофированное словесное обучение. В своем главном труде М.Монтень
обосновал методы обучения и воспитания, направленные на активизацию и развитие
самодеятельности, творческого мышления, инициативы ребенка теоретически обосновал
в своем труде
5. Социально-педагогическая утопия Томаса Мора и Томаззо Кампанеллы.
Блестящим проявлением возрождения человеческого духа явились труды ранних социалистов-утопистов
Т. Мора (1478—1535) и Т. Кампанеллы (1568—1639).
Томас Мор в своей знаменитой «Золотой книжке», столь же полезной, как и забавной,
о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия (1516) первым из
европейских мыслителей высказал два важнейших и принципиальных положения: о
вреде частной собственности для процветания человеческого сообщества и об обязательном
для всех граждан участии в производительном труде.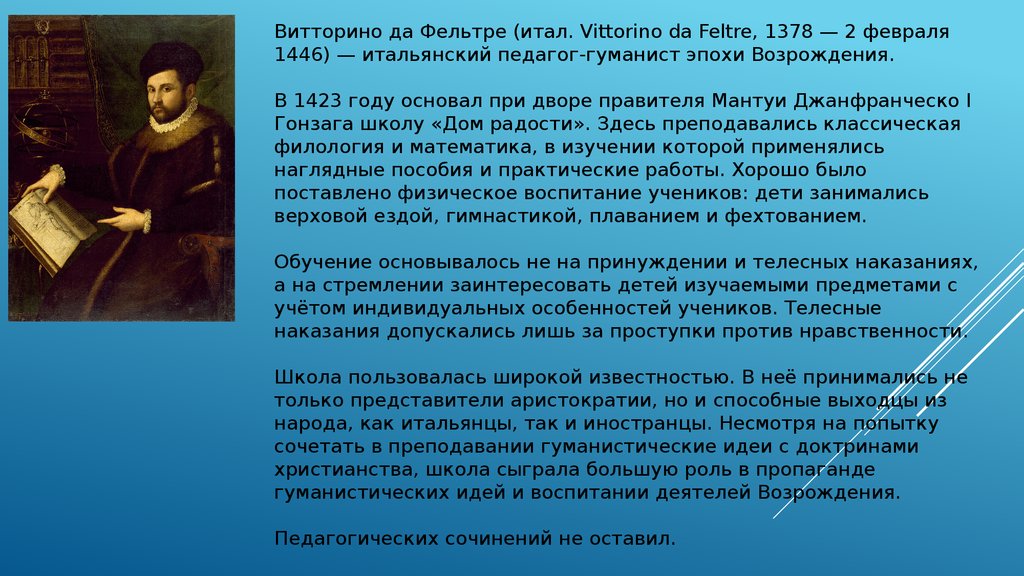
Если заинтересовала работа, а вернее ее продолжение, то телефон и e-mail на главной странице :):) Успехов в учебе!
Используются технологии uCoz
Франсуа Рабле.
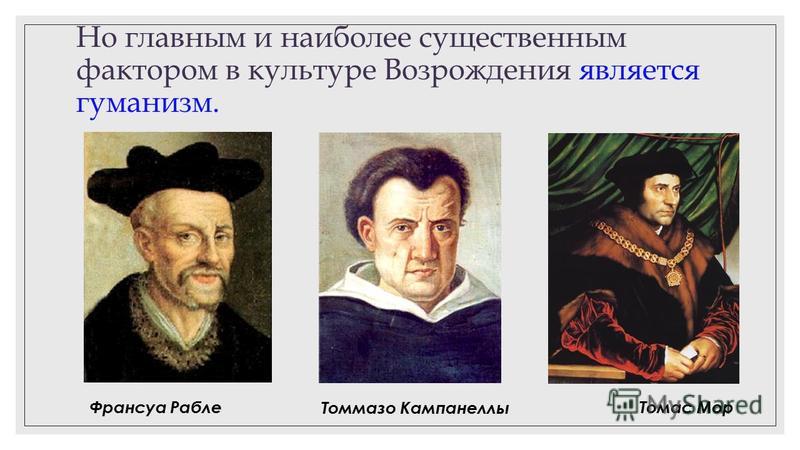
Франсуа Рабле (1494-1553) – один из наиболее ярких представителей французского гуманизма и педагогической мысли эпохи Возрождения. Получив типично средневековое, схоластическое образование в монастырских школах, он увлёкся, однако, естественными науками, окончил медицинский факультет.
Священник, врач и профессор анатомии, Рабле получил широкую известность как автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», представлявшего собой сатиру на феодальный строй средневековой Европы, на весь образ жизни того времени.
В своём романе ряд страниц Рабле посвятил
вопросам воспитания и образования.
Подвергнув острой сатирической критике
схоластическую учёность и учёных-схоластов,
Рабле выступил провозвестником нового,
гуманистического воспитания,
защитником реальных, практически
полезных знаний, активных и наглядных
методов обучения. Он выступил с требованием
гармонического развития детей, которое
может быть достигнуто путём вооружения
их научными знаниями и практическими
умениями в сочетании с нравственным,
физическим и эстетическим воспитанием.
Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» даёт достаточно ясное представление о воспитательных идеалах Рабле.
… Понократ ввёл Гаргантюа в общество местных учёных, соревнование с коими должно было поднять его дух и усилить в нём желание заниматься по-иному и отличиться.
… Затем он составил план занятий таким образом, что Гаргантюа не терял зря ни часу: всё его время уходило на приобретение полезных знаний.
… Вставал Гаргантюа около четырёх часов утра. В то время как его растирали, он должен был прослушать несколько страниц из священного писания, которое ему читали громко и внятно, с особым выражением. Содержание читаемых отрывков часто оказывало на Гаргантюа такое действие, что он проникался особым благоговением и любовью к богу, славил его и молился ему, ибо священное писание открывало перед ним его величие и мудрость неизречённую.
… Гаргантюа одевали, причёсывали,
завивали, наряжали, опрыскивали духами
и в течение всего этого времени повторяли
с ним заданные накануне уроки.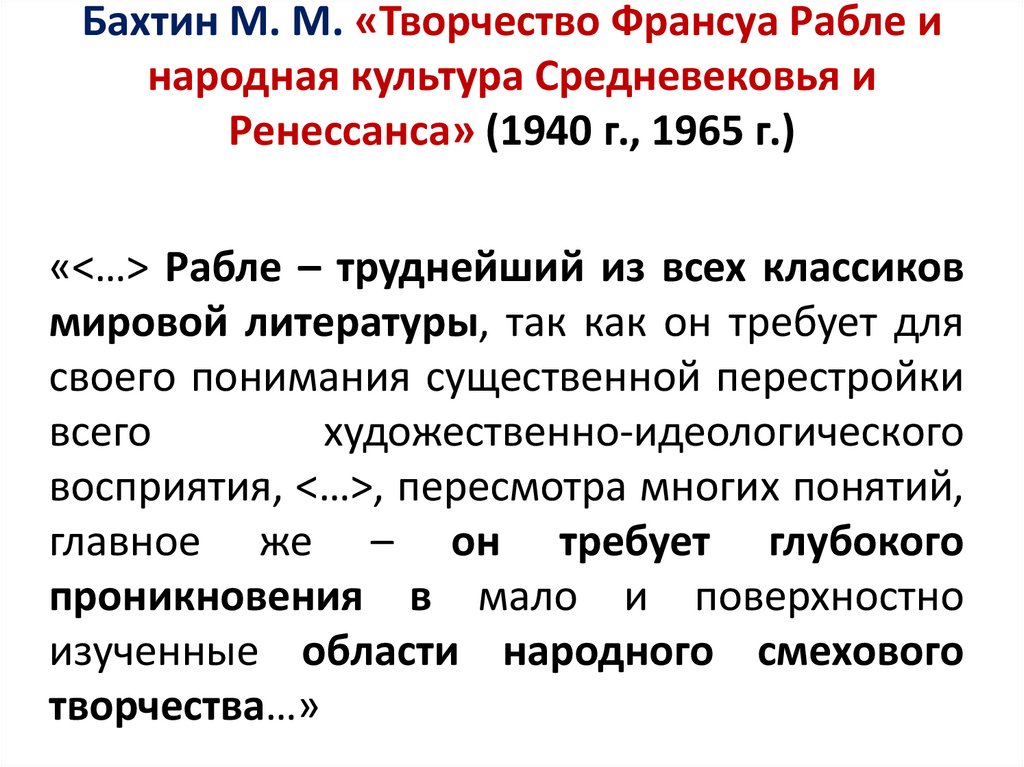 Он отвечал
их наизусть и тут же старался применить
к каким-либо случаям из жизни; продолжалось
это часа два-три и обыкновенно кончалось
к тому времени, когда он был совсем одет.
Он отвечал
их наизусть и тут же старался применить
к каким-либо случаям из жизни; продолжалось
это часа два-три и обыкновенно кончалось
к тому времени, когда он был совсем одет.
… После этого выходили на воздух и, по дороге обсуждая содержание прочитанного, отправлялись ради гимнастических упражнений в Брак или же шли в луга и там играли в мяч, в лапту, в пиль тригон, столь же искусно развивая телесные силы, как только что развивали силы духовные.
… В ожидании обеда они внятно и с выражением читали наизусть изречения, запомнившиеся им из сегодняшнего урока.
… В начале обеда читалась вслух какая-нибудь занимательная повесть о славных делах старины, — читалась до тех пор, пока Гаргантюа не принимался за вино.
… В то время как их желудки усваивали и переваривали пищу, они чертили множество забавных геометрических фигур, а заодно изучали астрономические законы.
… Затем часа на три, если не больше,
садились за главные свои занятия, то
есть повторял утренний урок чтения,
читал дальше и учился красиво и правильно
писать буквы античные и новые римские.
… В иные дни он упражнялся с алебардой: размахивал ею с такой силой и так стремительно, круговым движением, её опускал, что все его стали почитать за настоящего рыцаря турнирного.
… Кроме того, он владел пикой, эспадроном для обеих рук, длинной шпагой, испанской шпагой, кинжалом широким и кинжалом узким, бился в кольчуге и без неё, со щитом обыкновенным, со щитом круглым.
… Пока готовится ужин, повторяли некоторые места из прочитанного, а затем садились за стол.
… За ужином возобновлялся обеденный урок, и длился он, пока не надоело; остальное время посвящалось учёной беседе, приятной и полезной.
… Тёмной ночью, перед сном, выходили на самое открытое место во всём доме, смотрели на небо, наблюдали кометы, если таковые были, или положение, расположение, противостояние и совпадение светил.
… Затем Гаргантюа в кратких словах
рассказывал по способу пифагорейцев
наставнику всё, что он прочитал, увидел,
узнал, сделал и услышал за нынешний
день.
… В дождливую погоду ходили смотреть, как плавят металлы, как отливают артиллерийские орудия, ходили к гранильщикам, ювелирам, шлифовальщикам драгоценных камней, к алхимикам и монетчикам, в ковровые, ткацкие и шелкопрядильные мастерские, к часовщикам, получали возможность изучить ремёсла и ознакомиться со всякого рода изобретениями в этой области.
… Ходили на публичные лекции, на торжественные акты, на состязания в искусстве риторики, ходили слушать речи, ходили слушать знаменитых адвокатов и евангелических проповедников.
/Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. / Под ред. А.И. Пискунова — М.: 1971. — С. 72–78./
| |||||||||||||||||||||||
Ключевое слово SearchAdvanced Search Поисковые книги для: Советы по поиску
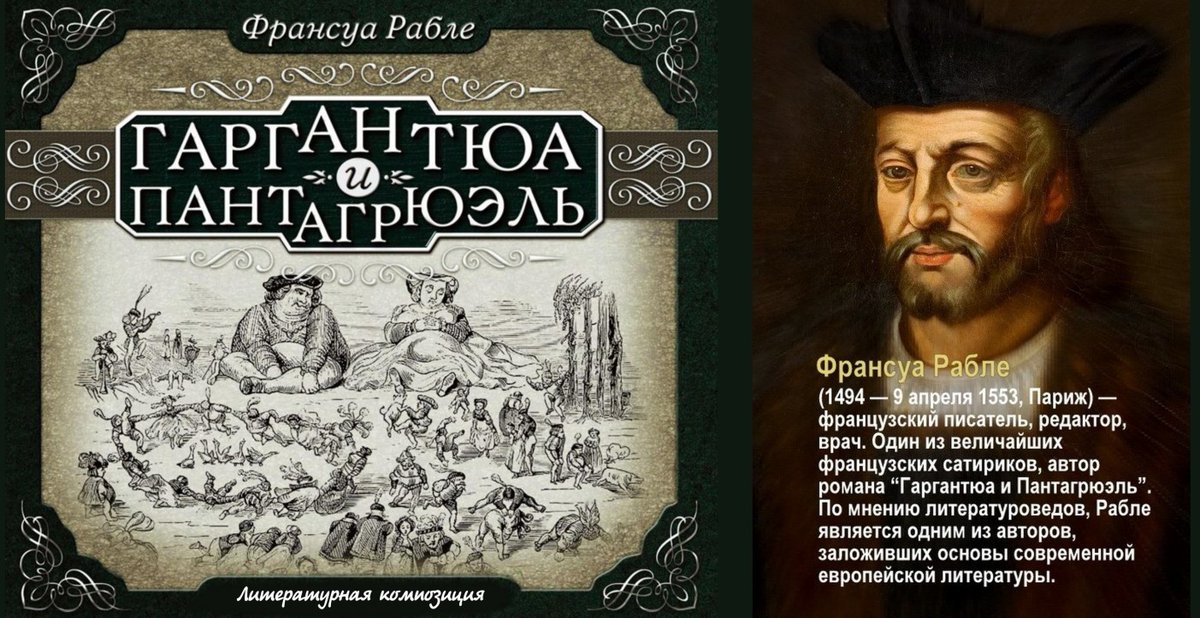 . .. 700677777777777767776767676 гг. 2005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911991988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940 to 2005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911991988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940 Show all books public access books [?] | |||||||||||||||||||||||
Последний смех | Фрэнсис А. Йейтс
Франсуа Рабле; рисунок Дэвида ЛевинаКупить Распечатать
Из всех первоклассных писателей Рабле, пожалуй, наименее читается. Причины этого очевидны. Во-первых, язык, поток слов, хлынувший, чтобы передать речь, движения, идеи персонажей его удивительного романа, — язык, непереводимый и часто непонятный даже знатокам французского Возрождения. Погруженный в эту болтливость, читатель сперва создает впечатление, будто его знакомят с мастером бурлеска, с галереей чрезвычайно комичных фигур, чьи приключения прежде всего предназначены для того, чтобы вызвать смех. «Приятный» и «шутливый» — прилагательные, обычно применявшиеся к приключениям великанов Гаргантюа и Пантагрюэля и их друзей, как рассказывает Франсуа Рабле; а шутливость и шутливость подразумевали во Франции шестнадцатого века сильную примесь грубости фарсовой традиции.
Погруженный в эту болтливость, читатель сперва создает впечатление, будто его знакомят с мастером бурлеска, с галереей чрезвычайно комичных фигур, чьи приключения прежде всего предназначены для того, чтобы вызвать смех. «Приятный» и «шутливый» — прилагательные, обычно применявшиеся к приключениям великанов Гаргантюа и Пантагрюэля и их друзей, как рассказывает Франсуа Рабле; а шутливость и шутливость подразумевали во Франции шестнадцатого века сильную примесь грубости фарсовой традиции.
Тем не менее, этот шутник оказывается непревзойденным ученым-гуманистом, имея в своем распоряжении широкий спектр классического чтения, греческого и латинского языков. Он также опытный теолог, философ, хорошо разбирающийся в неоплатонизме эпохи Возрождения, и его научные интересы включают медицину, архитектуру, механику — и это лишь некоторые из аспектов раблезианской энциклопедии. Этот Смеющийся Философ, этот Демокрит (как его называли), ставит перед исследователем эпохи Возрождения одну из самых трудных задач. Он подбрасывает нам свою комическую сагу как кость, мозг из которой мы должны попытаться извлечь. Он говорит нам, что его комические фигуры подобны тем ящикам, сделанным в виде пьяного Силена, в которых Платон говорит, что спрятаны драгоценные вещи, уподобляя их грубой и смешной наружности Сократа, скрывавшей его божественную мудрость. Однако одновременно с тем, как нам говорят искать спрятанный «мозг» или открывать ящики Силена, нам также говорят, что за жизнями и приключениями раблезианского отряда комиков нет никакого скрытого смысла, никакой аллегории. персонажи.
Он подбрасывает нам свою комическую сагу как кость, мозг из которой мы должны попытаться извлечь. Он говорит нам, что его комические фигуры подобны тем ящикам, сделанным в виде пьяного Силена, в которых Платон говорит, что спрятаны драгоценные вещи, уподобляя их грубой и смешной наружности Сократа, скрывавшей его божественную мудрость. Однако одновременно с тем, как нам говорят искать спрятанный «мозг» или открывать ящики Силена, нам также говорят, что за жизнями и приключениями раблезианского отряда комиков нет никакого скрытого смысла, никакой аллегории. персонажи.
Сбитый с толку читатель склонен отказаться от попыток понять писателя, который явно слишком глубок, чтобы его можно было принять за простого фарсера, но который так мало помогает в расшифровке. Следовательно, Рабле остается непрочитанным, хотя прилагательное «раблезианец» имеет широкое распространение, обычно используется для обозначения остроумия или юмора и обычно подразумевает грубый юмор. Возможно, сам Рабле был бы вполне доволен тем, что известны только внешние проявления его фигур Силена и что его тайна (если она у него была) до сих пор сокрыта.
Рабле родился около 1490 года. О его ранних годах известно очень мало, за исключением того, что его родным городом был Шинон, расположенный посреди винодельческих районов долины Луары. Его отцу принадлежал виноградник, и он, должно быть, часто слышал « propos des buveurs », когда они дегустировали волнующие винтажи Турени. Примерно к 1520 году Рабле вступил в орден францисканцев и стал сокамерником монастыря Фонтенейль-Конте. Все, что мы знаем о его жизни в монастыре, это то, что он был увлеченным изучением книг на обоих языках, то есть на греческом и на латыни.
В то время изучение греческого языка было еще захватывающей новинкой. Мы знаем о раннем интересе Рабле к греческому языку из писем великого ученого Гийома Бюде. Начальство монастыря, встревоженное тревожным эффектом нового знания, конфисковало книги Рабле. Он ушел из своего монастыря в другой, а потом ушел и из этого. В 1530 году он изучал медицину в Монпелье, избавившись от монашеской жизни. В 1532 г. он в Лионе занимался литературной работой, а в 1533 и 1535 гг.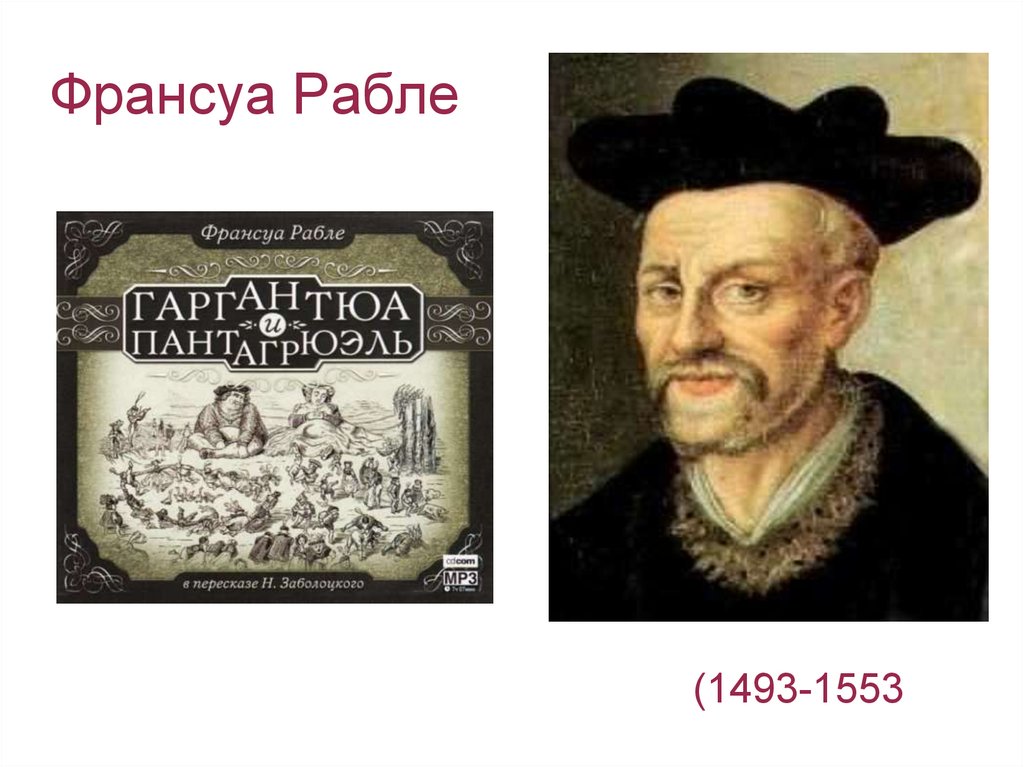 появились первые издания 9Вышли 0114 Гаргантюа и Пантагрюэль , за которыми после долгого перерыва последовали третий и четвертый том романа.
появились первые издания 9Вышли 0114 Гаргантюа и Пантагрюэль , за которыми после долгого перерыва последовали третий и четвертый том романа.
Ранние годы жизни Рабле, годы становления до публикации его знаменитой работы, стали важным поворотным моментом в истории западной цивилизации. Инструменты латинской и греческой филологической науки, отшлифованные итальянскими гуманистами в их восстановлении и переиздании классических текстов, теперь применялись к религиозным текстам, к новым изданиям Отцов, к Священному Писанию, кульминацией которых стал греческий Новый Завет Эразма. 1516 г., ознаменовавшего новый возврат к Евангелиям и посланиям Павла, открытый новой гуманистической наукой. Эти грандиозные нововведения в богословских исследованиях, революционизировавшие средневековые традиции, пришлись на время, когда многие ищущие души были глубоко недовольны мертвенностью и испорченностью Церкви и подумывали о реформе. Сочинения Эразма, написанные самым ярким и легко читаемым латинским стилем, быстро разошлись по Европе. В частности, Encomium Moriae или Похвала глупости , написанная, когда Эразм жил в доме Томаса Мора в Лондоне и опубликованная в 1512 году, произвела огромное впечатление. Спрос на эту книжечку был ненасытный; это и стимулировало, и соответствовало ферменту времени.
В частности, Encomium Moriae или Похвала глупости , написанная, когда Эразм жил в доме Томаса Мора в Лондоне и опубликованная в 1512 году, произвела огромное впечатление. Спрос на эту книжечку был ненасытный; это и стимулировало, и соответствовало ферменту времени.
Реклама
«Похвала глупости» высмеивает старые знания, старый средневековый мир, монахов и монахов, паломничества и процессии, культ святых, в стиле острого юмора. Эразм был великим юмористом, тонко ироничным и неуловимым. В Похвала Глупости , Сама Глупость оживает как персонаж. Вероятно, на «Безумие» Эразма оказало мистическое влияние. Разве св. Павел не говорил, что мудрость Евангелия есть безумие в глазах людей? Возможно, намекая на такую евангельскую невинность, «Безумие Эразма» может также напомнить комическую фигуру фарса, Дурака с безделушкой. Слова «евангельская реформа» не вызывают у нас мысли о каком-то безмерно комическом, но безмерно глубоком олицетворении. Мы скорее думаем о гимнах и молитвенных собраниях, событиях, которые обычно не сопровождаются громким смехом.
Рабле изучал греческий язык в своих монастырях, беспокойно покидая свои монастыри, в годы эразмийского движения и раннего лютеранского движения Реформации. Подобно Эразму и в отличие от Лютера, Рабле никогда не покидал церкви; в своей более поздней жизни он вращался во влиятельных французских католических кругах. Но эти обширные вопросы религиозных волнений и необходимости реформ давили на жизнь и умы всех мыслящих людей того времени. Многие ученые пытались найти ответы или мысли Рабле о них в его комическом романе с его огромными смехотворными фигурами.
Абель Лефранк, исследователь Рабле, работавший в 20-е годы нынешнего века, считал Рабле атеистом и скрывал это опасное мнение в своем романе. Он разработал эту точку зрения довольно подробно, и в то время одной из достопримечательностей Рабле было то, что его считали настолько смелым, что он так рано не поверил в Бога. Со времен Лефранка были предприняты большие научные усилия по истории религии, включая историю религии во Франции начала шестнадцатого века. Люсьен Февр изучал проблему неверия в шестнадцатом веке и решил, что в том веке не было атеистов. В своей книге La Religion de Rabelais (1942), он уничтожил доказательства Лефранка об атеизме Рабле. Аргумент Февра состоит в том, что Рабле происходит от Эразма; что он не более смел, чем Эразм, в своем подходе к религиозным спорам; что его смелость того же рода, что и у Эразма, хотя и представлена в форме юмористического романа; что его религия была религией Эразма, евангелическим христианством, не терпящим схоластики и монашества. Позднее эти взгляды были более подробно развиты другими учеными, в частности М. А. Скричем, который в своей L’Evangelisme de Rabelais (1959) доказывает близкое знание Рабле библейских текстов и комментариев, особенно текстов Эразма, и утверждает, что на религию Рабле повлиял Лютер, но прежде всего эразмовский тип евангелизма.
Люсьен Февр изучал проблему неверия в шестнадцатом веке и решил, что в том веке не было атеистов. В своей книге La Religion de Rabelais (1942), он уничтожил доказательства Лефранка об атеизме Рабле. Аргумент Февра состоит в том, что Рабле происходит от Эразма; что он не более смел, чем Эразм, в своем подходе к религиозным спорам; что его смелость того же рода, что и у Эразма, хотя и представлена в форме юмористического романа; что его религия была религией Эразма, евангелическим христианством, не терпящим схоластики и монашества. Позднее эти взгляды были более подробно развиты другими учеными, в частности М. А. Скричем, который в своей L’Evangelisme de Rabelais (1959) доказывает близкое знание Рабле библейских текстов и комментариев, особенно текстов Эразма, и утверждает, что на религию Рабле повлиял Лютер, но прежде всего эразмовский тип евангелизма.
Образ прилежного и аскетического ученого, который представляет миру и истории Эразм, может показаться совершенно противоположным популярному раблезианскому образу, однако сходство между эразмовским отношением ко времени и отношением Рабле глубоко.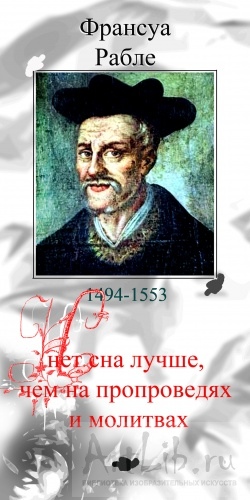 Эразм начал остроумные и популярные рассуждения о текущих религиозных проблемах, которые Рабле продолжил в форме, по-видимому, еще более популярной, но в действительности такой же ученой. Эразм и Рабле восхваляют новое знание и презирают средневековую отсталость. Эразм и Рабле, оба по-своему, опьянены энтузиазмом по поводу новых греческих исследований, которые, хотя и захватывали все аспекты человеческой мысли и деятельности, были революционным волнением для религии. Фигуры Силена могли содержать молодое вино Евангелия, провозглашать которое было опасно.
Эразм начал остроумные и популярные рассуждения о текущих религиозных проблемах, которые Рабле продолжил в форме, по-видимому, еще более популярной, но в действительности такой же ученой. Эразм и Рабле восхваляют новое знание и презирают средневековую отсталость. Эразм и Рабле, оба по-своему, опьянены энтузиазмом по поводу новых греческих исследований, которые, хотя и захватывали все аспекты человеческой мысли и деятельности, были революционным волнением для религии. Фигуры Силена могли содержать молодое вино Евангелия, провозглашать которое было опасно.
Одним из немногих документальных свидетельств, которые мы имеем от самого Рабле о его сокровенных мыслях и симпатиях, является письмо, которое он написал Эразму в 1532 году. Рабле слышал, что Эразм подумывает опубликовать латинское издание « еврейских древностей». Иосифа Флавия и искал греческую рукопись текста. Рабле получил один для него от Жоржа д’Арманьяка, епископа Родезского, и написал, чтобы объявить о его прибытии. В этом письме Рабле обращается к великому ученому языком почти страстным, называя его «моим духовным отцом и матерью» и заявляя, что всем, что у него есть, всем, чем он является, он обязан только Эразму и своим сочинениям, этому любимому отцу, защитник букв и защитник правды. Этот долг, безусловно, включает в себя евангелизацию Эразма. И Эразм, как и Рабле, навлек на себя упрек в грубости некоторых своих остроумий и в непочтительности в обращении со священными предметами. Однако, будучи таким явным христианином и не склонным к мистификациям относительно «сущности», « substantifique moelle », в его значении Эразм вряд ли станет любимцем атеистов.
В этом письме Рабле обращается к великому ученому языком почти страстным, называя его «моим духовным отцом и матерью» и заявляя, что всем, что у него есть, всем, чем он является, он обязан только Эразму и своим сочинениям, этому любимому отцу, защитник букв и защитник правды. Этот долг, безусловно, включает в себя евангелизацию Эразма. И Эразм, как и Рабле, навлек на себя упрек в грубости некоторых своих остроумий и в непочтительности в обращении со священными предметами. Однако, будучи таким явным христианином и не склонным к мистификациям относительно «сущности», « substantifique moelle », в его значении Эразм вряд ли станет любимцем атеистов.
Реклама
Тем не менее в раблезианском корпусе есть случаи, когда мистификация откладывается в сторону, когда прекращаются шутки и смех, а евангельское отношение выражается с непритворной серьезностью. Один из таких случаев встречается в знаменитом описании Телемского аббатства. Это аббатство было построено и предоставлено любезным великаном Гаргантюа для того веселого человека, брата Иоанна, который хотел основать новый вид порядка. Монахов и монахинь запрещалось посещать аббатство, и впускать туда могли только хорошо одетых и красивых людей. Хотя представители обоих полов жили в нем вместе, беспорядка не было, и девиз аббатства: « Fay Ce Que Voouldras », или «Делайте, что хотите», действительно означало, что заключенные были на полной свободе и могли приходить и уходить по своему желанию, но, будучи цивилизованными и благовоспитанными людьми, они обладали естественным инстинктом, который склонял их к добродетели и спас их от порока.
Монахов и монахинь запрещалось посещать аббатство, и впускать туда могли только хорошо одетых и красивых людей. Хотя представители обоих полов жили в нем вместе, беспорядка не было, и девиз аббатства: « Fay Ce Que Voouldras », или «Делайте, что хотите», действительно означало, что заключенные были на полной свободе и могли приходить и уходить по своему желанию, но, будучи цивилизованными и благовоспитанными людьми, они обладали естественным инстинктом, который склонял их к добродетели и спас их от порока.
Этот инстинкт они называли своей честью. Обитатели аббатства должны были быть роскошно и богато одеты; у каждого была великолепно обставленная квартира с пристроенной к ней часовней для частных богослужений. Их время было оживлено роскошными развлечениями, турнирами, балами и другими развлечениями; а в аббатстве была важная библиотека, богатая множеством томов на греческом, латинском, иврите, французском, итальянском и испанском языках, сгруппированных по разделам. Его придворные сокамерники должны были быть сведущи в знаниях эпохи Возрождения, а также во всех тонкостях нового изобилия. Аббатство располагалось на берегу Луары; его архитектура тщательно описана, а его план демонстрирует знание архитектурной теории эпохи Возрождения. Очевидно, это должен был быть «замок Луары», идеальный продукт расцвета культуры французского Возрождения. А надпись на главных воротах аббатства приглашала войти мудрых, веселых, вежливых и особенно ученых, которые предлагают «новаторские толкования Священного Писания». Из этого аббатства, как из крепости и убежища, они должны атаковать лжеучения и уничтожать врагов Бога и Его Святого Слова.
Аббатство располагалось на берегу Луары; его архитектура тщательно описана, а его план демонстрирует знание архитектурной теории эпохи Возрождения. Очевидно, это должен был быть «замок Луары», идеальный продукт расцвета культуры французского Возрождения. А надпись на главных воротах аббатства приглашала войти мудрых, веселых, вежливых и особенно ученых, которые предлагают «новаторские толкования Священного Писания». Из этого аббатства, как из крепости и убежища, они должны атаковать лжеучения и уничтожать врагов Бога и Его Святого Слова.
Святое Слово Божье
Никогда не будет попрано
Здесь, в этом святом месте.
Телемское аббатство — это придворная утопия французского Возрождения, сильно окрашенная эразмийским евангелизмом, предвосхищающая как блеск французской науки шестнадцатого века, так и блеск двора французского Возрождения.
Однако такие формулировки могут достичь или выразить лишь часть богатого и глубокого гения Рабле.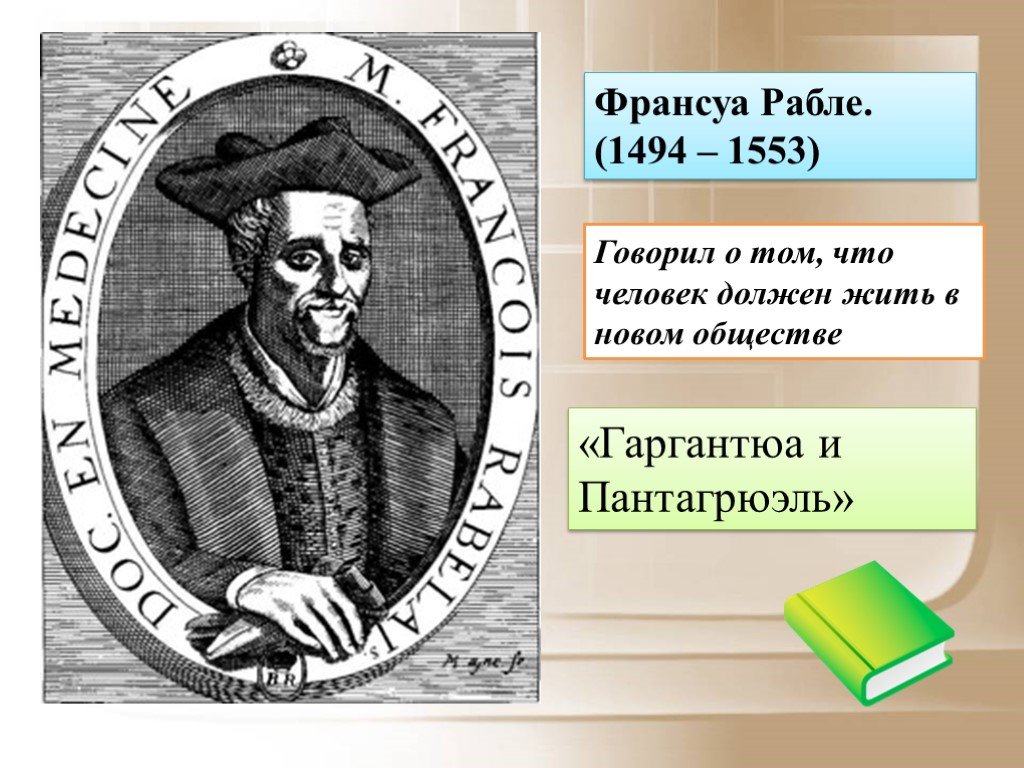 Его эразмизм достигает новых измерений опыта, иногда спрятанных, на гуманистический манер, в мифах. Во время удивительно реалистичной бури (частично сымитированной из описания бури Эразмом в одном из его разговоров), которая настигает Пантагрюэля и его разношерстную команду пассажиров в Четвертой книге, великан молится как благочестивый евангелист: «О Господи мой Боже, спаси нас, ибо мы погибаем. Но не так, как мы хотели бы, но да будет воля Твоя святая». И в замечательном повествовании о смерти Пана (основанном на Плутархе), которое следует позже в той же книге, Пантагрюэль делает следующее впечатляющее заявление:
Его эразмизм достигает новых измерений опыта, иногда спрятанных, на гуманистический манер, в мифах. Во время удивительно реалистичной бури (частично сымитированной из описания бури Эразмом в одном из его разговоров), которая настигает Пантагрюэля и его разношерстную команду пассажиров в Четвертой книге, великан молится как благочестивый евангелист: «О Господи мой Боже, спаси нас, ибо мы погибаем. Но не так, как мы хотели бы, но да будет воля Твоя святая». И в замечательном повествовании о смерти Пана (основанном на Плутархе), которое следует позже в той же книге, Пантагрюэль делает следующее впечатляющее заявление:
Со своей стороны, я считаю Пана могущественным спасителем верующих, который был позорно предан смерти в Иудее по зависти и беззаконию врачей, понтификов, священников и монахов Моисеева закона. Я действительно думаю, что это толкование никоим образом не шокирует, поскольку, в конце концов, Бога вполне можно назвать на греческом языке Пан , верховным пастырем.
Эта интерпретация Пана как Христа как «Всего», так и как «всего» природы может содержать суть религиозной позиции Рабле, которая, возможно, не полностью охвачена эразмийским евангелизмом, хотя этот компонент является фундаментальным. Настаивание на Боге как на «всем» в эпизоде с Паном может подразумевать знание религии герметических трактатов, в которых это определение обычно используется. Эти трактаты были опубликованы во Франции Лефевром д’Этаплем в 1505 году и оказали большое влияние на французскую религиозную мысль в первые годы века. Я бы предположил, что герметические влияния должны быть добавлены к эразмовскому влиянию как формирующие Рабле, хотя этот аспект его мысли еще не исследован с той тщательностью, которая присуща эразмийской стороне. *
В третьей книге романа Пантагрюэль говорит, что душа на небесах созерцает бесконечную интеллектуальную сферу, центр которой находится в каждой части вселенной, а ее окружность нигде, добавляя: « c’est Dieu selon la доктрина Гермеса Трисмегиста ». Это определение Бога действительно взято из герметического трактата тринадцатого века, и Рабле мог встретиться с ним (как указывает А.0115, 1963), как цитирует Бонавентура, произведения которого он изучал в своем францисканском монастыре. То, что он выбирает его как определение Бога, как это сделали Николай Кузанский и Джордано Бруно, интересно и предполагает, что «Гермес Трисмегист» был бы для него важным авторитетом.
Это определение Бога действительно взято из герметического трактата тринадцатого века, и Рабле мог встретиться с ним (как указывает А.0115, 1963), как цитирует Бонавентура, произведения которого он изучал в своем францисканском монастыре. То, что он выбирает его как определение Бога, как это сделали Николай Кузанский и Джордано Бруно, интересно и предполагает, что «Гермес Трисмегист» был бы для него важным авторитетом.
Силы Ренессанса — религиозные, философские, научные, художественные — сконцентрированы в мощной форме в романе Рабле, готовые взорваться во Франции шестнадцатого века. И все это богатство выливается в популярную форму, в те популярные формы, которые Рабле выбрал в качестве своего проводника. Он взял своих великанов и их имена из популярного приключенческого рассказа, который хорошо продавался на ярмарках. Жан Платтар описал (в своих Vie de François Rabelais , 1928) карнавалы, фестивали, фарсы, которые были частью студенческой жизни в Монпелье и в которых Рабле должен был участвовать, когда он был студентом-медиком в университете. Сюжет фарса, разыгранного им в Монпелье, описан в Книге Третьей. Его время в Монпелье, когда он наслаждался своей новой свободой и был увлечен своими новыми исследованиями, было, вероятно, временем, когда в нем поднимался творческий сок, возможно, временем, когда ему пришло в голову использование популярных форм в его работах.
Сюжет фарса, разыгранного им в Монпелье, описан в Книге Третьей. Его время в Монпелье, когда он наслаждался своей новой свободой и был увлечен своими новыми исследованиями, было, вероятно, временем, когда в нем поднимался творческий сок, возможно, временем, когда ему пришло в голову использование популярных форм в его работах.
Но фарсовые темы Рабле не пользуются популярностью по содержанию; они требуют знаний и изощренности для их оценки. Возьмем, к примеру, тему Третьей книги, в которой Панург консультируется с разными типами прорицателей по вопросу о том, следует ли ему жениться. Это сама по себе фарсовая тема, особенно страх Панурга быть рогоносцем, из-за которого он не решается жениться. Тем не менее эта тема также имеет серьезную связь со взглядами Рабле на брак (которые М. А. Скрич обсуждал в своем исследовании 9).0114 Раблезианский брак , 1958). А остроумие затянувшегося фарса панурговских колебаний среди прорицателей требует для своего понимания знания неоплатонических форм гадания и знания ренессансных текстов на эти темы.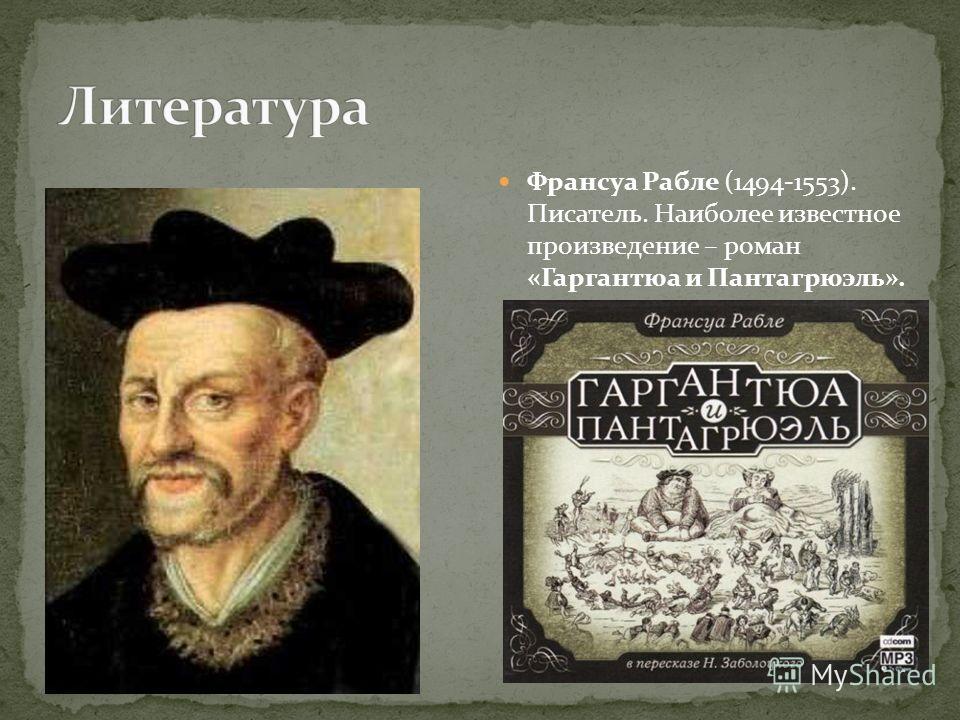 Юмористическое появление «герра Триппы» в качестве одного из экспертов, с которыми советовался Панург, потеряло бы большую часть своей силы, если бы читатель не уловил аллюзии на Генриха Корнелия Агриппу, немецкого автора «Оккультной философии».0115 .
Юмористическое появление «герра Триппы» в качестве одного из экспертов, с которыми советовался Панург, потеряло бы большую часть своей силы, если бы читатель не уловил аллюзии на Генриха Корнелия Агриппу, немецкого автора «Оккультной философии».0115 .
Монпелье, безусловно, стал поворотным пунктом в жизни Рабле. Возможно, его медицинские интересы отражались в его концентрации на теле как на живом организме. В Третьей книге есть длинный отрывок о человеческом теле как микрокосме вселенной, созданном Творцом как носитель души. С трепетом и благоговением описывается его чудесная организация: как пища проходит в пасть чрева, где переваривается и лучшее из нее превращается в кровь, оставляя после себя экскременты, которые выбрасываются по особым каналам. Члены тела созерцают с необычайной радостью и радостью это превращение в кровь, радость большую, чем радость алхимиков при превращении в золото. Ясно, что с научным энтузиазмом Рабле здесь и в других местах исследует телесные функции, и как врача эпохи Возрождения его научили бы видеть тело как Природу, а потому и благо.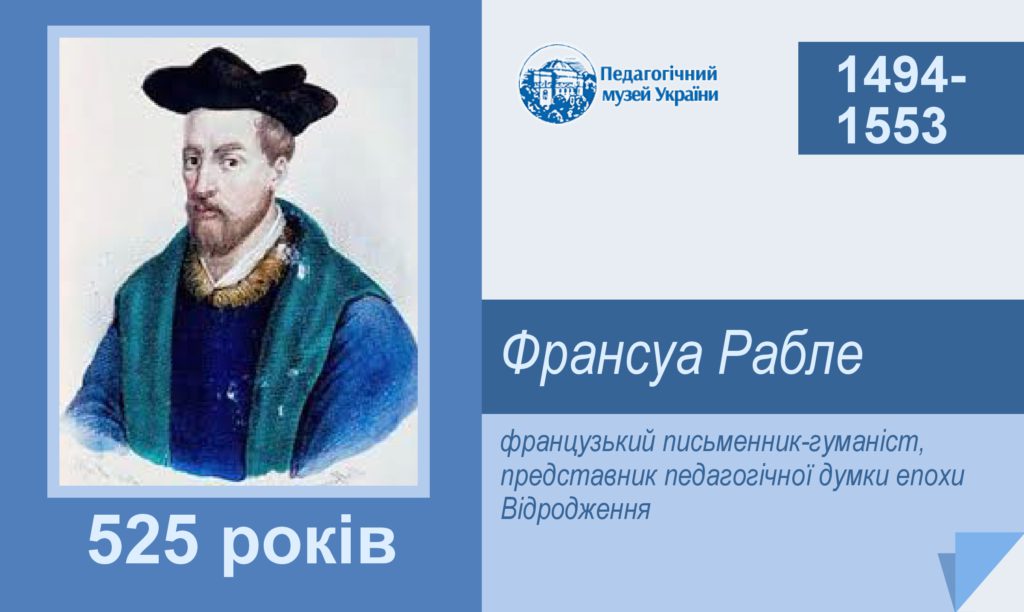 Возможно, именно в этом свете следует рассматривать раблезианских гигантов с их огромными способностями к приему пищи и питья, пищеварению и выделению. Они представляют в комической форме озабоченность эпохи Возрождения человеком во всех его аспектах, физических и интеллектуальных. Физические и телесные силы гигантов соответствуют их огромным интеллектуальным возможностям; у них есть огромные библиотеки, а также огромные обеды.
Возможно, именно в этом свете следует рассматривать раблезианских гигантов с их огромными способностями к приему пищи и питья, пищеварению и выделению. Они представляют в комической форме озабоченность эпохи Возрождения человеком во всех его аспектах, физических и интеллектуальных. Физические и телесные силы гигантов соответствуют их огромным интеллектуальным возможностям; у них есть огромные библиотеки, а также огромные обеды.
Это момент триумфального оптимизма раннего французского Возрождения, которому выражается «радостный» роман Рабле, оптимизм нового евангелиста, оптимистического гнозиса относительно природы вселенной и могущественного положения человека в ней. Философия смеха соответствовала этому моменту и такому настроению. Взгляд Рабле на природу смеха выражен в стихах с префиксом Гаргантюа :
Mieulx est de ris, que de larmes escrire:
Pour ce que rire est le propre de l’homme
, что является цитатой из утверждения Аристотеля о том, что одним из признаков, отличающих человека от животных, является его способность смеяться.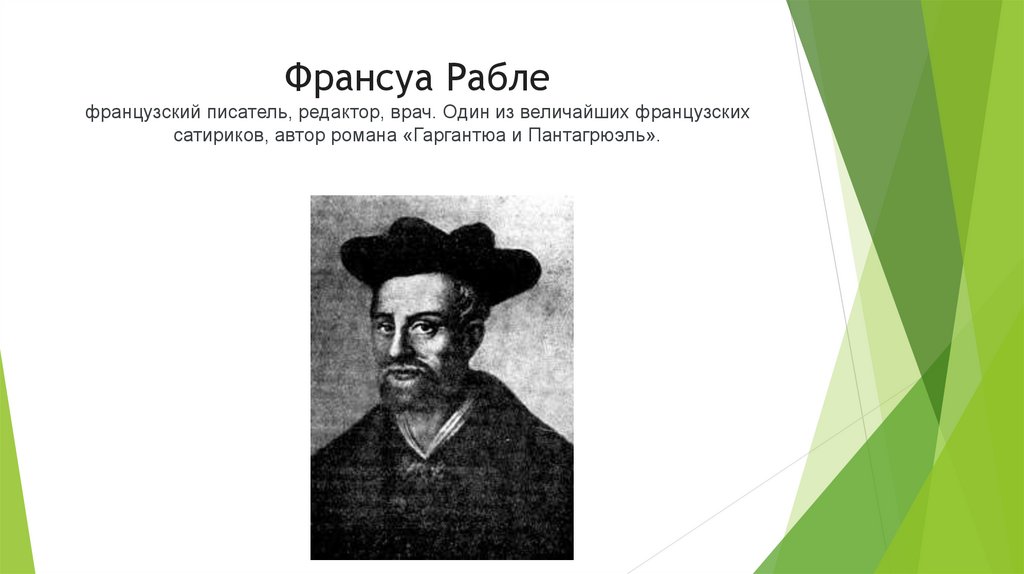
Книга русского критика Михаила Бахтина о Рабле, изданная сейчас в английском переводе, кажется, была написана много лет назад. Во введении говорится, что в начале 1930-х годов автор «трагически исчез с научного горизонта» более чем на два десятилетия, что его книга о Достоевском была переиздана в 1963, а вскоре после этого, в 1965 г., вышла в свет монография о Рабле, написанная в 1940 г. Поэтому следует принять во внимание, что это старая книга и что автор не был в состоянии идти в ногу с прогрессом ренессансных исследований вообще и исследований Рабле в частности за последнюю четверть века. .
Бахтин принадлежит к «формалистической» школе русской критики и известен своим лингвистическим анализом, хотя в изучении Рабле он «больше не ограничивается словесным языком, а исследует и сравнивает различные знаковые системы, такие как словесные, изобразительные и жестовые». ». Эта «наука о знаках» и ее применение к Рабле не абстрагированы, как это выражается Бахтин, от истории и от истолкования значения знаков. Наоборот, Бахтин совершенно определенно подходит к Рабле с исторической точки зрения и на этом основывает интерпретацию того, что он называет своими знаковыми системами. Моя критика касается именно этой исторической и интерпретационной части его творчества.
Наоборот, Бахтин совершенно определенно подходит к Рабле с исторической точки зрения и на этом основывает интерпретацию того, что он называет своими знаковыми системами. Моя критика касается именно этой исторической и интерпретационной части его творчества.
Именно, утверждает он, традиция «праздничного рыночного смеха», проявляющаяся в народных празднествах и карнавалах и продолжающаяся от Средневековья до эпохи Возрождения, вдохновляет Рабле и которую он подхватывает или размышляет. В книге делается попытка истории карнавала и того, что автор называет праздничным смехом или смехом людей на рыночной площади. Это раблезианский смех, по Бахтину, и он господствует во всех его знаковых системах. «Таким образом, искусство Рабле оказывается ориентированным на народную культуру базарной площади Средневековья и Ренессанса». Этот подход не только дает исторический ключ, по Бахтину, к знакам и образам Рабле; это также дает ключ к их значению. Ибо праздничный смех людей на площади касается, по Бахтину, тела и телесных функций, и его смех направлен на обесценивание или унижение всех «высших» или более абстрактных понятий через эту приземленность или телесную концентрацию. . Таким же образом и с таким же смыслом, говорит Бахтин, Рабле использует свои фестивально-базарные телесные знаки и образы — образы еды, питья, мочеиспускания, дефекации, полового акта и т. «все возвышенные или абстрактные понятия во имя натурализма или материализма, восходящие к средневековой и ренессансной смехотворной традиции рынка.
. Таким же образом и с таким же смыслом, говорит Бахтин, Рабле использует свои фестивально-базарные телесные знаки и образы — образы еды, питья, мочеиспускания, дефекации, полового акта и т. «все возвышенные или абстрактные понятия во имя натурализма или материализма, восходящие к средневековой и ренессансной смехотворной традиции рынка.
Эти выводы поддерживаются процессом баудлеризации, упущением или цензурой всех улик против них. Например, аббатство Телем должно быть исключено, потому что
Телема не характерна ни для философии Рабле, ни для его системы образов, ни для его стиля. Хотя в этом эпизоде и присутствует популярный утопический элемент, он фундаментально связан с аристократическими движениями эпохи Возрождения. Это не народно-праздничное настроение, а придворно-гуманистическая утопия… В этом отношении Телем не соответствует образности и стилю Рабле.
И истолкование раблезианских образов «тела» как направленное на обесценивание, унижение, «развенчивание» интеллектуальных, абстрактных или «высших» (Бахтин употребляет это слово) занятий человека должно поддерживаться опусканием всякого обсуждения Учение Рабле или религия.

